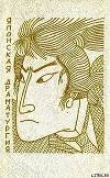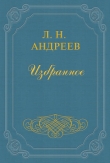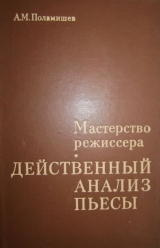
Текст книги "Действенный анализ пьесы"
Автор книги: Александр Поламишев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА IV.
ОСНОВНЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ ФАКТЫ ПЬЕСЫ
Основные конфликтные факты и микроконфликты. Связи микроконфликтов с основными конфликтами. Способ определения основного конфликта
Ученик Станиславского, выдающийся советский режиссер, народный артист СССР А. Д. Попов очень осуждал «привычку актера двигаться в роли от куска к куску, играть от сцены к сцене, от одного акта к другому»[115]115
Попов А. Д. Творческое наследие. М., 1979, с. 391.
[Закрыть]. Помнится, Алексей Дмитриевич любил говорить, что «пьесу надо увидеть с высоты птичьего полета». Он старался научить студентов режиссерского факультета ГИТИСа умению «строить спектакль и роли по основным вехам – основным событиям».
Что такое «основное событие?» Чем оно отличается от других событий?
Вспомним, что для определения первого конфликтного факта мы вынуждены были более или менее подробно (в разных пьесах по-разному) определять для себя всю цепь основных конфликтных фактов пьесы. В «Бесприданнице», например, они были примерно таковыми: 1. Опять полдень воскресного дня. 2. В Бряхимов прибыл Паратов. 3. Карандышев устроил обед в честь Ларисы. 4. Отъезд за Волгу. 5. Смерть Ларисы.
На примере конфликтных фактов начала II действия «Бесприданницы» попробуем разобраться, в чем отличие «крупных конфликтных фактов» от менее значительных фактов.
Напомним, что II действие пьесы начинается с того, что вскоре после встречи на набережной (примерно через час) Кнуров приходит к Огудаловой. Он позволяет себе корить Огудалову за то, что она, выдавая Ларису за Карандышева, обрекает дочь на «бедную полумещанскую жизнь», которую Лариса «не вынесет…». Кнуров дает понять, что если Лариса «догадается поскорее бросить мужа и вернуться» к Огудаловой, то он «для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалеет».
Более того, Кнуров прямо говорит: «Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она сможет разойтись с мужем. Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко, а ведь может быть, что и очень близко».
Заронив, очевидно, в душу Огудаловой тревогу по поводу будущего Ларисы, Кнуров вскоре удалился. Появилась Лариса.
Явление III
Лариса. …Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться.
Очевидно, до прихода Ларисы Огудалова старается разобраться в причинах тревоги, овладевшей ею.
Огудалова. Ну, вот и прекрасно. В какой уезд?
Лариса. В Заболотье!
Заболотье – вот, очевидно, на что намекал Кнуров!
Огудалова. Ай, в лес ведь это. Что ему вздумалось в такую даль?
Лариса. Там кандидатов меньше, наверное, выберут.
Огудалова. Что ж, ничего, и там люди живут.
Лариса. Мне хоть бы в лес, да поскорей отсюда вырваться.
Огудалова. Да оно и хорошо в захолустье пожить, там и твой Карандышев мил покажется; пожалуй, первым человеком в уезде будет; вот помаленьку и привыкнешь к нему.
Далее Огудалова, возможно, проверяет свою версию… А может быть, и не проверяет, а откровенно пытается отговорить Ларису, пытается отвратить то мрачное будущее, которое нарисовал Кнуров…
Лариса. Да он и здесь хорош, я в нем ничего не замечаю дурного.
Огудалова. Ну, что уж! такие ль хорошие-то бывают!
Лариса. Конечно, есть и лучше, я сама это очень хорошо знаю.
Огудалова. Есть да не про нашу честь.
Лариса. Теперь для меня и этот хорош, да что толковать, дело решенное.
Огудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава богу. Осуждать его перед тобой я не стану, а и претворяться-то нам друг перед другом нечего – ты сама не слепая.
Если это так, то нападки Огудаловой на Карандышева не есть следствие ее гипертрофированной меркантильности (как часто играют Огудалову), а пожалуй, естественное выражение тревоги матери. В таком случае Огудалова более наивна, чем хитра, ибо так быстро поверила Кнурову и так близко приняла все к сердцу…
Лариса. Я ослепла, я все чувства потеряла. Давно уже точно во сне вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитоновичу. Скоро и лето пройдет, я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы…
Огудалова. Вот для чего ты корзиночку-то приготовила!! Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи, вот и будешь пастушкой.
Лариса. И шляпу заведу (запевает). Не искушай меня без нужды… Там спокойствие, тишина.
Огудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет, ветер-то загудит в окне.
Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душой отдохну.
Огудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой! Только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать, а то, как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.
Во всяком случае, при любой трактовке конфликтным фактом в этой сцене является «отъезд в Заболотье!».
Этот факт диктует поведение обеих женщин.
Лариса. Благодарю тебя… Но пусть там и дико, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем…
Далее Лариса зовет через окно цыгана Илью. Она просит его помочь настроить ей гитару.
Явление IV
(Приводим эту сцену с большими сокращениями.)
Илья. С праздником! Дай бог здорово, да счастливо!
Как мы уже говорили выше, Илья знает, что в город приехал Паратов – барин, щедрый кутила, большой любитель цыган.
Лариса. Илья, наладь мне: «Не искушай меня без нужды!» Все сбиваюсь. (Подает гитару.)
Илья. Сейчас, барышня. (Берет гитару и настраивает.) Хороша песня. Она в три голоса хороша. Тенор надо: второе колено делает… Больно хороша. А у нас беда, ах, беда!
С минуты на минуту цыганский хор во главе с Ильей может понадобиться барину. Совершенно очевидно, что именно этого с нетерпением и ожидает Илья. Поэтому он, не успев войти, тотчас же сообщает о своих заботах, из-за которых ему придется покинуть дом Огудаловых. Похоже, что Илья, как бы предвосхищая возможные события, заранее извиняется за то, что не сможет много времени уделить Ларисе.
Огудалова. Какая беда?
Илья. Антон у нас есть, тенором поет… Пополам перегнуло набок, совсем углом… Ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит… …Ах, беда, ах, беда! Теперь сто рублей человек стоит, вот какое дело у нас; такого барина ждем. А Антона набок свело…
Голос в окно. Илья, поди сюда, поди скорей!
Илья. Зачем? Что тебе?
Голос с улицы. Иди, барин приехал!
Илья. Обманываешь!
Голос с улицы. Верно, приехал!
Илья. Некогда, барышня, барин приехал. (Кладет гитару и берет фуражку.)
Все так и случилось, как предвидел Илья.
Огудалова. Какой барин?
Илья. Такой барин, ждем не дождемся: год ждали, вот какой барин! (Уходит.)
Явление IV
Огудалова. Кто же бы это приехал? Должно быть, богатый и, вероятно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно, уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?
Изменило ли линию поведения Огудаловой и Ларисы сообщение Ильи о приезде важного барина? Конечно, и очень резко. Огудалова почти готова отказаться от брака Ларисы с Карандышевым. Упорное сопротивление Ларисы можно понимать по-разному: то ли ей опостылел Бряхимов со всей его фальшью и ложью, то ли сообщение Ильи настроило ее на мысль о возможном приезде Паратова (а может быть, и то, и другое вместе…).
Лариса. Ах, мама, мало, что ли, я страдала? Нет, довольно унижаться.
Огудалова. Экое страшное слово сказала: «унижаться!» Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться смолоду, чтоб потом пожить по-человечески.
Лариса. Нет, не могу; тяжело, невыносимо тяжело.
Огудалова. А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь и останешься ничем.
Лариса. Опять притворяться, опять лгать!
Огудалова. И притворяйся, и лги! Счастье не пойдет за тобою, если ты от него бегаешь.
(Входит Карандышев.)
Огудалова почти уже настаивает на отказе от брака с Карандышевым.
Как развиваются события дальше, мы уже разбирали.
Итак, заметим, что после появления нового факта – «приезда богатого барина» – конфликт между Огудаловой и Ларисой изменился. Если до этого причиной конфликта был факт «отъезда в Заболотье», то теперь конфликтный факт – «приезд барина».
Какой же из этих двух конфликтных фактов является «основной вехой», по которой надо строить и роли, и действие?
В отборе основных конфликтов должен быть принцип следующий: необходимо каждый раз проверять, что является причиной, а что следствием.
В самом начале II действия и Лариса, и Огудалова жили одним общим фактом – предстоящим вскоре обедом у Карандышева. Таинственное предостережение Кнурова насторожило Огудалову в отношении будущей судьбы Ларисы. Новый факт – «предстоящий отъезд в Заболотье» – выявил конфликт Огудаловой и Ларисы. Но если бы Кнуров предварительно не встревожил Огудалову, то факт отъезда в Заболотье, очевидно, не был бы конфликтным, ведь о возможном отъезде после свадьбы Ларисы с Карандышевым говорится в доме давно и это очевидно, не было прежде поводом для конфликтов. Следовательно, сообщение Кнурова подготовило почву для конфликта. Но уверенность Кнурова в том, что Лариса вскоре «может разойтись с мужем», является в свою очередь следствием факта «приезда в город Паратова». Ведь именно вследствие этого факта Кнуров заторопился предупредить Огудалову о возможной ситуации. Стало быть, если бы не «приезд в город Паратова», то факт «отъезда в Заболотье» не стал бы предметом конфликта.
Таким образом, между первым крупным конфликтным фактом – «опять полдень бряхимовского воскресного дня!» и фактом «приезда в Бряхимов барина Паратова» нет других крупных конфликтных фактов. Появляющиеся факты становятся конфликтными благодаря этим основным конфликтным фактам.
Действительно, несмотря на то что ни Огудалова, ни Лариса до сообщения Карандышева не знают о приезде Паратова, тем не менее все факты, вокруг которых у них возникают конфликты, являются следствием «приезда Паратова». Мы понимаем, что Кнуров, узнав о приезде Паратова, намекает Огудаловой на могущие возникнуть неожиданности. Из-за этих намеков возник конфликт между Огудаловой и Ларисой по поводу отъезда в Заболотье. Далее из-за сообщения Ильи о «приезде барина» возникает просто уж бурнейшая сцена, в центре которой все тот же конфликт.
При появлении Карандышева все тот же конфликт развивается, нарастает до следующего крупного конфликтного факта, который изменит направление действия.
Итак, очевидно, крупными «основными конфликтными фактами» пьесы следует считать те факты, которые являются причиной конфликтных фактов, следующих за ними.
Проверяя суть фактов, появляющихся после «приезда Паратова», мы вынуждены будем отметить, что конфликтность они обретают только благодаря «приезду Паратова». И только факт – «обед у Карандышева в честь Ларисы!» – не является следствием «приезда Паратова» – это новый «основной конфликтный факт». А последующие затем конфликтные факты являются следствием нового «основного факта» («обед у Карандышева»).
ГЛАВА V.
ГЛАВНЫЙ КОНФЛИКТ ПЬЕСЫ
Идея пьесы и главный конфликт. Главный конфликт и последний конфликтный факт пьесы. «Жизнь человеческого духа роли и пьесы» и последний конфликтный факт
Вскрыв всю цепь конфликтных фактов «Бесприданницы», мы увидели, что идейный смысл пьесы выявляется в конфликте между человечностью и «бряхимовскими законами жизни» – законами, исключающими человечность.
Вспомним, что первый конфликтный факт направил наше внимание на начало борьбы между «человечностью» и «бряхимовщиной». В ходе этой борьбы то одно начало побеждало в людях, то другое.
Если полагать, что способность к добру, к бескорыстной любви, к творчеству, пробуждающему в людях чувство прекрасного, есть выражение «человечности», то, очевидно, поступки Ларисы являлись для нас наиболее полным олицетворением человечности.
Но мы увидели, как эта «человечность» была в конце концов не только вытеснена в Ларисе бряхимовским цинизмом («…Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты»), но и сама Лариса была физически уничтожена. Убийство Ларисы – это логически завершающее проявление наивысшей формы «бряхимовской» античеловечности!
Следовательно, главный конфликт пьесы – конфликт между человечностью и всем тем, что мы назвали «бряхимовщиной», – закончился победой «Бряхимова».
Подумаем теперь: если бы не свершился последний конфликтный факт пьесы – «гибель Ларисы!», был бы нам, ясен до конца смысл того, что хотел сказать этой пьесой Островский? Могли бы мы вместе с Островским сказать: «Бряхимовщина» – это страшная сила! Она уничтожает и все лучшее, что есть в людях, и самых лучших из людей»? Можно ли было сделать такой вывод, пока Лариса еще не попросила Карандышева прислать к ней Кнурова (нравственная гибель Ларисы!) и пока Карандышев не убил Ларису (физическая гибель Ларисы, и полная нравственная гибель Карандышева)? Ответ может быть, очевидно, только отрицательным.
Конечно, идея автора открылась нам не вдруг: на протяжении всего действия пьесы мы чувствовали, как в нас постоянно нарастает протест против всего «бряхимовского». Но, безусловно, гибель Ларисы в самом конце пьесы заставила нас почувствовать не только всю боль за ее судьбу, но и возненавидеть все, что неизбежно привело Ларису к гибели.
Следовательно, идея пьесы наиболее полно открылась нам после того, как главный конфликт пьесы выявился в таком факте, который наиболее ярко, наглядно выразил глубинную суть этого конфликта. Нам представляется эта закономерность чрезвычайно важной. Действительно, если не считаться с этим положением, то можно решить, что самый важный момент – это убийство Ларисы. Но ведь до того, как произошел роковой выстрел, автор дал зрителям еще и сцену, в которой Кнуров сделал предложение Ларисе пойти к нему на содержание. И Лариса решилась принять предложение Кнурова! Следовательно, для раскрытия идеи эти сцены были необходимы Островскому! Смерть настигает Ларису только после ее нравственной гибели, и, наверное, не случайно Островский пишет эту сцену так, что для Ларисы не смерть ужасна, скорее наоборот, эта смерть – избавление от пути нравственного падения, разложения, позора на который Лариса уже готова была встать.
Лариса (со слезами). Уж если быть вещью, так одно утешение – быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: подите, пошлите ко мне Кнурова.
Как цинично действовать заставляет Островский Ларису!
Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!
Лариса. Ну, так я сама пойду.
Карандышев. Лариса Дмитриевна! Опомнитесь! Я вас прощаю… …Я вас умоляю, осчастливьте меня!
Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты.
Похоже, что она даже наслаждается своим будущим падением… Лариса как бы начинает путь, по которому давно идут многие «бряхимовцы».
.............
Карандышев. Я вас люблю, люблю.
Лариса. Лжете! Я любви искала и не нашла… так буду искать золота…
Карандышев. Так не доставайся же ты никому! (Стреляет в нее из пистолета.)
Лариса (хватаясь за грудь). Ах! Благодарю вас! (Опускается на стул.)
Поразительно: у Ларисы первая же оценка случившегося – положительная оценка!
Да, действительно, эта смерть – избавление от грядущего позора, падения!.. Иначе вряд ли бы Лариса с такой нежной благодарностью обращалась бы к Карандышеву.
Карандышев. Что я, что я… ах, безумный! (роняет пистолет.)
Лариса (нежно). Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама… Сама. Ах, какое благодеяние…
Следовательно, этот конфликтный факт нужен Островскому, чтобы раскрыть, с одной стороны, глубину падения Ларисы, а с другой – глубину падения Карандышева.
Следовательно, полное нравственное падение героев, выступивших в начале пьесы как чуть ли не само олицетворение человеческого достоинства, очень важно было для Островского, только таким путем автору удалось наиболее полно выразить свою идею.
Подчеркнем еще раз: если не понимать важность закономерности выявления главного конфликта в конфликтном факте, наиболее полно его выражающем, то можно неверно оценить факт убийства, т.е. оценить его только как факт проявления ревности в мелодраматической истории несчастной любви Ларисы.
Заметим теперь, что конфликтный факт, выражающий наиболее полно суть главного конфликта пьесы и ее идею, происходит у Островского в самом конце действия пьесы.
А. Н. Островский, не только прекрасно чувствовавший природу театра, но и много размышлявший о законах сценического искусства, сообщал Н. И. Музилю: «По актам я не могу посылать пьесу (речь идет о «Бесприданнице». – А. П.), потому что пишу не по актам: у меня ни один акт не готов, пока не написано последнее слово последнего акта»[116]116
Островский А. Н., т. XV, с. 122.
[Закрыть].
А. П. Чехов был убежден, что «повесть, как и сцена, имеет свои условия. Так, мне мое чутье говорит, что в финале повести или рассказа я должен искусственно сконцентрировать в читателе впечатление от всей повести»[117]117
Чехов А. П. Полн. собр. соч. М., 1944-1951, т. XVI, с. 407. Все дальнейшие ссылки будут даны на это издание.
[Закрыть]. И еще одно признание Чехова: «Есть у меня интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьесы, тот откроет новую эру… Не стану писать ее (пьесу), пока не придумаю конца, такого же заковыристого, как начало. А придумаю конец – напишу ее в две недели»[118]118
Чехов А. П., т. XIV, с 388.
[Закрыть].
Интересно, каков же финал пьесы «Дядя Ваня», удалось ли Чехову открыть «новую эру» или он в чем-то все же традиционен?
Вспомним, что последнее, четвертое действие начинается с того, что все ожидают подачи лошадей – Серебряковы уезжают в Харьков.
Астров тоже собирается уезжать, но предварительно ему необходимо, чтобы Войницкий вернул баночку с морфием.
Войницкий. Оставь меня!
Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.
Совершенно очевидно, что для обоих конфликтным фактом остается выстрел Войницкого в Серебрякова!
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Войницкий явно спущен всем, что произошло, но пытается прикрыто это бравадой…
.............
(Пауза.)
Разыграть такого дурака: стрелять два раза и не попасть! Этого я себе никогда не прощу!
Астров. Пришла охота стрелять, ну, и палил бы в лоб самому себе.
В то, что морфий ему нужен для того, чтобы отравиться, Астров, очевидно, не верит, иначе он не позволил бы себе шутить…
Войницкий (закрывает лицо руками). Стыдно! Если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. (С тоской.) Невыносимо! (Склоняется к столу.) Что мне делать? Что делать?
Войницкому, возможно, хочется, чтобы его пожалели…
Астров. Ничего.
Астров, очевидно, понимает, что происходит с Войницким, но ему претит столь немужественное поведение дяди Вани. А вообще вся эта шумиха с выстрелом, наверное, представляется ему пошлейшей мелодрамой. Может быть, устами Астрова Чехов пытается здесь, в конце пьесы, «искусственно сконцентрировать в читателе (или в зрителе. – А. П.) впечатление от всей повести» – повести о человеческой пошлости?
Войницкий. Дай мне что-нибудь! О боже мой… (Плачет.)… Дай мне чего-нибудь… (Показывает на сердце.) Жжет здесь.
Астров (кричит сердито). Перестань!.. Да, брат, во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет обывательская жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все.
(Живо.) Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Ты взял у меня из дорожной аптечки баночку с морфием.
(Пауза)
Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собою, то ступай в лес и застрелись там! Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал… С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя… Ты думаешь, это интересно?
(Входит Соня.)
Войницкий. Оставь меня!
Да, Астрову явно не по душе поведение Войницкого. Очевидно, только воспитанность Астрова не позволяет ему сказать откровенно все, что он думает.
Соня вместе с Астровым еще некоторое время уговаривают Войницкого вернуть морфий. Наконец…
Войницкий (достает из стола баночку и подает ее Астрову). На, возьми. (Соне) Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь. А то не могу… не могу…
Не правда ли, довольно резкая перемена желаний. Еще несколько минут назад Войницкий не видел выхода из создавшегося положения.
Затем все прощаются. Войницкий и Серебряков извиняются друг перед другом за все случившееся…
Астров прощается с Еленой Андреевной. Серебряковы уезжают. Соня и дядя Ваня садятся «работать» – писать счета…
Работник. Михаил Львович, лошади поданы.
Опять, как в начале 1 действия, за Астровым прислали лошадей; опять Соня спрашивает Астрова, когда он приедет; опять нянька поит Астрова водкой.
Астров. Слышал…
Соня. Когда же мы увидимся?
Астров. Не раньше лета, должно быть. Зимой едва ли… Само собой, если случится что, то дайте знать – приеду. (Пожимает руки.) Спасибо за хлеб, за соль, за ласку… одним словом, за все.
(Идет к няне и целует ее в голову.)
Прощай, старая.
Марина. Так и уедешь без чаю?
Астров. Не хочу, нянька. Марина. Может, водочки выпьешь?
Астров (нерешительно). Пожалуй… (Астров выпивает водки, прощается со всеми и идет к выходу.)
Вспомним, что в 1-м действии Войницкий обвинял Серебряковых в том, что их приезд нарушил ритм, и порядок его и Сониной работы… Теперь они оба вернулись к своей прежней работе…
Войницкий (пишет). «2-го февраля масла постного 20 фунтов… 16 февраля опять масла постного 20 фунтов… Гречневой крупы…»
(Пауза.)
Марина. Уехал.
(Пауза.)
Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал…
Войницкий (сосчитал на счетах и записывает). Итого… пятнадцать… двадцать пять…
(Соня садится и пишет.)
Марина (зевает). Ох, грехи наши…
(Телегин входит на цыпочках, садится и тихо настраивает гитару.)
Войницкий (Соне, проводя рукой по ее волосам). Дитя мое, как мне тяжело!
Но эта работа, очевидно, не приносит радости и спасения.
Соня. Что же делать, надо жить!
.............
Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других… Когда наступит наш час, мы покорно умрем, и бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную… Я верую, дядя, я верую горячо, страстно… Мы отдохнем!
(Телегин тихо играет на гитаре.)
Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь…
Ты не знал в жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди…
Мы отдохнем… (Обнимает его.)
Мы отдохнем!..
(Стучит сторож, Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок.)
Мы отдохнем!
(Занавес медленно опускается.)
А спасенье ли для них в Христианской вере, что «аз воздастся»?..
Если Соня действительно верит, а не уговаривает себя и дядю Ваню, то зачем же так много говорить о том, что является для нее истиной? Да и Войницкого это утешение, как видно, не очень успокаивает… Как же Телегин может играть во время такого диалога? Не только присутствовать, но даже играть на гитаре?
А Марии Васильевне тоже безразлично, что происходит с Войницким и Соней. И почему добрая няня тоже безразлична к страданию близких людей?
Напрашивается единственный ответ: и слезы дяди Вани, и утешения Сони – это сцена не неожиданная для всех обитателей дома – такое много раз бывало, очевидно, и до приезда Серебряковых и, наверное, будет много раз и после их отъезда.
Возможно, по этой же причине Астров столь иронично относится и к похищению морфия, и ко всем стонам и жалобам Войницкого – все это, по мнению Астрова, проявление «жизни обывательской», «жизни презренной».
Очевидно, если бы Войницкий действительно твердо решил, что ему незачем далее жить на этом свете, то он бы нашел средство, чтобы покончить с собою. И если уж пришлось вернуть похищенный морфий, то (при твердом намерении самоубийства) незачем было продолжать жаловаться на свою судьбу. Складывается впечатление, что и похищение морфия, и его возвращение, и жалобы на то, что ему «очень стыдно», – все это направлено к одной цели: Войницкому очень хочется, чтобы его пожалели. Он этого и добивается в конце пьесы: Войницкий откровенно плачет, а Соня его утешает…
Итак, какую историю можно рассказать, основываясь на всех конфликтных фактах пьесы?
«Обывательщина» и «пошлость» спокойно дремали в усадьбе. Приехали Серебряковы, и Войницкому показалось, что для него может начаться какая-то иная жизнь. Но последняя надежда на «иную жизнь» лопнула как мыльный пузырь. Войницкий, очевидно, хотел красиво уйти из жизни, чтоб его помнили, – застрелиться. Но и этого у него не получилось, желая за все отомстить, он пытался убить Серебрякова, и это не получилось. Хотел хотя бы отравиться, но и это не получилось. И все в усадьбе вернулось «на круги своя» – «обывательская, пошлая жизнь» потекла далее.
«У Чехова не лирика, а трагизм. Когда человек стреляется, это не лирика. Это или пошлость, или подвиг. Ни пошлость, ни подвиг никогда не были лирикой. И у пошлости, и подвига свои трагические маски.
А вот лирика бывала пошлостью»[119]119
Вахтангов Евг. Записки. Письма. Статьи. М.—Л., 1939, с. 232.
[Закрыть], – записал Е. Вахтангов в своем дневнике.
Очевидно, наше предположение, что этой пьесой автор протестует против пошлости человеческого существования, против «свинцово мерзких условий» жизни, не противоречит всему творчеству Чехова.
Отношение Чехова к последним заклинаниям Сони точно передано в ремарке, описывающей поведение остальных обитателей усадьбы. И не столь уж спорным может быть предположение, что все участники этой истории, по мысли Чехова, обыватели и пошляки. И Астров, понимающий, что он тоже «пошляк и обыватель», ничего по существу не может, да и не хочет изменить в своей жизни.
Следовательно, конфликт между «человеческим достоинством» и «пошлостью» закончился в пьесе победой «пошлости».
Подумаем теперь: мог ли нам полностью открыться смысл пьесы Чехова, если бы не произошли последние конфликтные факты пьесы?
Последний факт – «Уехал Астров». Дядя Ваня дал, наконец, волю своим слезам, а Соня начала жалеть и его, и себя – утешать христианскими постулатами веры. Всем остальным обитателям это безразлично, каждый занят собой.
Для того чтобы протест против пошлости был особенно ощутим, Чехов, как видим, пошел не только на подтрунивание, на открытую иронию по поводу широко используемых приспособлений христианской веры к нуждам обывательщины.
Следовательно, и в пьесе Чехова главный конфликт пьесы нашел свое наиболее полное выявление в последнем конфликтном факте.
А в пушкинском «Борисе Годунове»? Выявлен ли был полностью главный конфликт пьесы – конфликт между народом и властью, пока не произошло убийство Феодора Годунова, провозглашение Дмитрия царем и неприятие его народом? Мысль Пушкина о том, что только та власть истинна, которая опирается на свой народ, – эта мысль полностью раскрывается тогда, когда мы видим, что «народ безмолвствует».
Романтическая вера Маяковского в то, что в коммунистическом будущем все-таки не будет места Победоносиковым и Мезальянсовым, – эта вера раскрывается наиболее полно благодаря последнему факту: Победоносиков и компания выбрасываются из «машины времени»!
Можно сделать вывод: главный конфликт во всех разбираемых нами пьесах начал проявляться с первого же конфликтного факта, но наиболее полно он раскрывается (так же как и идея пьесы!) в результате свершения последнего конфликтного факта. Между первым конфликтным фактом и последним развивалась вся идея пьесы не в «виде сентенции», а в действиях «живых образов». Между первым и последним конфликтным фактом проявилось все богатство пьесы: атмосфера, характеры, лексика, разнообразие предлагаемых обстоятельств, характер построения сюжета – словом, все стилистические особенности пьесы.
Любопытно, что Аристотель, по сути, видел тоже только два основных смысловых и структурных узла пьесы: «В каждой трагедии есть две части: завязка и развязка; первая обыкновенно обнимает события, находящиеся вне (драмы), и некоторые из тех, которые лежат в ней самой, а вторая – остальное»[120]120
Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 76.
[Закрыть]. И очевидно, что конечным пунктом «остального» должен быть последний конфликтный факт пьесы.
Вернемся к мысли Островского о том, что «дело поэта… в том, чтобы происшествие… объяснить законами жизни». Совершенно очевидно, что «происшествие», интересовавшее Островского в «Бесприданнице», – это «гибель Ларисы!» (гибель и нравственная и физическая), вся же остальная пьеса написана только для того, чтобы «объяснить» зрителю неизбежность, закономерность («законы жизни»!) этого происшествия. Поэтому, очевидно, «гибель Ларисы!» – это именно тот факт, через который наиболее полно раскрывается главный конфликт пьесы. Без этого конфликтного факта не могла бы состояться пьеса «Бесприданница».
Попробуем сопоставить значимость происходящих в пьесе конфликтных фактов и на этой основе ответить на вопрос: в каком же конфликтном факте проявляется наиболее полно смысл пьесы, где этот факт структурно расположен?
К. С. Станиславский писал: «Существуют пьесы (плохие комедии, мелодрамы, водевили, ревю, фарсы), в которых сама внешняя фабула является главным активом спектакля…
…Но в других произведениях нередко сама фабула и ее факты не представляют значения. Они не могут создать ведущей линии спектакля, за которой с замиранием следит зритель… В таких пьесах факты нужны, поскольку они дают повод и место для наполнения их внутренним содержанием. Таковы, например, пьесы Чехова.
Лучше всего, когда форма и содержание находятся в прямом соответствии. В таких произведениях жизнь человеческого духа роли неотделима от факта…
В большинстве пьес Шекспира существует полное соответствие и взаимодействие внешней, фактической и внутренней линии»[121]121
Станиславский К. С., т. 4, с. 247.
[Закрыть].
Но, может быть, не только у Шекспира форма и содержание находятся в прямом соответствии с «жизнью человеческого духа роли»? Ведь идея любого произведения искусства – категория не столько умозрительная, сколько эмоциональная. Зрителями театрального представления эта идея должна восприниматься через потрясение (разумеется, в идеале!), через то, что Аристотель определял понятием «катарсиса» – трагического очищения. Но нам думается, что прав Сахновский-Панкеев, полагающий, что «понятие катарсиса Аристотеля… трактованное широко, оно должно быть распространено и на все другие жанры драматургии»[122]122
Сахновский-Панкеев В. Драма. Л., 1969, с. 116.
[Закрыть]. Но если нравственная цель любой пьесы будет достигнута раньше завершения ее действия, то вместе с этим будет исчерпан и смысл всего сюжета. Иными словами, если бы суть главного конфликта пьесы полностью раскрывалась где-то в середине пьесы, то «жизнь человеческого духа» всей пьесы была бы исчерпана в ее середине; и уже к середине пьесы была бы достигнута и ее нравственная цель. Вот почему, очевидно, Аристотель настаивал на том, что катарсис является результатом, итогом действия всей пьесы.