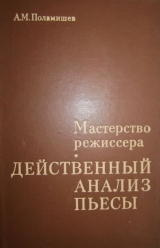
Текст книги "Действенный анализ пьесы"
Автор книги: Александр Поламишев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Метод действенного анализа препятствует такому вольному или невольному ограничению творческих возможностей исполнителя. Этот метод, заставляя актера каждый раз при работе над новой ролью начинать как бы с нуля, т.е. действовать исходя из своих личных побуждений, тем самым сводит до минимума возможность подмены подлинного органического действия его изображением, т.е. штампом.
Конечно, никакая человеческая и актерская индивидуальность не может быть беспредельной. Но метод действенного анализа чрезвычайно расширяет возможности актера, ибо каждый раз в новых предлагаемых автором (и режиссером) обстоятельствах (стиль, жанр – это тоже обстоятельства) он требует от актера обнаружения, выявления в себе новых возможностей.
Поэтому распределение ролей для режиссера, работающего по новой методике, – дело очень не простое. С одной стороны, он должен рассчитывать при выборе актера не только на его уже известные возможности, но и на скрытые, которые порой трудно угадать. Но, с другой стороны, новая методика имеет и свои преимущества.
Досконально разобрав заранее пьесу, т.е. всю цепь ее конфликтов, познав ее идею, основную сущность каждого образа, общую атмосферу, режиссеру легче правильно распределить роли, ибо он будет распределять их в соответствии с основными требованиями к ролям – требованиями авторскими и собственными, режиссерскими. В этом смысле новая методика заслуженно вознаграждает режиссера за его предварительный упорный и целенаправленный труд.
У актеров, работающих этим методом, воспитывается прекрасное качество – постоянная готовность к импровизации. Поэтому эти актеры отличаются жизненной достоверностью своего сценического поведения. Их сценическое общение в каждом представлении всегда несколько отличается от общения в предыдущем представлении.
Но у всякого явления есть и «обратная сторона медали». К сожалению, в театрах, стремящихся работать в русле новой методики Станиславского, можно встретиться с поверхностным пониманием «органики» и «общения». Бывает, что актеры прекрасно и органично общаются в каком-нибудь куске уже готового и играемого на зрителе спектакля, причем в ходе общения возникает масса интересных приспособлений, зритель очень оживленно принимает эту сцену, а… режиссер потом чуть ли не в бешенстве выражает актерам свое возмущение по поводу того, что они забыли и о художественном смысле своих ролей, и об идее всего спектакля…
В пьесе польской писательницы Г. Запольской «Их четверо» действие происходит в начале века в одном из маленьких городов. События разворачиваются в семье учителя. Сам учитель – неудавшийся ученый, полагающий, что если бы он был женат не на столь глупой и примитивной женщине, то его ученая карьера была бы совсем иной. Причем муж постоянно это высказывает жене. Жена же убеждена, что если бы она не вышла замуж за этого неудачника, то она была бы первой дамой Европы. Для утверждения себя она завела «любовника». Муж начинает следить за женой, и однажды, когда жена была в гостях у «любовника» (именно в «гостях», так как отношения этих «любовников» не идут далее высокопарных слов), именно в этот момент муж нагрянул к «любовнику». Жена успевает спрятаться. Муж не находит ее, но от напряжения и из-за того, что у него больное сердце, он теряет сознание. Жена бросается его спасать: вливает лекарство в рот, растирает ему грудь, делает искусственное дыхание. Наконец, муж открывает глаза.
Он рад, что остался жив, что видит жену. Но тут же вспоминает, что они находятся в квартире «любовника»! Убежденный в измене жены, он заявляет о разводе… Пьеса кончается тем, что жена, по сути любящая своего мужа, вынуждена уехать бог весть куда с человеком, который ей глубоко противен. Муж же, любящий ее и глубоко страдающий, остается в осиротелом доме, где очень похоже, что его скоро приберет к рукам приходящая в дом работница-швея.
Режиссер и коллектив Московского драматического театра на Малой Бронной хотели постановкой этой пьесы рассказать о людях, стремящихся к мнимым вершинам и теряющих при этом подлинные ценности. Мы увидели в пьесе сцену, позволяющую именно так трактовать смысл всей пьесы.
Жене, для того чтобы понять, как ей дорог муж, потребовалось поверить, что он умирает. Мужу также пришлось почувствовать себя уже почти в могиле, прежде чем он понял, как дорога ему в этой жизни презираемая им до той поры жена. Поэтому сцена, когда жена спасает мужа от смерти, должна была стать важнейшей по смыслу в нашем спектакле. Все действие, происходящее до этой сцены, подчинено одной художественной задаче – разоблачению вздорности героев пьесы; действие же, начинающееся после этой сцены, подчинено совершенно иной художественной задаче – доказательству, что эти люди любят друг друга.
Если до этой сцены зрительный зал не должен был сочувствовать героям, а, наоборот, – смеяться над их вздорностью и ограниченностью, то вторая половина спектакля должна была вызвать, по нашему замыслу, чувство жалости к этим людям и досады, что ничего уже нельзя поправить.
Актриса, играющая роль жены, блестяще, с юмором репетировала первую половину роли. Ее героиня, которой казалось, что она ненавидит мужа, всячески старалась ему досадить, издевалась над ним. Муж платил ей той же монетой. Когда же мы подошли к репетициям сцены обморока мужа, то актерам было чрезвычайно трудно перейти от предыдущих действий к совсем иным. Действительно, оценить в одно мгновение, что человек, который казался тебе не только ненужным, но и ненавистным, оценить, что он оказывается единственно необходимым и горячо любимым, – эта задача, конечно, не из легких… По пьесе жена просит присутствующего в этой сцене «любовника» помочь поднять мужа и уложить его на кушетку. «Это же мой муж!» – восклицает она. Всеми последующими действиями, направленными на спасение мужа, также руководит жена. Очень долго на репетициях актриса и в этой сцене как бы по инерции продолжала предыдущую линию поведения. Она не верила, что мужу грозит серьезная опасность. Все действия, направленные на спасение мужа, она делала нехотя, как бы из чувства приличия. Фразу: «Это мой муж!» – исполнительница произносила с подтекстом: «Это все-таки мой муж…»
Общение между женой и «любовником» в данной сцене наполнялось множеством комических приспособлений… Присутствующие на репетициях актеры весело смеялись. Всем очень нравилась эта потешная игра – всем… кроме режиссера. Потребовалось очень много усилий, прежде чем исполнители начали пробиваться к требующимся здесь по художественному смыслу действиям. В результате мы добились в этой сцене того, что общение между женой и «любовником» диктовалось ужасом, охватившим жену. Сцена шла в напряженном драматическом ритме. Жена, как врач при хирургической операции, бросала команды «любовнику», который тотчас же их исполнял. И когда муж, наконец, открывал глаза, жена с криком бросалась ему на грудь, обливаясь слезами, целовала его лицо, руки, волосы… Муж также, растерянный и счастливый, бормотал: «Это ты?.. Ты!.. Ты!..»
Прошла премьера, начались рядовые спектакли. Зритель чрезвычайно весело принимал первую половину спектакля. Каждый раз, когда спектакль подходил к этой ключевой сцене, актерам приходилось употреблять немало волевых усилий, чтобы отказаться от желания «иметь успех» и заставить зрителей перестраиваться на серьезный лад.
Но наступил, наконец, такой вечер, когда исполнители ролей жены и «любовника» так «весело» приводили в сознание мужа, что их общение стало походить на соревнование в каскадах и клоунских трюках. Причем, надо сказать, это не было фальшивым наигрышем, нет, делали они это не только изобретательно, но и искренне, не теряя при этом чувства правды. Весь вопрос состоял только в одном – в отношении к факту: «Муж лежит без сознания на полу!»
Пришлось проводить с исполнителями не только беседы, но и снова возвращаться к репетициям, чтобы вернуть спектаклю правду действенных событий, вернуть ту идейно-художественную направленность, ради которой он был поставлен.
«Идея!», «Художественность!»…
Приведенный пример довольно наглядно показывает, как эти важнейшие, решающие качества спектакля выявляются в конечном счете прежде всего через игру актеров.
Станиславский, долгие годы искавший методику анализа, объединяющую в себе возможности проникновения в автора и открывающую при этом режиссерское и актерские дарования, пришел в конце жизни к цели своих исканий.
Думается, что у Г. А. Товстоногова есть основания полагать, что именно в последние годы жизни Станиславским «были развиты основы высшей правды о природе театрального искусства».
ГЛАВА VIII.
РОЖДЕНИЕ МИЗАНСЦЕНЫ
Искусство мизансцены в практике режиссеров разных «школ». Заданная мизансцена и импровизационное творчество актера. Закономерности рождения мизансцены при работе новой методикой Станиславского. Два основных этапа работы над мизансценой. Проблема режиссерского «показа» мизансцены
Известный советский режиссер и педагог Б. Е. Захава подчеркивал: «Мизансцена – одно из важнейших средств образного выражения режиссерской мысли и один из важнейших элементов в создании спектакля… Умение создавать яркие, выразительные мизансцены является одним из важнейших признаков профессиональной квалификации режиссера»[149]149
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1969, с. 265.
[Закрыть]. Далее, вспоминая о том, как готовились к репетициям такие великие режиссеры, как Станиславский, Немирович-Данченко, Вахтангов, он отмечал, что их режиссерские экземпляры пьес были исчерчены проектами будущих мизансцен (вплоть до положения поз и рук). Правда, со временем, «в период своей творческой зрелости, эти выдающиеся режиссеры обычно отказывались от предварительной разработки мизансцен, предпочитая импровизировать их в процессе творческого взаимодействия с актерами непосредственно на самих репетициях… Предварительная разработка мизансцен в виде подробной партитуры, – утверждал Б. Е. Захава, – также закономерна для начинающего или малоопытного режиссера, как импровизация – для зрелого мастера»[150]150
Там же, с. 266.
[Закрыть].
Итак, Борис Евгеньевич считает, что тщательная графическая подготовка к мизансценированию необходима молодому режиссеру.
Однако крупнейший английский режиссер Питер Брук вот как описывает начало своей работы в Шекспировском мемориальном театре: «…к тому времени я уже достаточно поработал в маленьких театрах, чтобы знать, что актеры, а главное, администраторы больше всего презирают людей, которые, как они выражаются, не знают, чего хотят… Я уселся… перед макетом декораций… я перебирал в руках куски картона – сорок кусков, символизирующих сорок актеров, которым на следующее утро мне предстояло давать четкие и ясные указания… Я нумеровал фигуры, рисовал схемы, переставлял взад и вперед куски картона…»[151]151
Брук Питер. Пустое пространство. М., 1976, с, 169.
[Закрыть]. На следующее утро Брук появился на репетиции с «толстым блокнотом под мышкой…». Он разделил актеров на группы, пронумеровал их и расставил на исходные позиции, затем он стал громко и уверенно давать им указания. Но когда актеры пришли в движение, Брук увидел, что все это «никуда не годится», ибо актеры не были просто «кусками картона» – они были живые существа: некоторые из них пытались кое-как «оправдать» предложенные режиссером мизансцены некоторые же, якобы подчиняясь режиссерскому диктату, так выполняли его предложения, что это по существу выглядело издевательством.
«У меня, – вспоминает П. Брук, – упало сердце, и, невзирая на все мои приготовления, я окончательно растерялся. Должен ли я начать сначала, вымуштровав этих актеров до такой степени, чтобы они подчинялись моему плану? Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что именно так и следует поступить. Но был и другой, указывающий, что мой вариант гораздо менее интересен; что этот новый, рождающийся у меня на глазах, насыщенный личной энергией, индивидуальными особенностями, окрашенный активностью одних и инертностью других, обещает самые разнообразные ритмы и открывает много неожиданных возможностей. Наступил критический момент. Оглядываясь назад, я думаю, что на карту было поставлено все мое будущее, вся моя творческая судьба. Я прекратил работу, отошел от своей тетради, приблизился к актерам и с тех пор ни разу больше не взглянул в составленный мною план. Раз и навсегда я понял, как было глупо и самонадеянно предполагать, что неодушевленная модель может заменить человека».
Как видим, П. Брук, несмотря на свою в ту пору режиссерскую малоопытность, все же отказался от предварительной подробной разработки мизансцен, причем считает это важнейшим, поворотным моментом в своей творческой судьбе. Что это – просто раннее творческое созревание или признак определенного художественного метода рождения мизансцены? Если второе, то это, очевидно, никак не должно определяться возрастом и стажем работы режиссера. Например, замечательный советский режиссер Андрей Михайлович Лобанов признавался, что в его «личной режиссерской работе мизансцена всегда органически вытекает из предварительной работы с актерами» и что он никогда не мог «заранее распределить мизансцены, как это делают некоторые режиссеры…»[152]152
Лобанов А. М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1980, с. 62.
[Закрыть].
Как видим, позиции Лобанова и Брука близки друг другу. Брук даже утверждает, что «режиссер, который является на первую репетицию с готовым сценарием и записанными движениями, – мертвый человек в театре».
Режиссеры, придерживающиеся противоположного взгляда, часто как аргумент приводят подробные мизансценические записи и чертежи, которыми наполнен «Режиссерский план «Отелло» Станиславского[153]153
См.: Станиславский К. С. Режиссерский план «Отелло». М.—Л., 1945.
[Закрыть].
Вспомним, что этот режиссерский план писался Станиславским в Ницце, где он проходил курс санаторного лечения в 1929–1930 годах.
История создания этого «плана» следующая.
«Режиссерский план «Отелло» был написан Станиславским с учетом индивидуальных особенностей исполнителей главных ролей, и прежде всего исполнителя роли Отелло Л. М. Леонидова, который еще весной 1927 года показал отдельные приготовленные им сцены трагедии, что и побудило включить «Отелло» в репертуарный план. Некоторые картины почти не были мизансценированы Станиславским, так как они были достаточно разработаны самим Леонидовым, который уже «нафантазировал по поводу каждого момента роли целые поэмы», и, по мнению Станиславского, некоторые сцены у него «шли превосходно»[154]154
Станиславский К. С., т. 4, с. 518–519.
[Закрыть].
Станиславский, находящийся далеко от МХАТа, очень огорчался, что болезнь не дает ему возможность принимать настоящее участие в работе над «Отелло». Он писал в 1929 году Вл. Ив. Немировичу-Данченко: «Конечно, при этом я теряю право на окончание начатой мною постановки. Но, быть может, я смог бы издали принять в ней какое-то участие. Это могло бы выразиться в присылке приблизительной мизансцены»[155]155
Там же, т. VIII, с. 205–206.
[Закрыть].
Таким образом, следует отметить, что имеющиеся в «плане» мизансцены есть следствие прежде всего обстоятельств – невозможность для Станиславского принять непосредственное участие в репетициях. Л. М. Леонидов очень просил в письмах к Станиславскому прислать ему предполагаемые мизансцены, уверяя, что то, что Станиславский ранее прислал, «замечательно» и что его «это очень вдохновляет»[156]156
Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского, т. 4, с. 179.
[Закрыть]. Станиславский пишет в это время Р. К. Томарцевой: «Страшно счастлив за Леонидова, что он поправляется. Если бы он знал, как я хочу с ним работать! Пусть он не сердится на меня, что я ему еще не ответил… Пробовал писать мизансцен(у), но… разучился писать мизансцены»[157]157
Станиславский К. С., т. 8, с. 198.
[Закрыть].
Очевидно, вынужденные обстоятельства записи Станиславским мизансцен и присылка их Леонидову вряд ли стоит возводить в принцип работы над мизансценой…
Известно, что «Отелло» в МХАТе, выпущенный в 1930 году, успеха не имел и очень быстро сошел со сцены. Редакционная коллегия Собрания сочинений Станиславского (в состав которой входили М. Н. Кедров, О. Л. Книппер-Чехова, Н. Н. Чушкин и другие компетентные исследователи) так комментирует этот факт: «…спектакль, выпущенный в отсутствие К. С. Станиславского… лишь отчасти отразил режиссерский план, предложенный Станиславским»[158]158
Там же, т. 8, с. 518.
[Закрыть].
Если пытаться постичь принципы мизансценирования Станиславского, то, очевидно, следует прежде всего анализировать суть последних исканий Станиславского в области воплощения роли и пьесы, ибо пластический рисунок – одна из сторон этого воплощения.
В предыдущей главе, посвященной теме «разведка телом», мы невольно захватили тему рождения мизансцен. И это закономерно. М. О. Кнебель, говоря о методике «действенного анализа», полагает, что «новый прием Станиславского есть в точном смысле слова прием анализа, а не воплощения образа. Правда, в процессе анализа возникают и элементы воплощения…»[159]159
Кнебель М. О том, что мне кажется особенно важным. М., 1971, с. 52.
[Закрыть]. Стоит ли уж так четко разделять при работе этой методикой анализ и воплощение, если сам Станиславский полагал, что «новое счастливое свойство приема в том, что он, вызывая через «жизнь человеческого тела» «жизнь человеческого духа» роли, заставляет артиста переживать чувствования, аналогичные с чувствованиями изображаемого им лица… Подумайте только: логично, последовательно создавать простую, доступную жизнь человеческого тела роли и в результате вдруг почувствовать внутри себя ее жизнь человеческого духа… Это ли не фокус!»[160]160
Станиславский К. С., т. 4, с. 342–343.
[Закрыть]
Сегодня уже можно говорить об определенном опыте ряда советских режиссеров и даже целых коллективов, осваивающих в своей практике новую методику Станиславского.
В этой связи хочется остановиться прежде всего на практике Г. А. Товстоногова и возглавляемого им Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького.
Товстоногов скромно утверждает, что он «не рискует говорить», что работает «методом действенного анализа», а только «пытается подойти к нему, обнаружить его в своей ежедневной репетиционной практике»[161]161
Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967, с. 267.
[Закрыть]. Несмотря на это, представляется, что изучение опыта этого режиссера и возглавляемого им театра может быть особенно интересным для понимания проблемы воплощения режиссерского замысла через рождение мизансцены.
«Оптимистическая трагедия». Те, кто видел этот спектакль на сцене Ленинградского академического театра им. Пушкина, наверное, согласятся, что при всем разнообразии мест действия в памяти прежде всего осталась движущаяся лента широкой дороги, по которой идут матросы. Как родился этот декоративно-пластический образ? Почему Товстоногов и художник А. Ф. Бусулаев пришли к решению, которое стало стилистической основой мизансцен спектакля?
Товстоногов вспоминает, что при «внимательном и глубоком изучении драматической структуры «Оптимистической трагедии», ее языка и стилевых особенностей становилось ясным, что в ней сосуществуют как бы два органически сплавленных жанровых пласта. С одной стороны, героико-патетической пласт… С другой стороны, в пьесе большое место занимают жанровые зарисовки…».
Режиссеру и художнику необходимо было найти принцип соединения романтического, героического образа главного действия пьесы с абсолютной достоверностью каждой бытовой детали. Причем важно было, чтобы это соединение было органичным, чтобы у зрителя не возникало вопроса: почему это так, а не иначе?
Дорога стала главной частью постоянного станка, поставленного на вращающийся сценический круг. При повороте круга в различных ракурсах и сочетаниях, снабженная скупыми деталями, точно обозначающими место действия, спираль дороги каждый раз воспринималась по-разному: то как нижняя палуба военного корабля, то как часть набережной, по которой уходит полк, начиная свой путь от Кронштадта до Таврии, то как пыльный проселочный тракт в просторах Украины.
Действительно, когда круг поворачивался, то на всем основном пространстве сцены по существу ничего не менялось – менялось кое-что на заднем плане: то появлялась часть палубы, то рубка капитанская, то скульптура льва (часть набережной), то одинокое дерево. Образ уходящей куда-то дороги оставался неизменным, и сам поворот круга воспринимался образно: как движение все той же дороги. Дорога была конкретна, когда по ней шли матросы на передовые позиции, когда на ней совершался прощальный вальс, переходящий в марш, когда по ней приходили в полк бежавшие пленные офицеры или появлялось улюлюкающее, кривляющееся анархическое подкрепление. Дорога становилась символом пути полка, когда на дороге-палубе собирались устроить расправу над прибывшим комиссаром, когда с этой палубы сбрасывали за борт ни в чем не повинных людей, когда уводили на расстрел Вожака и когда погибали коммунисты Вайнонен, а затем Комиссар… Все это – тяжелый, политый кровью путь матросов от «свободного анархо-революционного отряда» до «первого морского полка регулярной Красной Армии»!
Итак, мы, очевидно, вправе констатировать, что, прежде чем выйти с актерами на мизансценирование, режисссер и художник нашли ту пластическую среду, которая, очевидно, и подготовила характер, стиль будущих мизансцен.
Вспомним другой спектакль Г. Товстоногова – спектакль БДГ нм. Горького «Иркутская история» А. Арбузова.
В центре сцены была сооружена серовато-серебристая глыба. В теле глыбы были как бы выбиты большие ступени, спирально идущие к вершине. Верх глыбы был срезан – там была площадка, на которой стоял рояль (художник С. Мандель).
Спектакль начинался с фортепианной увертюры; в дальнейшем пианист своей игрой постоянно вместе с хором как бы комментировал происходящие на сцене события. «Хор» стоял на ступенях, занимая всю площадь этой глыбы. Причем актеры из «Хора», переходя на плоскость сцены, сразу же становились участниками событий, но, возвращаясь на ступени глыбы, снова становились как бы участниками «Хора».
Товстоногов был убежден, что главный вопрос, который необходимо было решить, – это «вопрос Хора». Ему представлялось, что «Иркутская история» рассказывается людьми, живущими не сейчас, а в будущем. «Мне подсказала это решение, – пишет Товстоногов, – авторская интонация одной реплики: «В середине XX века в этих местах строили мощную гидроэлектростанцию». Действительно, «Хор» говорит об этом как бы в прошедшем времени. Поэтому Товстоногов решил, что «Хор» – те же действующие лица, но из будущего, рассказывающие о своем прошлом, которое для нас, зрителей, является настоящим. Таким образом, на сцене должны были существовать как бы раздвоенные персонажи: действующие и размышляющие о своих действиях.
Вот, очевидно, почему возникла у режиссера и художника конструкция-глыба, дающая возможность актерам существовать как бы в двух планах: то они как бы из будущего смотрят на свое прошлое (когда они на ступенях глыбы), то они действующие лица самой «Иркутской истории» (когда они спускаются на планшет сцены). Причем переход из одного плана в другой был мгновенным. «…Спускаясь вниз, Виктор снимает пиджак, бросает его товарищам, оставаясь в одной рубашке, и вынимает из кармана кепку. Никакой перемены грима не надо было. Мы искали такие комбинации, которые помогли бы нам все решить концертным, эстрадным способом».
Итак, основой стилистики будущих мизансцен спектакля (как и в «Оптимистической трагедии») явилось решение сценической площадки. Потребность же определенного решения появилась у режиссера благодаря анализу действенной сути и стилистических особенностей пьесы.
Разумеется, сама форма конструкции, дающей возможность построения мизансцен в двух планах, родилась уже в результате работы и режиссера, и художника. С. С. Мандель рассказывал автору этой книги, что, понимая функциональную необходимость будущей конструкции, он очень долго искал ее образное решение.
Гранитно-дюралевая глыба – образ и каменных берегов Ангары, на которых воздвигались металлические конструкции ГЭС, и фантазия на тему технического будущего. Концертное фортепиано, стоящее на верху глыбы, придавало неожиданно всему некоторую утонченность салона. Художник вспоминал, что фортепиано появилось у него в макете как-то случайно. Ему показалось, что в авторском приеме – размышление из будущего о настоящем – в этом есть какой-то изыск. Товстоногову это решение показалось интересным, верным.
В дальнейшем, в ходе репетиций, участие в спектакле фортепианного живого сопровождения оказалось необходимым и для исполнителей – оно помогло им ощутить атмосферу, в которой взгляд на прошлое лишен какой-либо сентиментальности. Когда человек слушает музыку наедине, да еще в механической записи, он, думая о своем прошлом, может и не устоять перед искушением пожалеть себя. Находясь же в обществе людей, вместе с тобой переживших многое, среди которых находится еще и пианист, передающий общее мужественное настроение, – в такой атмосфере, очевидно, легче открывать в себе лучшие свои качества…
И действительно, в спектакле напрочь отсутствовало какое-либо мелодраматическое начало, хотя в пьесе Арбузова оно, увы, есть. Как видим, в данном случае образное декорационное решение помогло не только общему пластическому решению спектакля, но в известной степени предопределило манеру актерского исполнения.
Ясно, что переход артистов из плана существования в «Хоре будущего» в план реально действующего лица происходящих событий – это определилось решением самой сценической площадки. Но как же рождались мизансцены в ходе развития самой иркутской «истории»? Что определяло их построение? Вот что пишет об этом сам режиссер: «Когда мы репетировали первую сцену – у магазина, нам заранее были очевидны предлагаемые обстоятельства пьесы. Две девушки закрывают лавку. У них был трудный день. Выбросили воблу. Что такое это продовольственная лавка? Маленькое душное помещение, где продают масло и керосин, водку, залежалые конфеты и мануфактуру. Целый день девушки работают в причудливых запахах этих товаров. А тут еще и вобла. После длинного рабочего дня они вышли на свежий воздух и уселись на скамью, не в силах двинуться. Приходят Виктор и Сергей и усаживаются рядом. Они тоже пришли после работы и тоже устали. И вот между ними начинается обмен игривыми репликами, взглядами – и все это при кажущемся отсутствии пластического решения. Четыре человека сидят рядом на скамейке, вытянувши ноги, почти не двигаясь, в вялой сцене кокетства. И мы вдруг ощутили, что вся жизнь пошла по правильному руслу, когда юмор неожиданно возник из верно найденного физического существования. Вся сцена первого знакомства Сергея и Вали обрела неожиданную остроту. Отсутствие пластического выражения стало в этой картине с точки зрения внутренней логики точным решением. Если довести решение до логического конца, выраженного в построении пластическом, то частность может стать непредполагаемым и непредвиденным решением сцены» (курсив мой. – А. П.),
Как видим, никакого заранее пластического решения этой сцены Товстоногов не предложил актерам. Совместно были вскрыты только основные предлагаемые обстоятельства, и в результате родилось «непредполагаемое и непредвиденное решение сцены».
Следует, конечно, оговориться. Подобное решение этой сцены случилось только потому, что поиск режиссера и актеров был общим, взаимообогащающимся, основанном на единой творческой методике. Товстоногов убежден, что, если каждый из членов творческого коллектива «не будет ощущать себя одним из авторов будущего спектакля, не возникнет подлинного творческого процесса» и что «…роль режиссера вовсе не умаляется от того, что решение это нужно искать всем вместе».
Однажды на занятиях творческой лаборатории молодых режиссеров один из ее участников спросил Товстоногова, как он выстраивает мизансцены. В ответ на это Георгий Александрович рассказал о том, как родилась первая мизансцена «Трех сестер».
Так как исполнительницы ролей З. Шарко, Э. Попова и Т. Доронина перед тем, как впервые выйти на сценическую площадку, хорошо знали «внутреннюю партитуру спектакля», то у них уже была потребность найти ее физическое выражение. Поэтому Дорониной-Маше захотелось сразу же найти такое место на сцене, чтобы отключиться от всех. Она подошла к роялю и сразу села спиной к залу. Шарко-Ольге надо было, очевидно, видеть обеих сестер, и она села на диван. А Поповой-Ирине захотелось в день именин помечтать, глядя в окно. «Так эту мизансцену мы и зафиксировали. Вряд ли здесь можно даже применить слово «выстраивать», в нем есть что-то искусственное, а эта мизансцена родилась очень естественно и сразу, потому что актеры шли от знания своего физического существования».
Попробуем сделать некоторые выводы. Похоже, что в практике Товстоногова первым фактором, обусловливающим определенное стилистическое решение будущих мизансцен, является образно-декоративное решение сценической площадки.
Заметим, что это решение не приходит к режиссеру и художнику случайно, а является прежде всего следствием тщательного, анализа действенной сути пьесы и ее художественных особенностей.
Вторым условием рождения мизансцены является способность актеров БДТ им. Горького к импровизационному действию. Но верное импровизационное действие может родиться только от полного знания всех предлагаемых обстоятельств и конфликтов пьесы, а также благодаря высокой психофизической технике актеров.
Как видим, перечисленные выше условия при всей их сложности и многоплановости, с точки зрения работы режиссера, можно условно разделить на два этапа:
1. Работа с художником над декорационным решением, определяющим стилевые принципы мизансцен.
2. Работа с актерами на репетиции таким образом, чтобы мизансцены рождались импровизационно.
Интересно, что подобная поэтапность работы над мизансценой характерна не только для творчества режиссеров, сознательно старающихся работать новой методикой Станиславского.
А. М. Лобанов был учеником Станиславского (II студия МХТ) в период, когда «система» еще только создавалась. Но Лобанов всегда был глубоко и органически связан с сущностью искусства своего великого учителя. И возможно, именно поэтому многое в практике Лобанова смыкается с направлением – последних поисков и открытий Станиславского. Ученик Лобанова – Г. А. Товстоногов даже утверждает, что «то, что позже было названо «методом действенного анализа», было в высшей степени и его (Лобанова. – А. П.) методом»[162]162
Лобанов А. М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1980, с. 390.
[Закрыть].
Одним из последних спектаклей, поставленных А. М. Лобановым, был «На всякого мудреца довольно простоты» Островского (Московский театр сатиры). Лобанов трактовал Глумова как «ренегата-отступника», у которого сохранился от прошлого лишь дневник. «Дневник – это глумовское подполье», – говорил Лобанов. Первую сцену Глумова с матерью режиссер назвал «Аутодафе», т.е. она мыслилась как сожжение ренегатом своего прошлого. Причем образное пластическое выявление этой мысли было заранее подготовлено режиссером и художником («первый этап»). На сцене была сооружена печь.
«На репетиции Глумов-Менглет начал, кидать в печку «множество различных бумаг, документов», подтверждающих прежние, демократические взгляды Глумова. Вероятно, это были книги, распространяемые в списках, письма и эпиграммы. Когда Егор Дмитриевич остервенело кидал в печку одну за другой разные бумаги, режиссер воскликнул:








