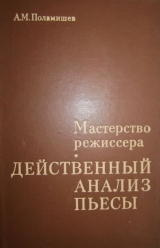
Текст книги "Действенный анализ пьесы"
Автор книги: Александр Поламишев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Бросайте туда дневник!
Глумов-Менглет тотчас же замахнулся дневником, но остановился…
– Хорошо. Вы передумали, решили оставить дневник.
Глумов прижимал его к груди.
– Не спешите, не спешите. Здесь начинается заявка к образу!.. Отступник хочет заключить компромиссное соглашение со своей совестью»[163]163
Там же, с. 123-124.
[Закрыть].
Как видим, Лобанов не только подготовил условия для рождения нужной ему мизансцены, но по ходу репетиции отобрал из импровизации актера то, что выражало режиссерское видение сцены («второй этап»).
Участник этого спектакля народный артист РСФСР Б. М. Тенин утверждает, что таким путем рождались мизансцены не только описываемой выше картины. «Мизансцен никаких он из дому не приносил. Они рождались в процессе актерского поведения. Ему важно было лишь нащупать взаимоотношения персонажей, отношения к событиям…
– Это не я, а вы должны знать, что делать, куда двигаться. Я буду смотреть за вами, а уж потом попробую поправить вас»[164]164
Лобанов А. М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1980, с. 375.
[Закрыть].
Большой мастер сцены, проницательный педагог, А. М. Лобанов вел своих учеников с самых азов к важнейшему из «секретов» режиссуры – овладению смыслом и техникой мизансцены.
Автор книги, проходя режиссерский курс под руководством А. М. Лобанова, как-то записал в дневнике: «…сегодня вместе с Анхелем Гутьересом и Володей Кудрявцевым показывали Андрею Михайловичу этюд. Тему этюда предложил я (случай, который был со мною на фронте). Андрей Михайлович очень ругал нас за то, что мы не приготовили для этюда настоящего реквизита и сделали плохую выгородку. Мастер негодовал: «Как же можно вместо, винтовки брать палку? Этюд не мог получиться, потому что не было ни затвора в винтовке, ни спускового крючка. Да и окоп – разве в таком окопе можно спрятаться от снаряда? Вы не верили ни во что… Откуда же взяться правде физического и психологического поведения?!..»
Разумеется, в то время мы не понимали до конца того, о чем говорил Андрей Михайлович! Очевидно, Лобанов рассматривал даже этюд как этап к рождению верного действия и, следовательно, верной мизансцены. А потому и был так придирчив к созданию необходимых условий для рождения сути и формы выявления мизансцены. Лобанов говорил, что у него «существуют в работе на сцене два периода: сперва планировочный, затем мизансценный… Мизансцена для меня является не самоцелью, а лишь средством, не рисунком, а физическим выражением психологического состояния людей в данной ситуации»[165]165
Там же, с. 63.
[Закрыть].
Искусство такого мастера мизансцены, каким был В. Э. Мейерхольд, описано неоднократно. Свидетельств тому, как тщательно готовился Всеволод Эмильевич к созданию замысла и его пластическому воплощению, много[166]166
См.: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969; Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980; Варпаховский Л. Наблюдения, анализ, опыт. М., 1978.
[Закрыть]. Сам Мейерхольд признавался: «…гоголевского «Ревизора» я обдумывал десять лет. Пушкинского «Бориса Годунова», которого в ближайшее время буду ставить, – пятнадцать лет»[167]167
Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968, с. 500.
[Закрыть].
Известный советский режиссер Л. В. Варпаховский рассказывает в своей книге о том, как готовился Мейерхольд к постановке «Дамы с камелиями» А. Дюма. Был собран и изучен огромный иконографический материал, модные и иллюстрированные французские журналы 70-х годов прошлого столетия, тщательно изучалось творчество художников-импрессионистов: Дега, К. Монэ, Э. Манэ, Ренуара… Интересно, что некоторые из картин этих художников почти цитатно стали мизансценами будущего спектакля. Всеволод Эмильевич утверждал: «…режиссер должен вполне ясно представлять свою будущую постановку, железный каркас, продуманный в своих формах вплоть до результатов»[168]168
Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968, с. 500.
[Закрыть]. В этом смысле характерна одна из репетиций «Дамы с камелиями» – «13 февраля 1934 года он готовился к планировке сцены смерти, – вспоминает Л. Варпаховский, – и я помогал ему расставлять мебель и вещи. Мейерхольд говорил: «В этой сцене особенно заметно, что вещи и мебель являются приборами для игры. Ничего лишнего. Все так стоит и так освещено, что можно предугадать будущее действие. На рояле часы (мы осветим их узким желтым лучом), на них будет смотреть Гастон. Книги мы положим так, чтобы закрыть источник света, направленный на лицо Маргерит, когда она сядет в кресло… За креслом в вазе стоят камелии. Здесь умрет наша дама… На рояль мы положим цилиндр и трость Гастона. Он уснул в кресле… Когда он будет уходить, трость и цилиндр возьмет с рояля…»[169]169
Варпаховский Л. Наблюдения, анализ, опыт. М., 1978, с. 20–21.
[Закрыть].
Как видим, Мейерхольд создавал условия для будущих мизансцен. Правда, мизансцены были им заранее сочинены. Мизансцены иногда рассчитаны были с точностью до нескольких сантиметров и с обязательным ритмом исполнения. Л. В. Варпаховский рассказывает, какой пунктуальности требовал Мейерхольд от актеров при выполнении сочиненных им мизансцен. Описываются две репетиции одной и той же сцены – прощание Маргерит и Армана. Одна – в репетиционном зале, другая – уже в готовых декорациях на сцене. Мейерхольд на репетиции и в зале, и на сцене требовал от М. И. Царева (исполнителя роли Армана) во время произнесения монолога точно в определенных, одних и тех же местах текста делать шаги по направлению сидящей в кресле Маргерит: часть текста – шаг, опять текст – опять шаг, текст – шаг, текст – шаг…
Думается, что подобная методика работы над мизансценой с живым актером полностью противоречит в своей сути методике Станиславского. Но любопытно, что сам Мейерхольд думал об этом иначе. Также говоря о двух этапах работы при воплощении замысла, Мейерхольд писал: «Второй этап режиссерской работы может протекать только совместно с актером. Только в работе с живыми выразителями режиссерских представлений первоначальный каркас начинает обрастать мясом, мышцами и кожей, в нем начинается кровообращение…
…Второй период режиссерской работы немыслим без совместной работы с актером. У режиссера в руках один конец нитки, за которую он дергает актера, но у актера другой конец той же нитки, за которую он дергает режиссера.
И именно поэтому я утверждаю, что режиссер не имеет права заранее разрабатывать свой план в деталях. Только когда я приду к актерскому коллективу и почувствую, как на меня обрушивается инициатива множества людей, когда мне придется пробиваться локтями среди массы импульсов и вариаций, только тогда родится постановка»[170]170
Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968, с. 501.
[Закрыть].
Очевидно, и для Мейерхольда весь вопрос заключался в том, какими путями разбудить эту «инициативу множества людей».
Работавший рядом с Мейерхольдом в последние годы его жизни А. К. Гладков приводит множество свидетельств того, что эта проблема очень серьезно занимала Мейерхольда. А. Гладков вспоминает: «Основная проблема современного театра, – говорил Мейерхольд, – это проблема сохранения импровизационности актерского творчества в сложной и точной режиссерской форме спектакля. Обычно тут бывает, как в басне: нос вытащишь – хвост увязнет… Я говорил об этом с Константином Сергеевичем, он тоже об этом думает. Мы с ним подходим к одной и той же проблеме, как строители туннеля под Альпами: он движется с одной стороны, а я с другой, но где-то на середине пути должны обязательно встретиться…» (курсив мой. – А. П.)[171]171
Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980, с. 237.
[Закрыть].
К. С. Станиславский еще на заре создания своей «системы» подчеркивал, что она явилась следствием изучения творчества многих великих актеров. Говоря о предложенном им методе воспитания внутренней техники актера, Константин Сергеевич утверждал, что основой этого метода послужили изученные им на практике «законы органической природы артиста: достоинства его в том, что в нем нет ничего мной придуманного или не проверенного на практике, на себе или на моих учениках. Он сам собой, естественно вытек из моего долголетнего опыта»[172]172
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1933, с. 724.
[Закрыть].
В предисловии к книге «Работа актера над собой в творческом процессе переживания» Станиславский пишет, что им «задуман большой, многотомный труд» и что четвертый том будет посвящен «работе над ролью».
Очень может быть, если бы Константин Сергеевич успел написать этот том так, как он его задумал, то в предисловии к нему (так же как и к 1-ой части системы) он сказал бы, что достоинства нового метода работы над воплощением роли и пьесы в том, что «в нем нет ничего придуманного или не проверенного практикой или практикой «его учеников».
И действительно, вот как описывает, например, Н. М. Горчаков опыт работы над мизансценой ученика Станиславского – Евгения Багратионовича Вахтангова. Вахтангов просматривал самостоятельные работы начинающих режиссеров. Б. Захава показывал свою работу над отрывком из чеховского «Юбилея». Вахтангов остался неудовлетворенным и преподал студийцам урок режиссуры.
«Итак, берем самый острый момент в пьесе, – обратился Вахтангов к исполнителям, которые уже находились на сцене – каждый стремится добиться своего: Мерчуткина – получить свои двадцать четыре рубля, Татьяна Алексеевна – заставить всех выслушать ее рассказ о самоубийстве Гриндилевского, Шипучин – выучить свою речь, ответ депутации, Хирин – закончить отчет…»[173]173
Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957, с. 75.
[Закрыть]. Далее, прочитав вслух подробное чеховское описание кабинета Шипучина, в котором, по автору, происходит действие пьесы, Вахтангов неожиданно предложил сделать так, чтобы на сцене роскошного кабинета Шипучина не было, – кабинет там, за сценой, а здесь только две драпировки по краям двери в кабинет и две тумбы с цветами. Вахтангов предположил, что сзади кабинета Шипучина (то, что мы видим на сцене), существует маленькая рабочая комнатенка, где по существу и происходит вся деловая жизнь шипучинского банка. В этой комнатке («почти конура»), кроме Хирина, работают еще два-три конторщика и счетовод. Причем у каждого из них свой стол, свой шкаф с бумагами, своя конторка, свои папки, деловые книги и т.д. и т.п. По предложению Вахтангова сцена была превращена почти в склад мебели, среди которой почти невозможно было протиснуться актерам – исполнителям ролей.
Вахтангов остался доволен. Затем он предложил Б. Е. Захаве – режиссеру и одновременно исполнителю роли Шипучина – следить из зала за ходом репетиции, а сам вызвался репетировать роль Шипучина. И Вахтангов перешел на сцену. Какую-то долю минуты он пробыл с Мерчуткиной, Хириным и Татьяной Алексеевной, а затем… исчез. Находившиеся и в зале, и на сцене растерялись. И почти сейчас же раздался откуда-то голос Вахтангова:
– В чем дело? Почему остановилась Татьяна Алексеевна? Разве я, Шипучин, обязан стоять и слушать ее? Ищите, куда я сбежал, и продолжайте рассказывать мне на ходу свою историю.
Это было неожиданно! Но исполнители быстро восприняли логику действия. Начав с прерванного места свой рассказ, В. Львова (исполнительница Татьяны Алексеевны) отправилась на поиски Шипучина по тому направлению, откуда донесся голос Вахтангова. Вахтангов-Шипучин, спасаясь от жены, вышел из-за шкафа уже «с мигренью», как это указано Чеховым в ремарке. Он держал руку у виска, глаза его косили в сторону парадной комнаты. Дорогу ему преградила Мерчуткина.
– Ваше превосходительство, – заныла она свою песню.
– Что еще? Что вам угодно? – в отчаянии уже произнес Евгений Багратионович слова Шипучина, ловко отступая за конторку Хирина и загораживаясь стулом от Мерчуткиной.
Мерчуткина продолжала преследовать Шипучина, выкрикивая слова через конторку, из-за спины Хирина… конторка была высокая… Поэтому Мерчуткина, пытаясь увидеть его (Вахтангова), стала взбираться на перекладины высокой табуретки Хирина. Хирину…. это мешало, он слез с табуретки и пересел со своей книгой к большому столу… Вахтангов, убеждая Мерчуткину уйти, пересел из-за конторки в кресло у стола, и, пока она слезала с табурета, Вахтангов и Лобашков (Хирин) через стол обменялись шепотом репликами.
– Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцаром, пусть ее в три шеи погонит, – шептал, не отрываясь от бухгалтерской книги Лобашков.
– Нельзя, она визг поднимет, – так же тихо отвечал Вахтангов,
– Я же не могу… не могу… Мне доклад надо писать.
А Мерчуткина уже громоздилась опять за спиной Хирина, стараясь через большой стол добраться к Вахтангову… «…И вдруг, к нашему великому удивлению (и восхищению), – пишет Н. М. Горчаков, – родилась необыкновенная мизансцена. Хирин под натиском Мерчуткиной сполз вместе с докладом под стол, в нишу между двумя колонками – тумбочками стола и писал, разложив на полу свой доклад. Вахтангов примостился сбоку в этой же нише, а Мерчуткина, лежа на животе на столе, старалась зонтиком достать кого-нибудь из своих партнеров… не забывая обращаться к ним со своим текстом. Вышедшая давно из-за шкафа Татьяна Алексеевна, которая во время предыдущей сцены охарашивалась у зеркала («…Как оделась и причесалась. Ну просто очарование!»), увидев эту картинную мизансцену и ничуть не удивившись ее своеобразию, совершенно спокойно сказала:
– Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы, право.
…Не в силах сдерживаться, мы смеялись и громко обсуждали только что прошедший перед нами эпизод»[174]174
Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова, с. 80.
[Закрыть].
Эту вахтанговскую репетицию можно было бы считать прекрасным образцом рождения мизансцены с помощью «метода действенного анализа», если бы… если бы сам режиссер не был в этом сценическом этюде главной фигурой импровизации. Ведь по существу Вахтангов показал исполнителю роли Шипучина результат, т.е. весь ход его физического (а следовательно, и психологического!) действия. С точки зрения методологии для исполнителя роли Шипучина эта репетиция была малополезной, хотя для всех других исполнителей репетиция была прекрасным уроком импровизационного действия.
Интересен в описываемой Н. М. Горчаковым репетиции еще один важный, на наш взгляд, момент – сочинение Вахтанговым места действия, создания сценических условий, при котором действие должно было развернуться примерно в том направлении, как это задумал Вахтангов. Мизансцены родились явно гротесковые. Но ведь и стиль чеховского «Юбилея» таков: пьесе характерна именно сатирическая, гротесковая заостренность и в изображении характеров, и в самом сюжете. Следовательно, создавая на студийной сцене преувеличенную тесноту планировки мебели, Вахтангов создавал предпосылки для рождения мизансцен определенных жанрово-стилистических качеств.
Надо сказать, что понимание важности первого этапа работы – создание декоративно-пластического решения спектакля – для возникновения будущих мизансцен присуще большинству современных режиссеров. Время, когда зрительный образ казался чем-то второстепенным, не обязательно связанным с сущностью спектакля, – это время, к счастью, безвозвратно ушло. Вопрос только в том, в результате чего появляется решение этого образа. Режиссеры, исповедующие серьезный кропотливый всесторонний анализ пьесы, убеждены, что залог подготовки условий для рождения верного декоративно-пластического решения спектакля заключается именно в таком отношении к пьесе.
Когда мы говорим «верного» – это значит «соответствующего верному замыслу режиссера». Уже говорилось, что одна и та же пьеса может дать возможность различных воплощений.
Г. А. Товстоногов, ставивший «Иркутскую историю», с огромным уважением говорит о постановке этой же пьесы Евгением Симоновым. Причем спектакль Симонова был решен совершенно иначе, нежели спектакль Товстоногова.
Спектакль театра им. Евг. Вахтангова «Иркутская история». «Сцена свадьбы. За большим, почти во всю сцену, столом сидят люди и поют песни. Потом кто-то предлагает: давайте станцуем. Все участники сцены дружно налегают на одну сторону стола; в это время начинает поворачиваться круг, и стол, таким образом, «отодвигается» в сторону. В этом решении есть темперамент, есть даже какое-то озорство, есть неожиданность, но оно возникает не случайно, оно не придумано Евгением Симоновым как эффектный постановочный трюк, оно продиктовано внутренней необходимостью, эмоциональным строем всей сцены»[175]175
Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967, с. 195.
[Закрыть].
Дело все в том, что «стол» не был столом – это был довольно широкий, уходящий в глубину сцены настил из грубо обструганных досок. Это был образ и дороги-настила на северных болотных топях, и образ строительства, и наскоро струганых и временно сбитых бараков, и свадебного стола на стройке, и просто древесины леса, олицетворяющего таежный край.
Эта дорога-настил была поставлена на круг, и при вращении его разные ракурсы настила выявляли различные оттенки этого емкого образного решения.
Евгений Симонов рассказывал автору этих строк, что образное решение спектакля пришло как бы случайно. После того как руководство театра им. Евг. Вахтангова приняло решение о постановке «Иркутской истории», в район строительства Братской ГЭС были командированы члены постановочного коллектива. От Иркутска до Братска вахтанговцы добирались на автомашине. Лихой шофер гнал с бешеной скоростью по деревянному настилу автолежневой дороги, прорубленной сквозь бесконечный сосновый лес. Симонов рассказывал, что картина была удивительная. Мелькание стволов огромных, мачтовых сосен, уходящих в ярко-синее зимнее небо. Слепящая белизна снега. И прямая, как стрела, накатанная, отшлифованная машинами бело-желтая деревянная дорога-настил, исчезающая, сливающаяся в мареве горизонта.
Симонов обратился к исполнителю одной из главных ролей – Виктора – Ю. П. Любимову: «Юра, какая у тебя последняя реплика в пьесе?» Ю. Любимов ответил: «…эту историю мы закончим на том, что я стою на дороге, смотрю ей вслед…»
Симонов спросил у художника спектакля И. Г. Сумбатошвили:
– Тебе все ясно?
– Конечно. Дальше ехать не надо. Возвращаемся обратно в Москву. Образ спектакля есть.
Вот так «случайно», к нам пришло образное решение спектакля, – закончил свой рассказ народный артист СССР Е. Р. Симонов…
Действительно, декоративно-пластический образ спектакля был очень интересным. Но случайно ли родилось это решение?
Разве сам вопрос Симонова: «Какая последняя реплика?» – не говорит о том, что режиссер уже хорошо знал пьесу. Да и ответ Любимова разве не говорит о том же. И мог ли с полуслова художник понять режиссера, если бы многое в пьесе уже не раз было оговорено. Да и сама поездка в Братск могла иметь практическое значение только после того, как пьеса уже была глубоко и всесторонне изучена.
Разумеется, завершающим моментом, толчком для рождения образа могут быть иногда самые неожиданные, порой даже случайные обстоятельства. Но они толкают сознание художника только тогда, когда постоянно, пусть даже незаметно для самого художника, подспудно идет творческий, аналитический процесс. На пустом месте ничего само по себе не вырастает.
Итак, мы можем констатировать, что необходимость нахождения образно-декоративного решения спектакля – основы будущих мизансцен – признают режиссеры самых разных школ и направлений. Так же, очевидно, не вызывает сомнений, что фундаментом этого решения может явиться только знание, ощущение идейно-художественных особенностей каждой отдельной пьесы. Разумеется, что, можно, наверное, по-разному изучать пьесу. Одно лишь необходимо усвоить: без глубокого знания пьесы не может быть найдено верное, органически оправданное художественной сутью пьесы образно-декоративное решение спектакля.
Для достижения этой цели метод действенного анализа, на наш взгляд, является наиболее логичным и прямым путем.
Разумеется, ни один самый прекрасный метод не может гарантировать стопроцентный успех. В оценке категорий и степеней в искусстве вряд ли вообще применима точность математики. Но все-таки очевидно: тот метод следует считать более прогрессивным, который ограничивает простор для блуждания из стороны в сторону.
К сожалению, практика большинства театров построена так, что работа режиссера и художника, как правило, начинается до начала репетиционного процесса, в лучшем случае одновременно. Такая практика диктуется обычно небольшими техническими возможностями театров; многое приходится выполнять на стороне: и сложные части декораций, и пошив костюмов… Поэтому постановочная часть театра вынуждена торопить художника, иначе она может не успеть выполнить весь объем работы к намеченному сроку премьеры. При работе старой методикой, пока актеры с режиссером сидят за столом долгое время (сроки этого «сидения» определяются, как правило, масштабом театра – областной, городской…), параллельно цехи уже запускают в работу оформление спектакля.
Ценность или несостоятельность найденного декоративного решения становится по-настоящему наглядной только тогда, когда уже готовая декорация устанавливается на сцене и актеры начинают пробовать в ней действовать. Если режиссеру и художнику удалось угадать необходимую, пластическую среду, то соединение декораций с действиями актеров прекрасно дополняют, продолжают друг друга. А если режиссер и художник ошиблись?
Как правило, в таком случае начинается очень мучительный и неестественный процесс выпуска спектакля. Меняются интересно родившиеся на репетициях мизансцены, так как они «не влезают» в оформление, выбрасываются целые части оформления… Оставляя в стороне этическую сторону подобной формы работы, можно уверенно сказать, что спектакль, выпускаемый при таких обстоятельствах, не сможет быть художественно цельным.
Преимущества метода действенного анализа при работе режиссера с художником явны и наглядны. Поскольку период «работы за столом» сводится к 3–4 репетициям, а затем актеры сразу же выходят на сценическую площадку (пусть это будет репетиционный зал, даже комната), то очень скоро режиссеру становится ясна та внешняя среда, в которой должно происходить действие. Режиссер может позвать на эти репетиции художника (что и делают часто режиссеры, работающие этим методом), для того чтобы вместе убедиться в правильности или ошибочности предполагаемого декорационного решения. Идет поистине коллективная работа и над поисками оформления будущего спектакля.
При работе старой методикой обсуждение актерами макета или эскизов оформления чаще всего носит формальный характер. Да иначе и быть не может: актеры еще слабо знают смысл и пьесы, и своих ролей, а им предлагают решать один из конечных результатов – внешнюю форму спектакля.
При работе же новой методикой обсуждаемый макет, как правило, вызывает самое живое, заинтересованное, чисто деловое отношение со стороны актеров. Они уже попробовали себя в физическом действии и знают, что им предстоит в таком-то месте сесть, в другом месте пьесы падать или убегать. Более того, актеры вместе с режиссером успевают почувствовать и жанрово-стилистические особенности действия. Поэтому оценка оформления приобретает и еще одно качественное значение.
Но, разумеется, особенно явно преимущества нового метода проявляются при рождении мизансцен.
Выше мы говорили уже о том, что даже Мейерхольд при всей его приверженности к графичности, строгой неукоснительности в точном выполнении рисунка мизансцен, даже он мечтал об актере-импровизаторе!
При абсолютно последовательной работе методом действенного анализа будущие мизансцены спектакля рождаются в идеале актерами только в импровизации. Более того, никакая другая мизансцена, как правило, с таким удовольствием и так прочно не закрепляется актером, как найденная им самим в ходе импровизированного психофизического действия.
У режиссера, работающего новой методикой, вырабатывается привычка, навык – никогда не предлагать актеру готовой мизансцены. Даже если при домашней работе у режиссера возникла предполагаемая мизансцена, он знает, что эта мизансцена только эскиз. На репетиции он возбудит в актерах потребность к действию, которое должно будет подвести их к придуманной им мизансцене или… к какой-нибудь другой, но обязательно выражающей по смыслу содержание, которое, с точки зрения режиссера, заложено в этом куске действия.
Опыт показывает, что, как правило «какая-нибудь другая» рожденная на репетиции мизансцены бывает интереснее, богаче содержательнее той, которая пришла в голову дома. И это, очевидно, естественно. Потому что самое пылкое, самое проникновенное воображение режиссера не может столь досконально представить себе все психофизические действия, которые подчас легко и просто рождают разные живые человеческие индивидуальности актеров.
Сегодня в работе даже столичных театров, к глубокому сожалению, укоренилась практика так называемых «вторых составов» (а в очень «многонаселенных» труппах даже «третьих» и «четвертых» составов).
О порочности этой практики со всех точек зрения – и с художественной, и с коммерческой (в конечном счете), и с зрительской – об этом писалось много.
Работа новой методикой Станиславского исключает возможность создания одной и той же мизансцены разными «составами» актеров.
Много лет назад на одном из выпускных курсов актерского факультета театрального училища им. Б. Щукина готовился дипломный спектакль «Борис Годунов» Пушкина.
Роль самозванца – Григория Отрепьева – репетировал студент Ю. Во время учебы он успел зарекомендовать себя как актер яркого комедийного, даже эксцентрического дарования. Фантазия его была бурной и порой неожиданной (впоследствии он стал режиссером).
Репетировалась сцена «Келья в Чудовом монастыре».
Пимен (студент А.) взволнован, он находится в возвышенном состоянии духа – закончил этой ночью, несмотря на все трудности, опасности, свой многолетний труд. Григорий принял решение бежать из монастыря. До сих пор ему никак не удавалось от Пимена узнать подробности «убиения младенца Димитрия». Сегодня он решился добыть необходимые сведения во что бы то ни стало. Он пытается спровоцировать Пимена на откровенность.
Григорий.
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Григорий-Ю. обвинил Пимена-А. в ханжестве: дескать, покуролесил в юности, пожил в свое удовольствие, а теперь изображает из себя праведника.
Со слезами гнева и отчаяния бросал эти слова в лицо Пимену Отрепьев-Ю.
Григорий.
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет,
И в тихую обитель затвориться.
В этом месте Григорий доходил др истерики, проклинал и «монашество» и «тихую обитель»!.. Он рыдал, катался по полу, рвал циновку…
Пимен растерялся. Причем поначалу растерялся не столь Пимен, как студент А. Но он вовремя спохватился и свою актерскую растерянность перевел на растерянность героя-образа.
Пимен.
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клубок.
Пимен, чувствуя почему-то себя виноватым перед Гришкой, пытался всячески его утешить. Но Григорий не принимал никаких аргументов старца. Он продолжал рыдать и метаться.
При упоминании «монастыря» Григорий взвизгнул, бросился к двери…
Голос Пимена зазвучал грозно – Григорий остановился. Очевидно, его заинтересовало упоминание царского имени…
Григорий-Ю. делал вид, что все более успокаивается. Пимену все более и более это нравилось. Он становился все более откровенным – он начал рассказывать Григорию об очень интимных, неожиданных сторонах характера самого Грозного!.. Он дошел в своем умилении до того, что Грозный в его изображении становился чуть ли не агнецом божьим.
Пимен.
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
Пимен в этом месте прослезился и окрестил себя крестным знамением. Григорий всплакнул тоже в умилении и истово перекрестился трижды.
Пимен.
А сын его Феодор? На престоле
Он воздыхал о мирном житии
Молчальника. Он царские чертоги
Преобразил в молитвенную келью.
Там тяжкие державные печали
Святой души его не возмущали.
Пимен стал перед иконой на колени, перекрестился. Григорий проделал то же самое, причем так истово поклонился, что лбом ударился об пол.
Пимен.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась – а в час его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье…
Опять крестное знамение и поклон; Григорий бьет в усердии лбом об пол дважды, затем оглядывается украдкой на стол, где лежит оконченная Пименом летопись.
Пимен.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его, как солнце, просиял —
– Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Пимен крестился и клал земные поклоны; Григорий, продолжая креститься, потихоньку отползал назад – к столу с летописью. Лбом он уже не хлопал, а делал удары кулаком по полу. Пимен этого не видел, так как продолжал класть земные поклоны. Пимен на коленях приблизился к иконе и еще более истово стал креститься, стараясь, очевидно, замолить свой грех, Григорий же, добравшись до стола, лихорадочно стал перелистывать страницы, летописи что-то там ища. При этом он, не глядя на Пимена, изредка «хлопал» ногой по полу, якобы клал земные поклоны… Пимен встал с колен и, обнаружив, что Григория нет с ним рядом, оглянулся… Григорий жадно читал летопись, продолжая периодически «хлопать» ногой об пол… Пимен потихоньку подошел к Григорию.
Поняв, что пойман с поличным, Григорий на секунду растерялся, но тут же, обворожительно улыбаясь, стал извиняться.
Григорий.
Давно, честной отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия-царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.
Григорий вертел всем задом, подхихикивал, кладя рукопись на прежнее место.
Этот родившийся на репетиции озорной характер мизансцен был не случайным. Студенты были увлечены мыслями Пушкина о площадном, народном театре. Изучались материалы о скоморохах, глумцах. Проводились дополнительные занятия по пластике; акробатике…
Спустя некоторое время, в 1969 году, автор этих строк приступил к постановке «Бориса Годунова» на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной.
Надо сказать, что коллектив актеров тоже был очень увлечен предложенным режиссером замыслом. Работа шла довольно споро и, как тогда казалось, успешно.
Роль Пимена репетировал актер П.; на роль Григория был назначен довольно известный уже тогда и по театру, и по кино актер Д. Начало сцены в келье шло примерно так же, как и в училище им. Щукина. Когда же режиссер предложил актеру Д. на тексте «как весело провел свою ты младость!» начать обвинять Пимена в ханжестве, Д., не споря с режиссером, изменил предложенное действие. Он не обвинял Пимена, а упрекал. Поэтому действие его никак не могло закончиться истерикой. Ответное действие Пимена тоже, естественно, стало иным: вместо взволнованного желания утешить, успокоить Григория Пимену ничего не оставалось, как спокойно, с достоинством отвести от себя упреки Григория и также спокойно его поучать.








