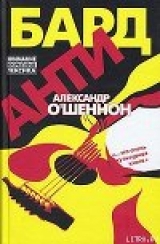
Текст книги "Антибард: московский роман"
Автор книги: Александр О'Шеннон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Потом я еще несколько раз встречал ее на своих концертах, ласково с ней заговаривал, но поспешно исчезал при первой возможности. В темноте зала горели ее глаза.
Через какое-то время она перестала появляться – видимо, наконец нашла себе мужика, – и я перевел дух.
С тех пор я строго допрашиваю каждую женщину моложе сорока, достойную стать постельным вариантом, не девственница ли она. Многие обижаются.
– А я у него спрашиваю: «Вы хоть презервативы-то используете? Ты только посмотри, сколько сейчас вокруг всякой заразы – и СПИД, и бог знает что!» А ему на все наплевать! «А тебе какое дело?» Они там, в этой ванной, по два часа не пойми чем занимаются, а я потом там моюсь. Так и подцепить что-нибудь недолго…
– Да, – говорю я задумчиво, – презервативы, они, конечно…
Второе предложение такого рода последовало примерно через полгода, когда живы еще были воспоминания и, так сказать, не зажили раны. Это была студентка филологического факультета, где время от времени случались бардовские концерты. Она писала поэму, обдумывала роман, занималась фотографией, увлекалась театром, готовилась к поступлению во ВГИК, танцевала на шесте стриптиз, рисовала акварелью, позировала для скульптурной композиции какому-то старому хую и собиралась прыгнуть с парашютом.
Ей было девятнадцать, и крыша у нее была снесена далеко и надолго.
Она имела внешность заурядной блондинки и рост на полголовы выше меня. Ее пробило на мои песни, и она назвала их пронзительными. «Аскеза» и «доминанта» были ее любимыми словами.
Я просто охуел от всего этого.
После одного из сборных концертов она пригласила меня и еще нескольких бардов, видимо, в качестве прикрытия, к себе на день рождения. Там уже ждали подруги, такие же гениальные и пизданутые. Пошла пьянка. В самый разгар я был отведен в комнату, где стояла огромная постель красного дерева, под покрывалом из черного шелка. Там я прослушал первую главу поэмы, посмотрел фотографии и картины и полюбовался несколькими стиптизерскими па.
«Я в восхищении!» – выкрикнул я по окончании перфоманса.
Постепенно барды с девицами расползлись по многочисленным комнатам бывшей сталинской коммуналки. Мы остались одни за столом, и я почувствовал смутное беспокойство. Опасения мои оправдались – вскоре она без малейшего напряга заявила, что, так как мы будем спать вместе, она считает своим долгом предупредить меня, что она девственница. «О, это ничего!» – бодро воскликнул я, наливая. Мы с Масей были готовы к этому, мы с ним договорились, что у нас никогда больше не будет девственниц. «Только мне надо еще выпить», – таинственно сказал я. Я начал закидывать в себя рюмку за рюмкой, почти не закусывая, и скоро с облегчением понял, что отключаюсь. Во время последней вспышки сознания я предложил отправиться в постель, что и было проделано с ее помощью. Я рухнул на черный шелк подушек, и тьма поглотила меня. Раза два я на мгновение приходил в себя и с удовлетворением убеждался, что, несмотря на все робкие попытки воспользоваться моим беспомощным состоянием, Мася не подвел меня, оставаясь все это время безнадежным коматозником. Утром я проснулся довольно рано, когда дева еще спала, и, по своему обыкновению, прокрался на кухню. Там я опохмелился оставшимся шампанским и, дождавшись ее появления, стал гулко кашлять и страшно стонать, притворяясь заболевшим. Мужчину в таком состоянии не стала бы трахать даже самая закоренелая нимфоманка, поэтому я был отпущен домой с миром и обещанием непременно позвонить, как только выздоровлю.
Я так и не позвонил, а когда позвонила она, чтобы посетовать мне на мою забывчивость, я мрачным голосом сослался на ежегодную депрессию, которая терзает меня примерно в течение трех месяцев, когда я не могу никому звонить. «Осталось еще два месяца», – присовокупил я. Она холодно попрощалась и больше не звонила. Так мы с Масей обхитрили девственницу.
– Хоть бы он женился на ком, – тоскливо говорит Вера, – переехал бы к ней жить…
– Может, еще и женится, – ободряю я.
– Да на ком он женится?! На этих своих малолетках? Нужен он им…
Надо написать роман «Матери и дочери». Эта штука будет посильнее «Отцов и детей». Я ободряюще сжимаю руку Веры. Кажется, подъезжаем.
– Долго еще ехать? – спрашивает Вера устало.
Да, видно, совсем доконал ее непутевый развратный муж. Любитель малолеток.
– Уже подъезжаем.
Из пелены дождя выныривает залитый оранжевыми огнями оазис «Каширской». Над ним в смутной дымке возвышается белый блочный дом. Дом, в котором я живу.
– Остановите, пожалуйста, прямо у метро. Вера, давай деньги.
Вера лезет в сумочку.
– Вот здесь, у магазина.
В этом магазине я всегда покупаю коньяк. Это очень хороший коньяк, азербайджанский «Гянджа», и стоит недорого, всего сто десять рублей за пол-литра. После него с утра, сколько ни выпей, нет никакого похмелья. Разве что некоторая слабость. Но если растворить в стакане воды сразу две таблетки аспирина «Упса», то проходит и это. В сущности, «Алкозельцер» и есть тот же растворимый аспирин, только стоит дороже. Я вычислил это сам, методом научного тыка. (На заметку пьяницам.)
В этом магазине меня уже знают.
– «Гянджа»? – радостно восклицает продавщица, как только мы подходим к прилавку. Улыбаясь мне по-доброму. Шутка ли, постоянный клиент.
– Одну бутылочку, пожалуйста, – кивая и улыбаясь, говорю я.
– И пепси, – уверенно добавляет продавщица, улыбаясь еще шире.
– Полтора литра, – улыбаясь и кивая, подтверждаю я. Вера восхищенно смотрит на нас.
Но на этот раз платить придется мне. Продавщица ставит на прилавок продукт.
– Пакетик нужен?
– Спасибо, у меня есть.
Для таких случаев у меня всегда припасен пакет в кармане чехла для гитары. Все-таки три рубля экономии. А на три рубля можно купить… Ни хрена нельзя купить на три рубля, даже уже, кажется, пресловутые спички, но все равно жалко. Ох-ох-ох…
Привычка к бедности печальной.
Я достаю пакет, проверяю – не дырявый ли? – и аккуратно складываю бутылки. Вниз обязательно кладу пепси, чтобы, если, не дай Бог, все-таки оборвется, был шанс сохранить коньяк.
– Вера, ты хочешь что-нибудь?
– Да нет, спасибо.
– Может быть, что-нибудь сладкое? Тортик? Шоколадку? – строго продолжаю допрашивать я.
– Ну, может быть, шоколадку, – неуверенно говорит Вера.
– Отлично! – восклицаю я.
Приятно оставаться джентльменом, особенно в мелочах.
Мы направляемся в другой отдел.
– Заходите еще! – кричит нам вслед добрая продавщица.
– Непременно!
В кондитерском отделе Вера придирчиво выбирает шоколадку. Действительно, глаза разбегаются. Я к сладкому совершенно равнодушен, но все равно радует такое изобилие. В детстве, я помню, ни хуя подобного не было, только «Аленка» по большим праздникам. А о пористом рассказывали друг другу как о каком-то дивном чуде, которое вроде бы и есть, да никто его не видел. И все почему-то были уверены, что наш советский шоколад – самый лучший в мире. Не жизнь была, а полный пиздец. А тут посмотри: и с изюмом, и с орехами…
– Возьми вон с изюмом и орехами…
– Нет, я не люблю с орехами. Я хочу горький черный.
– Пористый?
– Нет, обычный.
– О'кей.
Черный горький шоколад! Я даже не знал, что такой есть. Надо будет отломить у Веры кусочек, попробовать.
От магазина до дома метров сто. А магазин прямо напротив входа в метро. Мне с этим повезло. И с квартирой этой повезло. Хотя бы на три месяца. А потом посмотрим. Может, опять повезет. И вообще, наверное, только умирая я пойму, насколько мне везло в жизни. В конце концов, если задуматься, миллионы людей на этом свете живут в таком говне, которое мне и представить себе трудно. Инвалиды там всякие, в Африке голодные, шахтеры в бараках, миллионы охуевших китайцев, импотенты и сумасшедшие… Только вся беда в том, что чужое несчастье никак не может сделать тебя счастливым. Это все потому, что человеку всегда чего-нибудь не хватает. Как там говорил великий Будда: «Жизнь – это цепь разочарований, и чтобы не иметь разочарований, нужно не иметь желаний». Нужно просто сидеть в позе лотоса в одной набедренной повязке, с прилипшим к позвоночнику животом, с отсохшими гениталиями, закинув испитое лицо к небу – и все будет хорошо. Или что-то в этом роде. «Никакая субстанциональная единичность не является самосущей». Какая-то такая хуйня.
По пути к подъезду продают кур-гриль. Здесь всегда стоит такой аромат, что, проходя, начинаешь чувствовать себя голодным. Даже когда вроде бы сыт. Я первое время, поселившись здесь, этих кур покупал чуть ли не каждый день, просто не мог удержаться. Так одними курами и питался. И денег жалко, и надоели уже, а как вдохнешь запах, ноги сами собой несут к палатке. Потом, правда, они мне опротивели уже по-настоящему, я их просто обожрался и успокоился, и с тех пор покупаю довольно редко, но сейчас голод пронизывает меня насквозь. А что, кстати, у меня есть дома? Я начинаю вспоминать.
Так, банка лосося; ножка, оставшаяся от курицы-гриль недельной давности; три куска копченой скумбрии на тарелочке, накрытые бумажкой, и в заморозке полпакета картофеля фри. Вполне приличный ужин для двоих, если не слишком выебываться. Можно съесть все это сейчас, потому что потом, после Алферова, я так буду накачан коньяком, что есть ничего просто не смогу. А в магазин можно сходить и завтра.
Хлюпающая под ногами грязь.
Вокруг прыгают через лужи мои сограждане. В черно-серых одеждах с лужниковского и динамовского рынков, блестящих от дождя. У всех одинаковые в свете витрин и фонарей лица, одутловатые и напряженные. Нехорошие такие лица, недобрые. Затраханные жизнью. Особенно у женщин.
Женщины в китайских плащах и куртках, мешковатых, как войлочные доспехи ополченцев Дмитрия Донского.
В вязаных шапочках не от Диора.
Женщины, которые так и не дождутся своего принца; с которых не сорвет вечернее платье в бильярдной голливудского особняка Джордж Клуни; юный шейх-миллионер не откинет нетерпеливо вышитую золотом чадру с прекрасного лица своей любимой наложницы; над которыми не нависнет с воздетой плеткой Строгий Господин с тонкой ниточкой усов на бледном породистом лице; которых никогда не выебет ни Киркоров, ни Басков, ни Домогаров и даже муж в сорок лет покинет супружеское ложе и поселится в гараже со своей любимой раздолбанной «Ладой», станет идейным алкоголиком или любителем малолеток, если он еще на что-то способен. В сорок лет бабья жизнь этих женщин плавно перетечет в безропотное ожидание внуков, расцвеченное летними радостями огородничества и обсуждением «Большой стирки» с товарками.
А между тем все они могли бы быть безумно красивы.
Вся красота этого мира погребена в их бесполезных телах. А мне всю жизнь так не хватало красоты!..
– А сколько ты платишь за квартиру?
– М-м-м… Я даже не знаю. За три месяца я заплатил двести баксов.
– Так мало? Это однокомнатная?
– Да.
– Послушай, это же совсем копейки. Сейчас обычно сдают долларов за двести пятьдесят – триста, за двести-то невозможно найти. Тебе просто повезло.
– Да, мне повезло. Но, боюсь, это ненадолго… А вот мы, собственно, и пришли.
Я открываю кодовый замок, и мы входим в подъезд.
– И так близко от метро! – восхищается Вера.
– Ну, квартира, честно говоря, так себе… Евроремонтом там и не пахнет, но жить можно.
– Но удобства-то хоть там есть?
Вот женский вопрос.
– Конечно, есть. Правда, ванна маленькая, сидячая. Ты когда-нибудь видела сидячие ванны?
– Не-е-ет…
– Вот и я до этого не видел. Вообще там все маленькое. Не знаю, какой мудак этот дом проектировал.
Лифт в доме старинный, с открывающейся решетчатой дверью. Откуда такой лифт в блочном доме – ума не приложу. Кабинка узкая, как стоячий гроб, с дырками под потолком, чтоб в случае чего не задохнуться, покрытие не антивандальное, а старый добрый совковый пластик под дерево, старательно исцарапанный и исписанный разноцветными маркерами матерщиной. «Хуй», «Лека – сука», чье-то страстное «Лоррыса!» и неожиданно продвинутое «Rasta – the best of the world!». Интересно, кто в этом сраном доме такой поклонник раста?
Вера прижимается ко мне. Я обнимаю ее и целую.
Мы едем и целуемся. Старательно работая языками.
Шестой этаж.
В конце концов, до шестого этажа можно и не отрываться друг от друга. Едем на громыхающем лифте и целуемся. Присутствие коньяка в оттягивающем руку пакете придает легкость и беспечность мыслям.
Бля-я-мсс!
Шестой этаж.
Приехали.
Странность этого лифта заключается еще и в том, что он останавливается посреди этажей. По этой причине мы спускаемся ниже, на пятый этаж. Квартира у Аллы действительно совсем маленькая, на одного человека. Двоим здесь не ужиться. Идеальная жилплощадь для одинокой старушки с моськой или для пьющего русского художника вроде отца Аллы. Как бишь его звали? Кажется, Николай Степанович.
Вся квартира увешана картинами Николая Степановича. Когда я здесь поселился, Высоцкого в цепях уже не было. Алла сказала, что перед смертью отец подарил ее Центру творчества В.С. Высоцкого на Таганке. И слава Богу – эта махина висела как раз над койкой, на которой я сейчас сплю, и я бы постоянно боялся, что она на меня рухнет ночью и я умру со страху. Зато пейзажами увешаны все стены. Я не шибко разбираюсь в живописи, но мне кажется, что это очень хорошие пейзажи, столько в них неги и покоя. Хочется попасть на такой вот лужок-бережок, поваляться на солнышке, жуя травинку, а там, где сгущаются фиолетовые сумерки, чего-нибудь выпить. Запустить бы туда Аллу нагишом, вот она была бы счастлива!..
Но кроме создания эстетической атмосферы, пейзажи выполняют и чисто функциональную роль – они практически полностью закрывают от взоров обои, которые не менялись, наверное, со дня сдачи дома в эксплуатацию.
Вперемежку с пейзажами Николая Степаныча белыми лоскутами висят графические работы Аллы.
Живи она в России Серебряного века, она была бы русским Бердслеем в юбке, я уверен. Не употребляла бы изделия завода «Кристалл», а нюхала бы купленный в аптеке кокаин через длинный тонкий эбеновый мундштук, изящно сжимая его пальцами, затянутыми в шелк перчаток до локтя. А потом смела бы ее кокаиново-морфинистская волна первой русской эмиграции последней российской богемы в Париж, в монмартрское небытие, в объятия абсентовых галлюцинаций, и ныне каждое отечественное издательство считало бы за честь украсить ее изломанными женщинами всякую бабскую хуйню, которую они выпускают. Так нет же! Угораздило ее родиться в наше время, когда и богемы-то толковой нету, не говоря уже о декадансе, а только одни кретины и бездари с подвешенными языками обоих полов куют свои гиблые сексуальные связи в чаду помпезных московских презентаций.
– Вера, заходи!
Прихожая – полтора на полтора метра. В углу, занимая очень много места, лежит оставшаяся от Николая Степаныча циркулярная пила. Она огромная и страшная, торчат острые зубья. Зачем она ему была нужна – непонятно. Может, он хотел ставить избу? Что с ней делать – тоже неясно. Выкидывать вроде жалко. Я спрашивал об этом у Аллы, но она тоже не знает. Ну и хуй с ней.
– Осторожно, не поранься о пилу.
– О пилу? О какую пилу?
– Циркулярная пила. Вон она лежит. Да не обращай внимания, только будь поосторожней.
Как-то раз, спьяну, я на нее наступил. Хорошо, что был обут.
– Господи, сколько здесь картин!.. Это кто рисовал?
– Отец хозяйки квартиры, он уже умер. Проходи.
Проходя на кухню, Вера останавливается у входа в комнату, где нет двери.
– Сколько картин!
– Да, немерено. Пойдем на кухню.
– А можно посмотреть?
– Ну посмотри.
Кухня у Аллы крошечная. Кособокий, как у Крюгера, приземистый холодильник с оторванным названием, годов, наверное, шестидесятых, но еще работает, тарахтя как трактор. Плита с двумя конфорками, кое-как отчищенная Аллой от нагара. Пожелтевший до благородного цвета слоновой кости когда-то белый кухонный шкаф над плитой. На подоконнике в маленьком горшочке торчит живучий кактусенок. Я обещал Алле поливать его хотя бы раз в неделю, но постоянно забываю. Раза два, правда, я вдруг вспоминал и щедро поливал, тем он, наверное, и жив. В раковине кучей свалены немытые чашки и тарелки с размазанным желтком. На холодильнике лежит разорванный в клочья блок «Золотой Явы», купленный мной в какой-то перди во время очередного набега к друзьям по цене девять пятьдесят за пачку. У меня тогда были свободные деньги, и я решил купить целый блок, чтобы сэкономить рублей пятнадцать. Я трясу измятый картон, и оттуда вываливаются две пачки «Золотой Явы». Ну, можно жить! Я тотчас вскрываю одну и закуриваю.
Вера выходит из комнаты. Я указываю Вере на табуретку у стола.
– Присаживайся. Ты есть хочешь?
– Да нет, наверное. Я бы кофе выпила.
– Кофе не проблема. Сделаем кофе.
– А ты, если хочешь, ешь.
– Да, чего-то я проголодался. Пельмени у Крюгера, конечно… Но коньячку-то ты со мной выпьешь за компанию?
– Только совсем чуть-чуть. Может быть, с кофе.
– Правильно, и с шоколадкой. Сейчас я все сделаю.
Есть мне действительно хочется ужасно. Я ставлю на огонь помятый кофейник, потому что чайника в доме нет, и лезу в холодильник. Достаю из заморозки надорванный пакет картофеля фри, а с полки беру банку лосося.
– Ты точно ничего не хочешь?
– Нет, спасибо, я кофе с шоколадкой попью.
– Ну, как хочешь. Сейчас вода вскипит, я тебе сделаю кофе.
Я достаю выскобленную до белизны сковородку, когда-то тефлоновую, наливаю в нее подсолнечное масло и высыпаю картофель. Потом беру большой хлебный нож, приставляю к крышке консервной банки и сверху бью ладонью по рукоятке. Нож входит в железо, как в масло.
– А консервного ножа здесь нет? – удивляется Вера.
– Есть, но им даже пивную бутылку не откроешь. Ничего, я уже привык.
Несколькими движениями я вскрываю банку. Запах лосося и розовые ломти в соку вызывают у меня приступ голодного головокружения.
Я с детства обожаю всяческую рыбу. Не могу, например, спокойно смотреть в магазине на селедку. Хочется тут же купить ее и съесть. Как еврей. В гостях всегда пододвигаю к себе поближе семгу и балык. Или копченую скумбрию. Когда есть рыба, я на мясо плюю. Какое бы оно ни было. Не считая, конечно, запеченной бараньей ноги. Но запеченную баранью ногу я ел всего лишь три раза в жизни, и поем ли еще – бог весть. Вообще люблю все, что называется seafood, всяких там морских гадов и моллюсков – мидий, трепангов, кальмаров, креветок. Особенно креветок. Кстати, я уже сто лет не ел креветок… Я смотрю на лосося и думаю, что завтра же куплю себе креветок. С пивом. Оттягивает по полной программе. Но креветки не то блюдо, чтобы наслаждаться им одному. Креветки нужно есть как минимум вдвоем. Чтобы пиздить о чем-нибудь, очищая и прихлебывая холодное пиво.
Общаясь.
В последний раз я ел креветки летом…
…Родители тогда устроили мне праздник, именины сердца – на все лето уехали на дачу, – и я жил дома один. И первое, что я сделал, – наплевал на себя.
Я целыми днями сидел дома, немытый и небритый, с длинными, свисающими сосульками на глаза волосами, то тоскливо глядя в окно, то тупо – в телевизор, и ждал звонка от какой-нибудь женщины с предложением приехать ко мне, ибо это был единственный способ выйти из ступора и заставить себя пойти в ванную.
Лето – мертвый сезон для барда в смысле зарабатывания денег, и если ты не восторженный фанатик, готовый мотаться по бесчисленным слетам, возникающим то тут, то там на просторах нашей необъятной страны, чтобы по крайней мере на халяву пожрать, ты обречен торчать в раскаленной Москве и проживать заработанные за год по клубам бабки. «Груша» меня тоже не тянула, оглушив в свое время оголтелой каэспэшностью, провинциальным мудозвонством и жуткой антисанитарией.
Почему-то со всеми навещавшими меня женщинами я ел креветки. Это было вроде какого-то заклинания – я вяло говорил в трубку: «Ты будешь есть креветки?» Как ни странно, но не нашлось ни одной женщины, которая отказалась бы от креветок. За месяц я съел, наверное, годовую норму.
Но почему именно креветки?
Иногда я задумывался над этим и пришел к выводу, что дело даже не в том, что я действительно любил их, просто сам процесс приготовления как бы подталкивал меня к действиям, совместимым с реальной жизнью.
Нужно было спуститься на лифте; пройти вдоль соседнего дома до маленького магазинчика на углу, где меня знали и любили; купить там упаковку креветок за сто двадцать рублей; потом пройти тридцать шагов до следующего магазина, у которого почти неизбежно топтались два-три моих спившихся одноклассника, похожих на пятидесятилетних сталеваров, с исцарапанными лицами и красными носами; пройти мимо них, всегда судорожно пересчитывающих какие-то деньги, и остаться незамеченным; купить укроп, петрушку и лимон, а также заодно и две пачки «Золотой Явы»; немного постоять в затруднении – покупать ли хлеб; сообразить наконец, что хлеб с креветками не едят; потом опять застыть в мучительном раздумье – хватит ли одной упаковки? – и вспомнить с облегчением, что одной упаковки обычно хватает, даже иногда остается; купить две большие бутыли пива «Волга», потому что «Невского» и «Пита» в больших бутылях нету, а «Очаковское» – полное дерьмо; мысленно посетовать на это и опять ухитриться проскользнуть мимо спившихся одноклассников, стоящих на том же самом месте, но теперь тоскливо высматривающих кого-то вдоль улицы, может быть, меня, потому что у них всегда не хватает пяти рублей на водку, и если бы они меня увидели, я бы им, конечно, дал, но этого, слава Богу, уже давно не случается, так как они узнают друзей только по голосу, а я прохожу молча; и, поднимаясь в лифте, с отвращением посмотреть на себя в антивандальное зеркало.
Чем дольше ко мне никто не приезжал, тем больше я становился похож на Распутина.
Однажды мулатка Николь, которая после креветочного застолья прожила у меня еще два дня, заплела мне сзади маленькую косичку, и она болталась целую неделю, потому что не для кого было мыть голову, и потом расплетать ее оказалось сущей мукой, она так слиплась и свалялась, что половину заплетенных волос я просто вырвал с корнем вместе со стягивающей их резинкой.
Впрочем, даже это меня ничему не научило.
После шопинга нужно было приводить себя в божеский вид. Бреясь, моя голову, обрызгиваясь потом «Cerutti» и антиперспирантом, натягивая восхитительно чистые трусы и носки, я как бы облачался в маску и бронежилет. Я смотрел на себя в зеркало и видел совершенно чужого и чуждого мне человека, симпатичного, обаятельного и приятного во всех отношениях. Мне не было неприятно, мне было грустно. Я знал, что этого хватит на вечер, ночь и первую половину следующего дня, часов примерно до двенадцати, пока женщина не уедет, а я опять самим собой застыну у телевизора, переключая каналы и даже не прикладывая усилий, чтобы забыть происходившее несколько часов назад.
Когда женщина появлялась в доме, начиналась самая приятная для меня часть – приготовление креветок.
Не знаю, почему я так любил готовить креветки, тем более что готовить — это слишком сильно сказано, просто нужно опустить их в кипящую подсоленную воду и ждать, пока они не станут горячими. Я же создал из этого целый ритуал, коему следовал неукоснительно, с каждым разом все больше боясь разрушить его очарование.
Я доставал из холодильника ярко-голубую ямайскую чашку, в которой, свесившись в разные стороны, стояли пучки укропа и петрушки, и относил ее на кухонный стол. Лимон (он должен быть обязательно целым) уже лежал там, и я ставил чашку рядом с лимоном. Несколько секунд я любовался сочетанием цветов – ярко-желтый, сочно-зеленый и голубой. Женщина в это время всегда сидела у стола и что-нибудь говорила. Это меня устраивало, потому что если бы она молчала, говорить пришлось мне, а это отвлекло бы меня от по-японски радостного процесса созерцания. Вода уже грелась в кастрюле, и, сосредоточившись, я прикидывал, скоро ли она вскипит. Это было важно, ибо до того, как она вскипит, я должен был забросить ингредиенты и отпить несколько глотков ледяного пива из высокого запотевшего бокала с надписью «HARP».
Я доставал из шкафчика над столом жестяную коробку с лавровым листом, выбирал четыре листика, примерно одинаковых по размеру, и торжественно, один за другим, кидал их в воду. Они плавно опускались на поверхность и еще некоторое время оставались совершенно сухими. Я смотрел на них и ждал, когда они намокнут и из почти серых, мертвенно-тусклых, постепенно, но в то же время быстро превратятся в темно-зеленые, почти черные, как бы оживут. Это неизбежно случалось, и я доставал из шкафчика маленькую стеклянную банку с перцем-горошком.
Я аккуратно высыпал на ладонь пять горошин (если вдруг высыпалось больше, я досадливо морщился) и кидал их в воду. Они медленно, как батискафы, опускались на дно, где уже начинала пузыриться вода, лавируя между первыми тонкими ниточками пузырьков.
После этого золлингеновским ножом я резал лимон.
Лимон я всегда резал в одном и том же месте – попку с тонкой прослойкой мякоти. Я навострился резать так, что мякоти всегда оставалось именно в том количестве, которое было нужно, ни больше ни меньше. Попку я резал на маленькие кусочки и высыпал в воду.
Пузырьков становилось все больше, с поверхности поднимался легкий пар.
Тут можно было наливать пиво. Я доставал из того же шкафчика два бокала – один «HARP», а другой поменьше, как бы дамский, украденный мной в венской пивной, с готической надписью «Ottokringer» и замысловатым германским гербом.
В начале моего креветочного периода я всегда спрашивал у женщин, будут ли они пиво, и с изумлением замечал, что этот, казалось бы, безобидный вопрос, приводит их в замешательство. Я не знаю, в чем тут было дело, возможно, я сбивал их с мысли, прерывая рассказ, или дело здесь было в соблюдении некоего женского этикета, когда питие пива перед креветками казалось им несколько моветоном, а может, они вдруг погружались в традиционную задумчивость по поводу калорий и фигуры, но потом я просто стал приносить бутыль и молча наливать два бокала. Это устраивало всех.
Разлив и на всякий случай торжественно чокнувшись, я опять отворачивался к плите и, отпивая неспешными глотками пенящееся пиво, смотрел на воду. Она уже почти кипела – пар становился гуще и вода побулькивала большими мясистыми пузырями. Темно-зеленые листья лаврушки беспокойно сновали в воде, как челны, сшибаясь и расходясь с кусочками лимона. Закипая, вода мутнела, становясь бурным морем, и перчинки изредка выскакивали из клокочущей пучины, как головы тонущих в шторме негров.
Теперь можно было начинать резать зелень.
Я отделял от каждого пучка по несколько веточек так, чтобы стебли были покороче, и бережно отрывал их. Тут женщина, видимо, сбитая с толку неожиданно налитым пивом и поэтому некоторое время молчавшая, спрашивала, не надо ли мне помочь. Всякая помощь в этот момент была бы для меня нестерпимой, и я отвечал ласково, что нет, спасибо, я очень люблю готовить. Это был хороший повод для женщины начать восхищаться кулинарными способностями мужчин, что занимало некоторое время и я мог спокойно продолжать священнодействовать.
К петрушке я испытывал почти любовные чувства – я ее любил за вкус, запах, мясистость листьев, а кроме того, она напоминала мне детство, которое я вспоминать не люблю, но был один короткий период, когда мы с родителями были на море, где-то под Туапсе, и там я поел настоящего шашлыка в палатке на берегу. Я даже не помню, ел ли я шашлык до этого, в Москве, может быть, ел где-нибудь в парке Сокольники, но этот кавказский шашлык я запомнил главным образом потому, что его подавали с веточкой-другой петрушки, и это придавало мясу какую-то неизъяснимую прелесть. С тех пор я всегда ел шашлык только с петрушкой, и вообще мог есть петрушку с чем угодно, даже просто макая ее в кетчуп и заедая хлебом.
К укропу же я относился с презрением – за плебейский резкий вкус и уместный разве что в огуречном рассоле запах, за тощий, какой-то вздорный вид и почти всегда анемичный желтоватый цвет. Но укроп необходим для креветок, к тому же моя неприязнь к нему тоже была частью ритуала, и я отдавался этому самозабвенно.
Я мелко крошил петрушку ножом (всегда одним и тем же) и подносил щепоть к носу, чтобы вдохнуть дразнящий аппетит запах.
Запах петрушки всегда напоминал мне о море, солнце и еде.
Примерно в этот момент женщины, как правило, пружинисто вставали со стула.
Видимо, уязвленные моим чрезмерным увлечением гастрономией, они вставали рядом и с преувеличенным вниманием начинали вникать в тонкости приготовления креветок. Некоторые при этом, несколько мешая, обнимали меня сзади за талию, видимо, давая понять креветкам, кому я принадлежу.
Следуя традиции, я охотно объяснял – что, как и зачем я делаю, ссыпая при этом петрушку и укроп в бурно кипящую уже воду. Потом я добавлял две с половиной столовые ложки соли, чем всегда вызывал испуганный вопрос: «Не много ли?» Дождавшись этого вопроса, я с удовольствием отвечал, что нет, не много, как раз то, что нужно, потому что для креветок нужно много соли.
На этом, собственно, ритуал заканчивался.
Креветки постепенно оттаивали, успокоившаяся было вода вновь начинала бурлить вдоль стенок кастрюли, отчего они сбивались в кучу и слегка поднимались, почти неслышно шелестя панцирями. Через несколько минут ноздри мои улавливали тонкий, ни с чем не сравнимый аромат. Это означало, что блюдо готово, и я склонялся над кастрюлей.
Копна креветок уже осела, кипящая вода разрушила их монолит снизу, они колыхались, и нежная розовая пена, цветом похожая на высохший под солнцем коралл, лопалась и растворялась в кипящей воде.
После этого креветки можно подавать к столу. На другой день у меня совершенно вылетало из головы, о чем мы говорили, вкушая креветки. Впрочем, я больше молчал, старательно извлекая восхитительное мясо и высасывая икру из усатых голов. При этом я делал большие глаза и пытался вникнуть в суть разрозненных фрагментов воспоминаний, женских обид, едких высказываний о подругах и неясных, но светлых мыслей о будущем, в общем – всего того, что в шестидесятые годы на Западе «продвинутые» поклонники многоликого Джа окрестили Потоком Сознания.
Перед тем как торжественно отправиться с женщиной в постель, я выслушивал, как бы на десерт, рассказы о никчемных эксах (муж – объелся груш) и потенциальных, но каких-то долгоиграющих женихах, тугодумах, которые все, как один, на джипах, куда-то возят, выводят, крутятся вокруг да около, а жениться не торопятся. Женщины были такие разные, но хотели одного – счастья, а мужчины из их рассказов все были одинаковыми – тупыми, примитивными личностями, требующими каждый день горячую пищу и внимания («прямо как дети, ей-богу!») и скаредами, жалеющими лишнюю копейку. «Мужчины – такие свиньи!» – говорил я при этом голосом капризного педераста, шутливостью тона делая установку на дальнейшую мажорность отношений и одновременно ставя точку.








