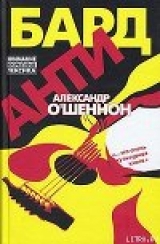
Текст книги "Антибард: московский роман"
Автор книги: Александр О'Шеннон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Спасибо, – сердечно благодарю я и засовываю в чехол гитару. – Ну, мы пошли. Еще увидимся.
– Ну так, – убежденно отвечает Крюгер, мотая головой. Вера сама отпирает замок. Мы выходим на лестничную площадку, и я ежусь от холода.
Представляю, что делается на улице.
Вдруг Вера обхватывает меня руками за шею и горячо целует в губы. Я старательно отвечаю, пихаясь языком. Некоторое время мы целуемся, цепляясь языками за зубы.
Мягкие, немолодые губы Веры.
Наконец, когда я чувствую, что время страстного поцелуя истекло, осторожно отодвигаю Веру. Мы смотрим друг на друга. Я думаю: «А может, все-таки успеем потрахаться до Алферова, на трезвую голову? Потом ведь я опять ни хуя не буду соображать, даже вспоминать будет нечего. Ладно, как получится».
– Пойдем, нам надо спешить, – говорю я и за талию веду ее по лестнице.
«Или вообще не трахаться? Оставить все как есть. Так-то оно и спокойнее будет. А то потом начнутся звонки, долгие разговоры, всякие намеки на то, что я коварный соблазнитель, что разбудил в женщине любовь и прочее. Нужно будет встречаться, куда-то ходить, где-то сидеть, пиздить, тратить бабки, считая каждый пфенниг…»
С женщинами всегда так – вроде с самого начала понимаешь, что ничего путного быть не может, а все равно чего-то ждешь. Нового, неизведанного. Хочется проникнуть в самые глубины, ожидая найти там святилище Астарты. Спускаешься, как спелеолог, а там ничего нет.
Ни хуя.
Только ржавые консервные банки от предыдущих экспедиций.
Посидишь, покуришь…
Потом поднимаешься, слегка разочарованный.
– А у Крюгера кто-нибудь есть? – спрашиваю я, когда мы спускаемся, и почему-то добавляю: – Ну, кроме тещи.
Вера берет меня под руку. Терпеть не могу, когда женщина держит меня под руку, особенно на лестнице, но тут уж ничего не попишешь – теперь я ее собственность. Личный мужчина. Придется потерпеть.
– Есть, Нинка. Она моложе его лет на пятнадцать. Ничего, красивая. В какой-то фирме работает. Она Крюгера действительно любит. Сейчас в больнице лежит, у нее что-то женское. Крюгер рассказывал, – добавляет она с большим уважением, – что она бывшая балерина.
Конечно, конечно… Все женщины в душе балерины. В каждой русской женщине умерла Анна Павлова, в каждом русском мужчине погиб Юрий Гагарин. Русский балет – мощное эхо крепостничества.
Ау, граф Шереметев!
Усыпанные окурками ступени.
Точно, пятый этаж.
Я открываю дверь на улицу. Мы выходим, и нас окатывает холодная изморозь. Как будто кто-то плюнул в лицо. Господи, ну и погода! Вера прижимается ко мне еще тесней. Ну, и куда идти? Уже почти стемнело. Мы во дворе.
– Где тут какая-нибудь дорога? Нам нужно поймать тачку.
Вера показывает рукой, ежась:
– Это вон туда.
Под ногами лужи и грязь. Почему в Москве, стоит пойти дождю, тут же появляются лужи и грязь? Почему такого нет в Европе? Хотя в Польше и Румынии, наверное, есть. Но какая это, к черту, Европа! А вот в Лондоне такого нет. Наверное, потому, что здесь так много палисадников, откуда эта грязь и стекает, да еще кривой, как его ни латай, асфальт. В Лондоне даже сырость какая-то чистая, не пачкающая.
– Вера, у тебя деньги есть? – строго спрашиваю я.
– Есть, – беззаботно отвечает Вера, – рублей триста.
– Это хорошо, потому что нам нужно на машину. Я боюсь, у меня не хватит.
– Конечно.
В конце концов, я не граф Монте-Кристо какой-нибудь… Не муж и даже не любовник. Коньяк все равно придется покупать мне. Без доли альфонсизма в моей безрадостной жизни не обойтись. Но теперь-то уж мне, как честному человеку, придется поебаться.
Ладно, с этим решили. На душе становится легче.
Мы проходим какие-то глухие неуютные дворы с переполненными помойками и ржавыми гаражами, стараясь обойти и перепрыгнуть как можно больше луж. Идя под руку, это делать крайне неудобно, но я терплю. Ветер швыряет в нас мелкий дождик. Снег, как я и предполагал, растаял. Черт бы побрал этот гнилой ноябрь!
– Скоро?
– Да, вот за тем домом.
За углом оранжевые фонари блестят на трамвайных рельсах, расплываются в лужах. Цивилизация…
Действительно проезжают машины.
Я оставляю Веру под навесом трамвайной остановки с застывшими на ветру бабушками, а сам выхожу на дорогу и поднимаю руку. А сколько, интересно, отсюда до «Каширской»? В принципе это другой конец города. Мы на севере, а Каширка – на юге. Наверное, где-то полчаса, минут сорок, рублей сто? Нет, за сто вряд ли повезут. А за сто пятьдесят точно повезут. Ладно, посмотрим. И тут останавливаются «Жигули». Битая «копейка». Несколько вмятин, кое-как замазанных, ржавчина в пазах. Конкретный бомбила. Это то, что нужно. Я открываю дверь. Кавказец.
– До «Каширской», за сто.
Кавказец думает, потом говорит с акцентом:
– Давай за сто двадцать.
– Едем.
Я пропускаю Веру на заднее сиденье и сажусь рядом. Вера крепко прижимается ко мне. Я беру ее руку и сжимаю. Жест решительно настроенного мужчины.
– На «Каширской», где там?
– Прямо у метро.
Тихо играет какое-то радио. Что-то попсовое. Кавказцы никогда не слушают «Шансон» в отличие от наших водил, которые исключительно его и признают, словно все поголовно только что с зоны.
– А у тебя на «Каширской» квартира? – спрашивает Вера.
– Не моя. Я просто там живу. Знакомая сдала…
Аллой зовут знакомую. Яркая представительница нонконформизма. Талантливая и непутевая художница, каких много по Москве, с которой у нас бог знает когда была безумная любовь, закончившаяся моим паническим бегством. Нас разлучила сама природа, обделившая эту страстную натуру каким-то хитрым ферментом, без которого алкоголь в организме не расщепляется, так же как у чукчей, и бьет по мозгам моментально, без всяких скидок на здравый смысл. Дело усугублялось еще и тем, что здравого смысла у Аллы всегда было примерно столько же, сколько и фермента, что само по себе давало повод для серьезных размышлений. Не могу сказать, что сам я в то время отличался здравым смыслом, но мне всегда претила привычка Аллы во время задушевного исполнения «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» за пиршественным столами внезапно вскочить с затуманенными алкоголем очами и, ни слова не говоря, засветить кулаком в чье-нибудь счастливое поющее лицо… Не обошлось тут, видимо, и без генов, которые тоже сыграли с ней злую шутку – дед ее был известным в свое время боксером, и Алла, несмотря на свое астеническое телосложение, обладала мощным ударом в челюсть и несгибаемой волей к победе. Утихомирить это дитя природы было решительно невозможно, и в начинающейся свалке, перед тем как вышвырнуть нас вон, мне, как спутнику и джентльмену, основательно мяли бока.
Жила она в спальном районе с матерью, утонченной акварелисткой, рисующей милые туманные пейзажи в стиле позднего Нагасавы Росэцу, и младшей сестрой, единственным здравомыслящим человеком из всей семьи.
Мать ее, носящая буколическое имя Изабелла Юрьевна, с утра до вечера бродила по квартире, волоча за собой ниспадающую богемную шаль, и молола кофе в ручной кофемолке. Среди предков Изабеллы Юрьевны числилась какая-то армянская царевна, женщина, судя по самой Изабелле Юрьевне, горячая и своенравная, в результате чего их споры с Аллой – относительно, скажем, степени густоты акварельной краски, наносимой на черную тушь, – из области чисто эстетической довольно быстро перетекали в язвительное обсуждение личностных качеств обеих дам и их мужчин, как правило, отъявленных мерзавцев. Кроме того, в квартире жил кот, уже старый, но размерами напоминающий котенка – зашуганное и облезлое существо с голым, как у павиана, задом, – спятивший от постоянного недоедания и желания трахаться. Кот этот, мстя за свою поганую жизнь, обоссал все, что только мог, от обуви до подушек и столовых приборов, не добравшись до открытых ртов спящих только по той причине, что на ночь его предусмотрительно запирали в коридоре. В результате этого в доме всегда стояло такое амбре, что в гости приглашались только проверенные, не склонные к аллергическим припадкам люди. Это был настоящий сумасшедший дом, и время от времени он становился и моим домом.
Отец Аллы, живший отдельно, был русским художником, канонически запойным и бородатым. Алла любила его больше всех родных, потому что они были похожи внешне и близки по духу, хотя большая борода, этот непременный атрибут всякого российского интеллектуала и маргинала, придавала его облику некоторую основательность. Он жил один в маленькой квартирке прямо у метро «Каширская», и однажды мы зашли к нему. Мне запомнилась огромная картина, висящая над его смятой койкой, на которой был изображен Владимир Семенович Высоцкий. Он рвался из цепей, крича: «Пр-р-ропустите меня к этому человеку!» – и на могучей шее Барда вздувались знаменитые вены. Разговор наш был тягостен и невнятен и касался главным образом разворовывания России и оскудения православия. Две эти темы, сквозь которые красной нитью проходило тяжелое похмелье, послужили для меня достаточным основанием не злоупотреблять нашим знакомством. А вскоре была поставлена жирная точка и в наших отношениях с Аллой…
Произошло это на Ярославском шоссе, где она танцевала среди несущихся машин с белым от очередного алкогольного отравления лицом, высоко задирая ноги. Нужно отдать мне должное – сам с трудом сохраняя равновесие, я стоял на обочине и пытался ее урезонить. В итоге машины, каким-то чудом не столкнувшись, остановились и из них стали выскакивать разъяренные водители. Один из них утихомирил визжащую Аллу ударом в ухо, а другие, с каким-то железом в руках, потрусили ко мне. И тогда я совершил, наверное, единственный разумный поступок за все время нашего знакомства – я пустился бежать как ветер, оставив в стельку пьяную деву в руках шоферов. Только на следующее утро я с потрясшей меня ясностью понял, насколько бесчеловечных побоев мне удалось избежать. Я позвонил Алле, как всегда искренне ничего не помнящей, и голосом, дрожащим от переполнявшей меня радости, объявил, что между нами все кончено. Потом я узнал, что ей тоже повезло – она отделалась легким сотрясением мозга. Впрочем, в этом смысле ей всегда везло…
Она позвонила через год, застав меня в угнетенном состоянии духа на диване. Мне тогда как-то особенно опротивели все окружающие, а больше всех родители, вид которых и их бесконечные передвижения по квартире вызывали во мне раздражение, с каждым днем перерастающее в стойкое отвращение. Целыми днями я лежал на диване в тапках, курил и думал, куда бы мне деться. Денег, чтобы снять квартиру, у меня не было.
Я даже обрадовался, услышав ее голос, и не сразу понял, что отец ее умер и квартира досталась ей. Это была ее давняя мечта, и, выразив соболезнования, я тут же от души ее поздравил. В дальнейшем разговоре она поведала мне об обстоятельствах своей жизни, и, слушая ее, я мысленно возносил хвалу Господу за то, что он надоумил меня в свое время пуститься наутек.
Возраст не умалил ее бойцовских качеств, и это роковым образом сказалось на ее существовании. Некоторое время многочисленные любовники пристраивали ее на теплые места, где не требовалось изнурять себя работой во имя процветания фирмы и к тому же неплохо платили. Во всех офисах она держалась до первого официального торжества с фуршетом и возлияниями, спокойно работая то менеджером, то секретаршей, и наливалась ядом. В коллегах ее бесило буквально все: костюмы и галстуки, дурацкие, по ее мнению, разговоры о клиентах, заказчиках, партнерах и прочем, само слово «команда», употребляемое со скромной гордостью, и – по достижении определенного статуса – всенепременное завсегдатайство в каком-нибудь суши-баре, клубе с фитнес-залом или заведении с чайными церемониями. Дочь своего отца, она любила не безумную Москву, но Русь с ее широкими полями и дремучими лесами, полными ягод и грибов, с убогими деревеньками вдоль дорог и разливающимся окрест всего этого благолепия колокольным звоном. В старину она молилась бы двоеперстно, прикармливала бы в своем тереме убогих, прятала бы в баньке страдников и попов-расстриг, стояла бы за устои, и в конце концов какой-нибудь упрямый фанатик вроде патриарха Никона упек бы ее в монастырь, где она, несломленная, умерла бы на соломе при родах, а внучка ее стала бы женой декабриста. Но наш век, век неофитов и буйства демократии, что в кубическом российском исчислении соответствует повальному распиздяйству, не дал ей испить чашу идейного мученичества.
На первом же фуршете, среди светящихся лиц сотрудников, между здравицами в честь руководства и взрывами алчного смеха, вызванного намеками на ожидаемые прибыли, вставала в жопу пьяная Алла и начинала свой спич словами: «Вот смотрю я на вас, уроды…» Далее следовало перечисление всего того негативного, чего много есть в менеджерах, секретаршах и генеральных директорах, добывающих хлеб насущный на просторах посткоммунистической России, но о чем говорить нет нужды, ибо и так все всё знают. Алла же, со свойственной ей страстью, говорила до тех пор, пока багровые от возмущения сослуживцы не пытались вывести ее прочь. В этот момент она наносила свой знаменитый прямой удар в челюсть, и начиналась тотальная свалка. Растрепанные женщины возмущенно кричали: «Распоясавшаяся хулиганка!» – а вскочившие мужчины, перемазанные салатами и облитые вином, изо всех сил старались вытолкать ее за дверь. Билась Алла как армянская царевна, которую свора янычар волокла в гарем турецкого султана. После этого, естественно, от ее услуг отказывались.
Между тем людей, стремившихся помочь ей с работой, становилось все меньше и меньше, главным образом потому, что она с трогательным постоянством рассказывала всем друзьям и знакомым о своих бранных подвигах, ожидая дружеского участия… Пока был жив отец, он время от времени подкидывал ей работенку в издательствах, связанную с оформлением открыток и детских книг, но с его смертью иссяк и этот источник дохода. Наконец она убедила какого-то славного и очень молодого человека, без памяти в нее влюбившегося, найти ей работу, обещав при этом и ему и себе соблюдать принятые нормы приличия. Но за день до формального собеседования случилось то, что я, со свойственной мне возвышенностью, назвал бы промыслом Неба, а Алла не иначе как гадством.
В ночном клубе, куда они на радостях заглянули со своим молодым другом, Алла честно пила только пиво. Оставив юношу в бильярдной, она пошла пописать. И там, в предбаннике туалета, ее ждала пренеприятнейшая встреча с одним из бывших коллег, с которым в свое время у нее произошла особенно безобразная сцена. То, что она назвала его при этом педиком писюнявым, ему было по барабану, но она выплеснула на его новый, трепетно купленный в самом настоящем бутике, а не на каком-нибудь засявканном вьетнамском рынке, пиджак за четыреста у.е. целую плошку кетчупа, сделав его пригодным разве что для походов в ближайший пункт приема стеклотары. Столкнувшись нос к носу, оба на мгновение оцепенели и скорее всего так и разошлись бы, не пообщавшись, но Алла сделала то, чего в подобных обстоятельствах делать никак не следовало, – она открыла рот. Меня она потом уверяла, что хотела только ласково с ним заговорить и даже извиниться за давешнее, как бы знаменуя этим начало новой жизни. Однако менеджер, сам до краев накачанный текилой, решил, что сейчас услышит ее дикий визг, которым она славилась не менее, чем своим хуком; воспоминания об испорченном костюме воспламенили его кровь, и он со всей силы дал ей в глаз. Алла молча съехала на пол, а менеджер, испугавшись содеянного, быстро покинул клуб.
Придя в себя, она тут же подскочила к зеркалу, но, как ни удивительно, следствием удара было только небольшое покраснение. Обрадовавшись этому, она еще некоторое время веселилась, а потом настояла, чтобы благодетель отправил ее на такси домой, так как ей, как хорошей девочке, нужно было выспаться к собеседованию. Утром глаз у нее не открылся и прикосновение к чему-то вздувшемуся, что было на его месте, вызвало у нее приступ жесточайшей мигрени. Она подошла к зеркалу и вторым глазом увидела огромный синяк, расползшийся чуть ли не на пол-лица. Вместо глаза была маленькая щелочка между лилово-черными слипшимися веками. И все это отчаянно болело. В каком-то столбняке она тщательно оделась, причесалась и поехала на собеседование. Секьюрити на вахте с особым вниманием проверили ее паспорт и даже позвонили по телефону с целью уточнить – ее ли в действительности ждут? Получив утвердительный ответ, они пропустили ее и долго смотрели вслед. Секретарша не удержалась и спросила: «Девушка, с вами все в порядке?» Тем не менее она впустила ее в кабинет. Там ее ждал человек, и как только она вошла, он машинально указал ей на стул. Она так и не услышала его голоса, потому что он только молча смотрел на нее, изумленно открыв рот. Алла сидела на стуле и тоже молчала. Потом она озабоченно встрепенулась и деловито спросила: «Ну, я пойду?» Человек молча кивнул. Алла встала и ушла. Вечером того же дня она послала своего молодого друга к такой-то матери…
Ее звонок мне был продиктован полным отсутствием денег и бременем долгов, которые выводили ее из состояния душевного равновесия. Она просила в долг двести долларов, и у меня как раз была такая сумма, но вдруг меня осенила великолепная идея еще раз воспользоваться ее беспомощным состоянием. Голосом негодяя я заявил, что дам ей двести баксов, если она сдаст мне за них квартиру на три месяца. Это предложение привело Аллу в сильнейшее негодование, и мне пришлось выслушать целый поток жалоб на маму, с которой невозможно жить, на скрягу-сестру, на каких-то совершенно незнакомых мне людей, якобы стремящихся использовать ее, и на сволочей-мужиков особенно. Я, однако, был тверд. Когда она наконец устала и замолчала, я потребовал, чтобы квартира была убрана. Поворчав еще немного, она согласилась. Так я переехал на «Каширскую».
Жить там, по нашей договоренности, мне остается еще месяца полтора, но я надеюсь, что, если посулю ей денег, она оставит меня еще на три месяца. Если, конечно, ее не доконала окончательно Изабелла Юрьевна. Несколько раз Алла приезжала по-дружески попиздить с чайком и тортиком и ревниво оглядывала свое жилище, видимо, ожидая увидеть развешанные повсюду бюстгальтеры и усеявшие пол презервативы. Но я даже пустые бутылки аккуратно отношу к мусоропроводу. Женщины пользуются моим гостеприимством не часто, я, во всяком случае, старательно избегаю затянувшихся отношений с появляющимися откуда ни возьмись зубными щетками, домашними туфлями и сохнущим в ванной бельем. Вот и Вера, голова которой покоится на моем плече, а рука – в руке, появится там, я надеюсь, один раз, не более. А впрочем, посмотрим.
Как пойдет, как пойдет…
Что-то я хотел у нее спросить…
– Вера, а у тебя дети есть?
– Я же тебе вчера рассказывала, – обиженно говорит Вера («Вот, еб твою мать, опять все забыл!»). – Ты у меня уже вчера спрашивал… У меня сын учится в десятом классе.
– Ах да, да!..
– Умный мальчик. Целыми днями сидит за компьютером. За уши не оттащишь. Скоро заканчивает школу. Надо будет нанимать репетиторов…
Вера вздыхает.
– Да, большие дети – большие проблемы, – цинично вздыхаю я вслед.
– А у тебя дети есть?
– Нет, слава Богу.
А сам думаю: «А может, и есть где-нибудь».
Может, потрахался когда-то в угаре с юной поклонницей, даже не понимая толком, с кем и зачем, а она оказалась студенткой библиотечного института, воспитанной на письмах Писемского к Вяземскому, залетела и потом родила у себя в Твери мальчика, но гордо не сообщила мне об этом, решив растить его сама со старухой мамой и мечтая, как однажды приведет его ко мне шестнадцатилетним красавцем и будет смотреть, как я обниму его, заплакав скупыми мужским слезами…
Ох-ох-ох…
Интересно, о чем я еще спрашивал вчера Веру? Спрашивал ли я, например, где она работает? Интересно было бы узнать, но вдруг я уже спрашивал? Совсем тогда обидится.
– Вера, я забыл, а ты чем занимаешься?
– А ты и не спрашивал. Я преподаю бисероплетение.
– Что?!
– Бисероплетение. Ну, знаешь, сейчас модно иметь дома такие плетеные коврики, салфеточки, абажуры на лампах. Некоторые носят плетеные украшения.
– Круто… И что – за это хорошо платят?
– Ну как сказать… Если клиентов много, получаешь долларов двести в месяц. Сейчас, правда, мало.
– И кто же учится бисероплетению?
– Девушки и женщины, иногда приходят и пожилые.
– А!
Бисероплетение! Что за хуйня?! Что вообще происходит? Надо срочно выпить. Догнаться коньяком.
Коньяк, полцарства за коньяк! О небо!
Надо будет остановиться у магазина.
Когда начинаешь пить с утра, главное – не останавливаться, пить до полной отключки. Не понижая градуса, не уменьшая дозы. Не растягивая пауз. Лучше перепить, чем недопить. Рюмка за рюмкой. Если остановиться, прервать процесс, весь день пойдет насмарку. Тело обмякает, душа просит покоя, клонит в сон. Кончается запал. Засыпаешь с облегчением, а ночью просыпаешься с дикой головной болью, чувствуя себя как раздавленная лягушка, так, словно сотня маленьких Майклов Флэтли всю ночь танцевала на тебе джигу. И чуть живая, скукоженная от озноба душа корчится в бездонном колодце похмельной тоски.
– Вера, ты коньяк пьешь?
– Иногда пью. Но на сегодня, я думаю, мне хватит.
Она тихо смеется.
– А я выпью.
– Пей, конечно.
Проезжаем центр.
Повсюду стада мокрых машин, бредут исхлестанные дождем пешеходы, в усыпанном каплями окне рябят фонари, вывески рекламы…
И где-то в этих дебрях Богушевская поет: «Москва – ты столица моего кошмара!»
И я готов с ней согласиться.
Весь этот город расплывается вокруг меня: на север, на запад, на юг и на восток. Вплоть до конкретной перди, которая геморроидальными шишками торчит на пути подмосковных электричек: Мытищи, Химки, Люберцы…
Город, заменивший нам нашу великую Родину, на которую все мы великолепно плюем – устало, издалека: в прозрачные воды Байкала, на раздольные приволжские степи, на бескрайнюю сибирскую тайгу, на величественный Кавказский хребет и во все омывающие ее моря и океаны.
За стеклом растекается весь этот город, ставший моей страной.
Страна Москва.
Она всех нас доконает: меня, Веру, Крюгера…
– Вера, а как вы познакомились с Крюгером?
– Я уже и не помню. Давно. Может, лет пятнадцать назад. На каком-то слете, в лесу. Крюгер тогда еще женат был на Вике.
– Это та, что теперь с фингалами ходит?
– А ты откуда знаешь?
– Крюгер рассказывал утром.
– А… Да, не повезло ей со вторым мужем. Но Крюгер тоже, конечно, не подарок. В него тогда все девчонки влюблены были. Он из чужих палаток не вылезал. Напьется и начинает амурничать со всеми подряд. Вика ревновала ужасно, прямо бесилась. Один раз выволокла его ночью за ногу из палатки какой-то девицы. Ну и дома, конечно, сцены устраивала. А с Крюгера все как с гуся вода.
– А с тобой он тоже амурничал?
– А он со всеми амурничал. Он на каэспэшных слетах первым парнем был. Помню, у костра полночи меня обхаживал. А я тогда только замуж вышла, была верной женой.
Вера фыркает.
– Так ты замужем?
– Да нет же, я тебе вчера говорила. Но ты вчера, конечно… Три года назад развелись, а живем в одной квартире.
– Что, и сын с вами живет?
– Нет, сын живет с родителями мужа, у них там места много. Большая квартира, сталинский дом.
– А почему бы мужу не переехать туда?
– А он, видите ли, не хочет, – злобно говорит Вера, – он, видите ли, имеет право жить там, где прописан… Ну, мы оба там прописаны.
– Снял бы квартиру…
– Он говорит: «У меня денег таких нет, чтобы снимать квартиру. Ты мне, – говорит, – не мешаешь». Зато он мне мешает… Тут недавно привел какую-то соплюху, крысу облезлую, чуть ли не школьницу, так она у нас три дня торчала, какую-то свою поганую музыку слушала. В ванну залезла на два часа – ни умыться, ни постирать. Я ему говорю: «А если я какого-нибудь бомжа приведу?» А он мне: «Приводи, мы с ним выпьем». – «Ты с этой старшеклассницей, – говорю, – под статью попадешь!»
Вера вся гневно передергивается.
– А квартира-то большая?
– Двухкомнатная. Кухня, правда, большая.
– Да, блин…
Тоже, вишь, живут люди.
– А разменяться не пробовали?
– По метражу не получается разменяться на две однокомнатные. Только с доплатой. Тысяч восемь долларов нужно. А где их взять?
– Понятно.
Едем среди каких-то индустриальных пейзажей. Пробок, слава Богу, нет. Видимо, скоро «Каширская». Спальный район с развитой инфраструктурой. Я бы, наверное, охуел от счастья, имей здесь свою квартиру.
– Он даже носки себе постирать не в состоянии. Навалит кучей на полу в ванной вместе с трусами и ждет, пока какая-нибудь его баба постирает. Устраивают прачечную. Я ему говорю: «Ты бы хоть машину стиральную купил», – а он смеется: «Тебе надо, ты и покупай». Находит себе прачек…
Вера возмущенно ерзает. Я твердо сжимаю ее руку.
Когда женщина начинает бранить своего бывшего мужа – это надолго. В таких случаях надо дать ей возможность высказаться, выплеснуть все одним бурлящим потоком, не пытаясь перебить, переменить тему. Соглашаясь и поддакивая. Сдержанно возмущаясь выходкам экса. Все равно придется выслушать полную версию превращения славного юноши-однокурсника в негодяя, мерзавца и тряпку. Иначе порционно рассказ этот будет периодически возобновляться в самых неожиданных местах в самое неподходящее время: в постели, с похмелья, во время творческих раздумий…
– И чем старше становится, тем больше его на молодых дур тянет. Где он с ними знакомится – ума не приложу. И денег-то вроде больших нету, и лысина уже, а вот поди ж ты! Или девочки такие пошли, что им уже все равно, с кем встречаться…
– Ну, с мужчинами в сорок такое случается, – примирительно говорю я, – это называется «комплекс гуру».
– Тоже мне – гуру!
Но отмазать мужа не удается. Вера завелась.
– Я одну вообще хотела из дома выставить. Совсем еще ребенок. Привел! Это же просто какой-то притон с малолетними. Подсудное дело… Я ее спрашиваю: «Сколько вам лет, барышня?» А она мне отвечает своим писклявым голосом: «Да уж поменьше, чем вам». Дрянь такая…
А я и сам в последнее время стал как-то западать на совсем юных. Лет шестнадцать – двадцать, а то и моложе. Чем моложе, тем сильнее реагирую. Раньше такого не было. Удивляюсь сам себе.
Или это возраст? Комплекс гуру?
В молодости я с ума сходил по женщинам лет на пятнадцать старше. Чувствовал в них изюминку, опыт и тщательно скрываемое бесстыдство. Страшно боялся девственниц. Да и сейчас еще боюсь. Есть в этом что-то уж совсем физиологическое. Патологически.
Плоть и кровь!
За все время у меня была только одна девственница, да и та ненормальная.
Совсем некрасивая девушка, лет двадцати трех, ходила постоянно на мои концерты, всегда сидела в первом ряду и смотрела на меня горящим взором. Каждый раз в новом наряде. Я ее уже узнавал, стал приветствовать как родную. Спросил, как зовут. Оказалось, не без изыска – Жанна. Тоже пишет стихи. Естественно, наполовину еврейка. В общем, весь тусовочный набор. Со временем преподнесла мне несколько раз пурпурные розы, потом стала дарить «Московский» коньяк. Я был благодарен ей. Этот коньяк я потом выпивал со знакомыми дамами бальзаковского возраста. И вот однажды в буфете алферовского «Поворота», во время очередного послеконцертного отгяга, она подсела ко мне и, завязав какой-то пустячный разговор, послуживший преамбулой, попросила избавить ее от девственности. Помочь стать женщиной.
Я даже поперхнулся ее «Московским»…
Я изумился. Я обалдел. Я восхитился: «Какое мужество!»
Она смотрела на меня своими горящими полуеврейскими глазами.
Я пролепетал что-то. Но она ждала. Оторопело я согласился. На другой день я как дурак, почему-то с пурпурной розой, приехал по указанному адресу. Это было в жопе, на станции «Молодежная». Жоповское Кунцево. Квартира ее подруги. Там меня ждали изысканный стол с шампанским и армянским коньяком и Жанна в пеньюаре. Горели две свечи. С тех пор я ненавижу, когда на столе горят свечи. В России это не интим, в России это пошлость. Я так ничего толком и не поел, только пил. Пытался шутить. Но было ясно: она ждет. Обжигая меня своим взглядом. Это был самый ужасный секс в моей жизни. Я бы даже не назвал это сексом. Это было издевательство надо всем, что во мне было мужского.
В течение часа хуй просто не вставал. Что бы она ни делала. От ее минета становилось только хуже. Помню холодные жадные губы. Хуй был весь как измочаленная тряпка. От жадных прикосновений ее губ и пальцев он испуганно сжимался.
Мой бедный хуяшечка!
Я старательно мял ее неслабые, надо сказать, груди, массировал клитор так, что онемел палец. Она была в восторге. Я был ее первым мужчиной. Но, черт возьми! – я не мог возбудиться. Она была некрасива, не в моем духе, в ней не было изюминки, к тому же я был недостаточно пьян. Это становилось невыносимым.
В конце концов я разозлился на себя, на нее, на хуй, на весь этот поганый мир.
«Вставай раком!» – заорал я.
Она радостно встала. Я стоял над ней и мастурбировал. Полчаса. Представляя на ее месте Шэрон Стоун, Мэрилин Монро, одну замужнюю даму, которая никак не хотела мне давать; вспоминая самые вопиющие сцены из просмотренной мною порнухи; моля Бога, чтобы это все поскорее кончилось. И хуй наконец встал! Мой мужественный Мася не подвел своего папульку. Но это был еще не конец…
Я всегда подозревал, что лишение девственности – процесс не из приятных, но такого я не ожидал. Во всем этом было что-то шахтерское, только вместо кайла, или как там это у них называется, в моих потных ладонях был зажат член. Я долбил им, врезался, вгрызался, врубался, ввинчивался и что только не делал, но ворваться внутрь не мог. Это длилось долго, очень долго… Иногда мне казалось, что там не плева, а кость, и я начинал сомневаться: а туда ли я тычусь? Я вынимал мой несчастный исцарапанный хуй, ни на секунду не прекращая яростно мастурбировать, чтобы он, не дай Бог, не упал, а другой рукой подносил свечу и пристально рассматривал диспозицию: не в анус ли я впендюриваю? Да нет, блин, вроде туда, куда надо. «Ах ты, Господи Боже мой, что же делать?» – судорожно думал я. Этим бастионом не овладела бы и стенобитная елда самого Джима Холмса. Судя по ее возгласам и стонам, она просто тащилась от всего этого. Я изнемог, меня начала охватывать паника, но в этих обстоятельствах мне все-таки хотелось остаться мужчиной… Наконец я рассвирепел и злобно зашипел: «Если ты не расслабишься, я тебе бутылкой по башке дам!» Видимо, в моем голосе было что-то такое, что ее по-настоящему напугало. После этого со второй попытки я ворвался внутрь и, услышав причитания, понял, что дело сделано.
Как я был счастлив!
Она тут же побежала в ванную, а я одним махом допил полбутылки коньяка, моментально оделся, крикнул через дверь в ванную, что мне, к сожалению, пора, и вылетел из квартиры.








