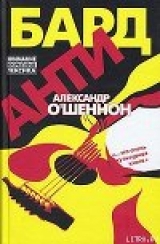
Текст книги "Антибард: московский роман"
Автор книги: Александр О'Шеннон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Суббота! Начало восьмого вечера! Ничего не понимаю… Сколько, казалось бы, всего произошло! А как же тогда… Нет, надо выпить.
Голый, оставив ком одежды на полу в комнате, выхожу на кухню. Да, что-то я в последнее время совсем… изнемог, что ли? А может, допился? Или заебали все?.. Ставлю теплый еще кофейник (вон даже кофейник не остыл!) на газ. Он тут же начинает тонкогласно петь. Голова тяжелая, но боль почти прошла. Я обессиленно падаю на табуретку и строго смотрю на бутылку. Да, надо выпить и расслабиться. Я киваю и наполняю мензурку. Вера в ванной тихонько напевает, видимо, что-нибудь материнское из Долиной, пытаясь, наверное, хоть что-то сделать с собой перед зеркалом.
Суббота!.. Неужели суббота?
Я выдыхаю и, страшно сморщившись, одним махом выпиваю.
Бр-р-р-р… Какая гадость! Лью в себя пепси прямо из бутылки. Вставляю в рот сигарету и прислоняюсь раскаленным виском к стене. Старею, старею… Пение обрывается.
– Андрюша, а мы к Алферову едем?
– Да, надо ехать…
– А мы успеваем?
– Успеваем, успеваем… Ты давай выходи, а то время поджимает. И смотри об пилу там не ударься…
Я, значит, и не спал вовсе. Просто отключился и на автопилоте давай хуячить!.. Я решительно беру бутылку и выливаю остатки в мензурку. Почти полная. Лицо горит, голова гудит, но не болит. Надо будет еще выпить кофейку. Вода уже, кстати, кипит. Я встаю, выключаю газ и стоя выпиваю коньяк. Жадно допиваю теплую пепси из бутылки. Вялость и томность во всем теле, мозги – как вата.
– Вера! – ору я. – Чайник вскипел! Выходи, нам надо торопиться.
Из ванной доносится невнятное бормотание.
Ох-ох-ох… Что-то мне надо было… Что-то сделать…
Морщась, возвращаюсь в комнату и тупо смотрю на валяющуюся одежду. Гадость какая – вся мокрая, как же я это надену? Бр-р-р…
Я направляюсь в угол, где на венский стул свалены мои остальные вещи. Почесывая зябнущий зад, роюсь в этой куче и первое, что выуживаю, – не совсем свежие, но еще не затвердевшие носки, один черный, а другой серый, но это ничего… Потом мне попадается скатанная в шар байковая рубашка, которую я хотел, да забыл отвезти постирать домой. Я встряхиваю ее, осматриваю, нюхаю. Да, блин… Ладно, под свитером ее все равно никто не увидит. Мои вторые джинсы висят на спинке стула, кое-где расцвеченные, как палитра, пятнами от кетчупа, коньяка и оброненной на них жирной пищи. Их я тоже хотел постирать, да все как-то руки не доходят… Выбирать, впрочем, не из чего – больше у меня никаких штанов нет, а эти по крайней мере сухие. Пипл схавает. Из ванной раздаются возгласы Веры, в которых слышится досада и раздражение. Ну что там еще?!
– Вера, – кричу я, отколупывая когтем с джинсов присохший лук от датского хот-дога, – выходи, нам еще кофе попить надо и ехать… Теперь будет целый час копаться, – сердито бормочу я.
Так, а трусы? А вот трусов-то у меня больше и нету. Вторые и последние трусы, с пропуканной дырочкой на попе, я оставил дома, когда возил стирать их в машине. Что же делать? Влажные надевать противно, Мася может озябнуть… А, хрен с ним, поеду без трусов!..
– Вера-а-а, – зову я нудным голосом, – выходи-и-и…
Я натягиваю рубашку, и трехмесячная нестиранность карябает мне кожу. Прямо хоть женись опять, ей-богу! По крайней мере рубашки будут постираны… Надеваю носки и разминаю их пальцами ног. Для одного раза сойдут. Залезаю в джинсы и запихиваю в них бесчувственного Масю.
Он похож на благодушного насосавшегося клопа. Авось, подлец, не замерзнет.
– Вера! – кричу я грозно.
Я возвращаюсь на кухню, беру с табуретки свитер и надеваю его. Мне становится жарко. И все-таки я пьян. Надо кофейку…
– Андрей!
Несчастный и вместе с тем гневный голос. В дверях стоит Вера. Одетая, застыв как на показ. Я смотрю на нее.
– Ну, ты готова? Сделай, пожалуйста, нам кофе. Мне чего-то тяжко…
– Андрей, я не могу в таком виде ехать!
Я внимательно смотрю на Веру. Пристально вглядываюсь.
– А в чем дело?
Вера взрывается:
– Но ты посмотри на меня! Весь костюм измят, как будто я в нем спала, в каких-то разводах, пятнах, да к тому же еще и мокрый. Я же все-таки не домой еду, там люди будут!
Я вглядываюсь, даже подхожу ближе. Действительно… а впрочем…
– Не знаю, – искренне говорю я, – по-моему, ничего страшного нет… Ну, немножко помято…
Вера смотрит на меня злыми глазами.
– Андрей, ты в самом деле ничего не понимаешь?! Я же женщина… Я не хочу выглядеть, как вокзальная шлюха. Там могут быть знакомые…
У меня опять начинает болеть голова.
– Ну а что делать-то?
– Не знаю… У тебя утюг есть?
– Утюг?
Вот уж не знаю, есть ли здесь утюг… Никогда здесь утюга не видел. Может, и валяется где-нибудь в шкафу, но я в шкаф не заглядываю, там свалены какие-то Аллины тряпки, от которых исходит терпкий запах ее похождений. Никакого желания копаться там и искать утюг у меня нету.
– Нет, утюга здесь нету. Она, наверное, взяла его с собой.
У Веры в глазах стоят слезы. Она начинает молча насыпать кофе в чашки. Да-а-а, что же делать-то? Может, предложить ей отправиться домой, увидимся, мол, в другой раз… Наша встреча, по-моему, на сегодня исчерпала себя. Даже более чем. Ага, а на какие деньги, интересно, я поеду в «Поворот»? На свои как-то ломает. Это во-первых, а во-вторых, кто после концерта потащит меня домой? Не зануда же Рита. Она, может, и не прочь была бы, только мне это на хуй не нужно. В самом буквальном смысле. Нет, так не годится. Видимо, Богом назначено мне закончить этот день с Верой.
Вера сердито стучит ложкой, накладывая мне сахар.
И тут меня озаряет блестящая мысль.
– Слушай! – восклицаю я, обнимая ее сзади. – А ты не снимай пальто! Зачем тебе снимать пальто? У тебя очень красивое пальто, такое… во французском стиле. Скажешь, что тебя знобит… Некоторые так и сидят в пальто – и в баре, и в зале…
Вера обмякает в моих руках. Я крепко прижимаю ее к себе и целую во влажный затылок.
– Правда-правда! Ну зачем тебе ехать домой? Мы же собрались на концерт! Подумаешь, костюм!.. Посидишь в пальто. Это же не Большой театр, в конце концов… К Алферову вообще бог знает в чем приходят. Я и сам – посмотри, во что одет, а мне еще со сцены петь. Там все свои люди, ты же знаешь… Да у тебя пальто лучше, чем всякое платье! И потом – мне хотелось бы, чтобы ты поехала со мной. Мне без тебя будет… как-то неуютно. Едем, Вера! – опаляю я ее затылок жарким дыханием. И это чистая правда, господа!
Вера слушает, замерев, опустив голову, держа в руке ложку. Но я больше ничего не говорю, и она спрашивает:
– Ты правда хочешь, чтобы я с тобой поехала?
Ну что на такое ответишь?!
– Конечно! – отвечаю я, прижимая ее еще сильнее и целуя во влажный затылок.
Вера оборачивается ко мне, обнимает с ложкой в руке и целует в губы. Я с бодрой готовностью отвечаю. Как будто только и ждал этого. Да! Да! Стараясь запихнуть язык как можно глубже. Для страстности. А между тем нам надо ехать. Да, и что-то мне нужно было… Забыл – что… Вера начинает слегка вибрировать в моих руках. Видимо, не имея ничего против ускоренного, как перемотка, секса на кухне. Закрепиться на завоеванной территории. Убедиться.
Но мне бы не хотелось.
Может быть, потом.
Я извлекаю изо рта Веры язык, сглатываю набежавшую слюну и, отстраняясь, восклицаю:
– Поедем!
Я держу Веру за руку, и мы смотрим друг на друга безумными глазами, как комсомольцы из фильмов тридцатых годов, собирающихся ехать из Москвы строить Комсомольск-на-Амуре.
Вот-вот грянет марш.
– Только не напивайся, пожалуйста.
– Да-да, конечно! – Я возмущен самой мыслью об этом.
Иногда я могу быть страшно убедителен.
– Тебе сколько сахара?
Домашним таким, успокоенным тоном. Кажется, договорились. Ну, слава Богу!
– Две с половиной. Попьем да поедем.
Так… ладно. Что-то мне нужно было… Что-то я хотел… О Господи!.. Я застываю в дверях комнаты и окидываю ее задумчивым взором. В углу – то ли комод, то ли буфет, возле которого мне привиделся бородатый призрак Николая Степановича; приземистый сервант из семидесятых, выполняющий роль книжного шкафа, заставленный макулатурными изданиями от обоих Дюма до Дрюона и нудными произведениями чахоточных русских гениев из школьной программы – Белинского, Чернышевского, Добролюбова; огромный, с тремя покосившимися незакрывающимися дверцами шкаф, набитый слежавшимся тряпьем, утерявшим какую-либо сексуальную принадлежность, издающим запах умершей жизни, пыли и отравы для тараканов; круглый «трофейный» стол на монументальных изогнутых ногах, вросших в пол так, что невозможно сдвинуть, с выцветшей, исцарапанной поверхностью, на которой, посередине, с отстраненным достоинством Библии лежит черный том джойсовского «Улисса». Моя расхристанная койка…
– Кофе готов!
– Вот черт… – бормочу я, возвращаясь на кухню. Моя чашка дымится между пустой бутылкой «Гянджи» и мензуркой. Вера сидит напротив и смотрит на меня.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает она участливо.
– Да вроде ничего. Только голова тяжелая. Да, что-то я явно перебрал, – говорю я смущенно. – Вот кофейку выпью, может, полегче станет… Слушай, а сколько я спал?
– Спал? А где ты спал?
– Ну там… В ванной…
– В ванной?
– Да… Я разве на унитазе не спал? Я, помню, сел на унитаз и заснул…
Добрые глаза Веры. Ее ласковая улыбка.
– Нет, ты не спал… Ты посидел немножко, покурил с закрытыми глазами, а потом вдруг вскочил и потащил меня мыться. Я не успела одежду скинуть… Ты там два раза чуть голову себе не расшиб, я даже испугалась.
Нежный румянец окрашивает ее щеки.
– Мыться? – хмуро спрашиваю я, постукивая пальцами по столу.
– Да. А потом начал меня целовать. Ну, в общем…
Вера пожимает плечами.
– Та-а-ак… Значит, я не спал…
Черт знает что такое! Ничего не помню. Ну ладно…
– Ну ладно, – говорю я. – На самом деле все было классно. Мы даже успеваем к Алферову.
В несколько жадных глотков я одолеваю обжигающий кофе. Эффекта просветления, однако, не наблюдается, и кажется, что голова тяжелеет еще больше прежнего. Глаза опять начинают слипаться. Такое случается, когда кофе пьешь во время затяжной пьянки – действие его оказывается прямо противоположным ожидаемому. А впрочем, какого еще действия можно ожидать от кофе под названием «Русский продукт»?.. В паху ощущается некое слабое бездуховное томление, напряжение, шевеление…
Так, надо ехать.
– Ну что, – бодро говорю я, поднимаясь, – поехали?
– Гитару не забудь взять.
Я застываю, открыв рот.
Гитара! О! Вспомнил! Слава Богу!.. В возбуждении я кидаюсь в комнату, крича на ходу:
– Вспомнил!.. Мне же надо взять кассеты к Алферову!
Кассеты должны лежать в сумке, а сумка… Где сумка? Я вчера в «Тамбурине» с сумкой был или без сумки? Нет, в «Тамбурине» я был с гитарой, значит, без сумки, это для меня слишком – таскать гитару да еще и сумку. В «Тамбурине» кассеты покупают плохо, они лучше пропьют лишние пятьдесят рублей, чем купят кассету, но я взял на всякий случай несколько штук, положил их в карман чехла, только вот убей – не помню, продал ли я хоть одну или нет… Ладно, это уже не важно. Так, а где сумка? Я заглядываю под стол и вижу сумку. Я выволакиваю ее оттуда и открываю.
– Вера, одевайся, я сейчас…
Сумка набита кассетами, а сверху лежит пухлый потрепанный том «Молодой гвардии». Я обнаружил его в серванте между книгой о Кибальчиче из серии ЖЗЛ и «Консуэло» Жорж Санд и обрадовался, как старому другу. Дело происходило утром, я был с жестокого похмелья, и мне хотелось почитать что-нибудь совсем простое, суровое – о мужестве и подвигах советских людей, что-то вроде «Повести о настоящем человеке» или «Время, вперед!» Катаева, что-то светлое, крепкое и прозрачное, как стакан водки, без всех этих болезненных умственных выкрутасов нашего охуевшего поколения. Обрадовавшись находке, я тотчас открыл в конце и нашел заветные страницы, которыми зачитывался еще в школе, с презрением пропуская все остальное.
Приятно было под холодное пиво с сигареткой вновь встретиться со своими любимыми героями: отвратительным фашистом Брюкнером, воняющим, как бомж, и юными неустрашимыми молодогвардейцами, которых этот самый ужасный Брюкнер нещадно мучил в застенках. Сцены чудовищных пыток, описанных Фадеевым со всей задушевностью тихого алкоголика, всегда приводили меня в священный трепет перед каким-то нечеловеческим упрямством юных патриотов (предполагающим все-таки, на мой взгляд, какое-то разумное объяснение вроде низкого болевого порога, как у молчаливого героя Америки Джона Рембо) и вызывали горькое сознание того, что сам я на такой героизм не способен; поднеси к моему носу старина Брюкнер какую-нибудь плетку-семихвостку или раскаленный докрасна шомпол, я тут же раскололся бы, выдал все подполье и сам побежал бы показывать гестаповцам конспиративные явки.
А потом я стал бы полицаем, классическим предателем Родины (изящные французы окрестили бы меня коллаборационистом), и у меня были бы: низкий угреватый лоб с залысинами; глубоко посаженные маленькие бегающие глазки водянистого цвета; большой безгубый рот с гнилыми лошадиными зубами; длинные, до колен, обезьяньи руки; кривые короткие ноги с непомерно огромными (как у Гитлера!) ступнями; скошенный, почти отсутствующий подбородок дегенерата и выпирающее пузцо, всегда набитое вырванным из голодных ртов салом. В общем, полный набор… Приспешники и прислужники оккупантов, на пару с мордастым бургомистром мы бы творили беззакония, глумились над вдовами и сиротами, чтобы только заслужить одобрительный хохоток фашистов: «О я, я! Охо-хо! Так и следовайт делайт!» И я бы лично, своими собственными руками с узловатыми пальцами и обгрызанными ногтями, задушил маленького цыганенка на глазах у приплясывающего от нетерпения Брюкнера, когда тому приглянулся его золотой зуб.
Я бы жил с гулящей солдаткой, осведомительницей гестапо, и мы бы с ней пропивали пожитки, награбленные у обывателей. Подпольный райком и партизаны, рыскающие по окрестным оврагам, заочно приговорили бы меня к смерти, но я, своим звериным чутьем почуяв опасность, ухитрился бы избежать неминуемой кары, уйдя с отступающими немцами, а мою подругу, с приходом воинов-освободителей, разорвали бы на главной площади простоволосые русские женщины. Позверствовав еще немного в Европе, я бы попал в плен к американцам, но прикинулся бы угнанным глухонемым поляком и, обманув бдительность тупоголовых янки, неведомыми путями с целой толпой беглых нацистов и штурмбанфюреров, распевающих на борту das Boot «Хорста Весселя», добрался бы до Аргентины.
Там по протекции диктатора Перона я бы поступил на службу к крупнейшему аргентинскому латифундисту дону Ицхаку Гольденвейзеру и стал бы лихим гаучо, заслужив своим веселым нравом, бескорыстием и добродушием любовь всех местных пеонов, маньянилос и гуантанамейрос. «Наш русский каудильо» – так ласково называли бы они меня.
Выказав чудеса храбрости, я бы спас от стаи койотов любимый крапчатый табун дона Ицхака и в одиночку расправился бы с этими кровожадными чудовищами пампасов. Хозяйская дочь, голубоглазая красавица Рахиль, до того много лет воспитывавшаяся в монастыре кармелиток близлежащего городка Сан-Хуан-и-Педро, столицы этого обширного скотоводческого края, славной своим собором Св. Гонзалеса Капричикоского с готической папертью, влюбилась бы в меня без памяти, и однажды мы бы упали перед ее отцом на колени, умоляя не разлучать наши юные сердца. И седовласый статный старец, сам втайне лелеющий мысль о таком союзе, воскликнув: «Я не желаю тебе лучшего мужа, дочь моя!», со слезами на глазах благословил бы наш брак…
После загадочной смерти старого дона, оплакиваемого всеми пеонами, маньянилосами и гуантанамейросами, я бы сделался миллионером и рачительным хозяином, расширившим и без того раздольные владения Гольденвейзеров до самого Парагвая, а жена моя, ставшая к тому времени матерью трех прелестных детей, прославилась бы на всю округу своей добротой и мягкосердечием, целыми днями пропадая в хижинах чернокожих рабов, где с помощью собственноручно приготовленного чудодейственного бальзама из клубней маниоки исцеляла бы их ужасные раны, нанесенные жестокими надсмотрщиками-португальцами.
Мы были бы счастливы, как только могут быть счастливы люди, проводящие свои дни не в легкомысленной праздности, а в кропотливых радостных трудах и заботах друг о друге и о многочисленных знакомых фашистах, нашедших под сенью нашей латифундии уютный кров, достаток и искреннее участие, но тоска по Родине не оставляла бы меня.
Ежедневно видя в глазах моих затаенную печаль и понимая всем своим любящим сердцем, что со мной происходит, Рахиль собрала бы все свое мужество и сама предложила бы мне посетить Советский Союз. Провожая меня в дорогу, гордые индейцы-арауканы зажарили бы самого тучного быка с моих пастбищ, а набожные эсэсовцы и зондеркомандовцы отстояли бы всенощную за мое счастливое возвращение. После пластической операции, проведенной в гостеприимной клинике доктора Менгеле на реке Амазонке, став высоким стройным красавцем с элегантной проседью на висках и лучезарной белозубой улыбкой, под личиной дружественного румына, профессора истории, пишущего труд про советских подпольщиков, я бы приехал в свой родимый Краснодон. Там я первым делом, не сдержав скупых мужских слез, возложил бы цветы к памятнику молодогвардейцам; немного постоял бы в глубокой задумчивости перед бывшим зданием гестапо, превращенным коммунистами в облупленное районное отделение милиции; не спеша прошелся бы по кривым грязным улочкам, с улыбкой вспоминая годы бесшабашной юности; не узнал бы свою старую слепую мать, случайно столкнувшись с ней в очереди за водкой; пожелав остаться неизвестным благодетелем, одарил бы каждого из когда-то преданных мною, но чудом выживших одноклассников, спившихся и убогих, похожих на столетних сталеваров, среди которых было бы немало заброшенных государством героев войны, великолепным бунгало с бассейном взамен их жалких полуразвалившихся лачуг и, уже уезжая к заждавшимся дома жене, детям и соратникам-нацистам, чтобы через три года благодаря волеизъявлению народа стать сенатором новой, демократической Аргентины, я бы подумал удивленно: «И какая же все-таки конкретная жопа этот Краснодон!..»
Да, я еще забыл сказать, что мой старший сын стал бы одним из основателей Microsoft, второй – великим пианистом, дочь – последней и любимой женой Дональда Трампа, а самый младший, от мимолетной связи с сеньорой Гевара, названный мною Че, что на языке индейцев-арауканов означает Незаконное Дитя, Рожденное Тем Не Менее В Любви, Портреты Которого Потом Будут Изображать На Майках, в свое время отличился бы на Кубе, учинив там хуй знает что…
Прочитав «Молодую гвардию», чувствуешь себя мелким и ничтожным, слабым и трусливым, совсем не сыном своей Великой Родины.
Положив любимую книгу на койку, я достаю десять своих кассет, записанных под лейблом порто-студии старого пьяницы Хренова, полурокера-полубайкера, в облезлой коммуналке, с многообещающим названием «Андрей Степанов, The best of…» и думаю: «А не взять ли еще?» А вдруг именно на сегодняшнем концерте вопящая толпа поклонников жанра ринется ко мне, сметая все на своем пути, чуть не затоптав Алферова, умоляя продать кассету, а те, кому не досталось, будут рвать на себе волосы, рыдать и смотреть на сияющих счастливцев полными ненависти глазами и униженно предлагать им двойную – нет, тройную! – цену. И на следующий мой концерт они приведут женихов и невест, родителей и родственников, друзей и детей, и я, потный и вдохновленный, уставший, но довольный, скромно улыбаясь и остроумно шутя, целый час буду раздавать автографы…
Подумав, я беру еще две и складываю в лежащий на койке пакет. Я продаю кассеты по пятьдесят рублей, по цене, которую я придумал сам, утверждая при этом, что она рыночная, но если мне предлагают сорок, я продаю и за сорок, а если нет сорока, то я не жадничаю и продаю за тридцать, я бы и за двадцать отдавал, но двадцать мне никто не предлагает – видимо, стесняются. А однажды я обменял «The best of…» на пачку «Кэмела», в которой не хватало двух сигарет, да еще подписал на обложке: «С самыми хорошими пожеланиями!»
Вера ждет меня в коридоре уже одетая. Действительно, очень хорошее пальто и, кажется, впрямь во французском стиле. Во всяком случае, оно ей идет и в нем вполне можно сидеть на дурацком концерте в «Повороте».
– А гитара? – спрашивает Вера, когда я, кряхтя, надеваю ботинки.
– Лень тащить. Я там возьму у кого-нибудь, Должен Левитанский быть, он мне всегда дает… Хочешь, я тебе кассету подарю? – предлагаю я благодушно.
– А ты мне уже вчера подарил в «Тамбурине».
– Да-а?.. А я и не помню… Ну и хорошо.
– Приеду домой, послушаю… У тебя нога не болит? Ты так сильно ударился…
– Нет, уже прошла. Да, достала меня эта пила. Ума не приложу, что с ней делать.
– Ты же ее выкинуть хотел…
– Да, выкинуть… Как же я ее выкину, если она не моя? Нужно будет сказать Алле, может, она ее продаст. Какому-нибудь дачнику.
Я надеваю куртку и ощупываю карманы. Вроде все на месте – паспорт, сигареты, ключи. Без паспорта в Москве лучше не бродить. Полицейское, ебенать, государство.
Я натягиваю шапочку-пидорку, беру пакет с кассетами и говорю даже с некоторым облегчением:
– Ну, пошли.
Пропускаю Веру вперед и закрываю дверь. На лестнице, между этажами, стоят два хилых на вид подростка и сосредоточенно курят, приглушенно хихикая. Я принюхиваюсь. Еб твою мать, кажется, травка! Точно, травонька! Так вот они, местные растаманы, Единственные, наверное, нормальные люди в этом сраном доме… Ну и еще я, конечно. Со страшным грохотом приходит лифт. Мы боком запихиваемся в гробообразное пространство, захлопываем дверь и начинаем целоваться. Я задумчив и собран. Настороженно прислушиваюсь к Масе. Мася не подает никаких признаков жизни. И это хорошо. Вера целуется увлеченно, от всей души, пытаясь пощекотать своим твердым, как палец, языком мои гланды. Скрежеща, лифт останавливается. Вера подхватывает меня под руку, и мы торжественно, как Виндзоры, шествуем к дверям.
На улице то, что я и ожидал – дерьмовая погода. Сыплет мелкий дождик, в оранжевом свете фонарей антрацитово блестят лужи. Утренним снегом и не пахнет. Я жадно вдыхаю сырой холодный воздух в надежде, что в голове немного просветлеет. Надо дойти до метро и там поймать тачку, если повезет – битую «копейку» с бомбилой-молдаванином, нелегальным эмигрантом, весь день в жутком подвале в районе Капотни производящим контрафактную водку на основе осетинского спирта и водопроводной воды в компании простодушных полукриминальных таджиков и свирепого надсмотрщика-аварца с налитыми кровью кавказскими глазами. За бурдюк присланной стариками родителями домашней фетяски кровожадный аварец нехотя согласился не стрелять в местную прикормленную крыску, единственное близкое молдаванину существо в этом холодном городе, названную им мстительно, но ностальгически – Смирновым. С трогательной старательностью зверек взбирается на плечо меланхоличного гастарбайтера и с опаской поглядывает оттуда черными бусинками глаз на кривящуюся в презрительной ухмылке бандитскую рожу аварца, владельца битой «копейки», которую он сдает в аренду самым старательным эмигрантам, чтобы те зарабатывали ночным извозом на откупное мздоимным московским милиционерам… Не знаю – так или не так живут в Москве нелегалы молдаване, но то, что после обретения взыскуемой независимости они стали самым неприхотливым народом Европы, – точно. Они берут на треть ниже принятой стоимости и готовы везти в любую московскую пердь, если хотя бы приблизительно знают, где она находится. За рулем они молчаливы и задумчивы, а о чем думает молдаванин – один Господь знает. Однажды они все вот так же крепко задумались у себя в Молдове, думали-думали, да и выбрали в президенты русского коммуниста Воронина. Прямо скажем – довольно странное решение, особенно после стольких лет неутихающих страстей по поводу своего древнеримского прошлого; восторгов, связанных с созданием на зависть всей Европы Поташа Маге, вековой тщетной мечты неизвестных молдавских мыслителей и просвещенных румынских бояр; размахивания триколором на площадях, неизменно кончавшегося массовой зажигательной пляской под искрометные звуки жока; просранной войны с Приднестровьем и, как следствие всего этого, sic transit Gloria mundi. Я так и не понял, на хуй им нужна была эта независимость?.. Впрочем, я даже знавал одного молдаванина, который гордился тем, что он молдаванин.
Когда я узнаю по акценту молдаванина, я разговариваю властно и спесиво, закуриваю без разрешения, но в пути понимающе молчу, чтобы не отвлекать человека от тяжелых дум.
Переплюнуть молдаван по части дешевизны и непуганности при упоминании места назначения способны только среднеазиаты. Они вежливы и словоохотливы – правда, из того, что они говорят, я половину не понимаю и еду кивая. Они охотно соглашаются везти за полцены хоть к черту на кулички, но есть одна проблема, которая делает всю приятность общения с ними совершенно бесполезной, – они никогда никуда не знают дороги и просят, чтобы им показывали каждый поворот. Я сам никогда не знаю дороги, и, видя мое разочарованное лицо после бесплодных попыток поймать машину в три часа ночи где-нибудь в ужасных выхинско-люберецких дебрях с благим намерением добраться наконец до дома, они искренне огорчаются и сочувствуют, цокая языками.
С кавказцами тоже можно договориться, хотя сделать это гораздо сложнее, чем с молдаванами и узбеками. Чтобы отличить грузина от армянина, а армянина – от азербайджанца, не нужно заканчивать факультет антропологии или быть профессиональным расистом вроде доктора Эйхмана, просто следует запомнить несколько отличительных признаков. Армяне, например, имеют круглые лица, большие, иногда вытаращенные, глаза и брови идеальной полукруглой формы, как у античных масок; кроме того, если армянин большой и толстый, то он всегда чем-то похож на академика Аганбегяна, а если тщедушный – на Шарля Азнавура. Кожа у них темнее, чем у грузин, но светлее, чем у азербайджанцев. Армяне – второй по талантливости и гениальности народ на Земле после евреев, так же как и евреи, мучимый всеми кем ни попадя на протяжении веков, но это и неудивительно – и у тех, и у других совершенно несносные характеры. Однако не все они, конечно, Арамы Хачатуряны и Армены Джигарханяны – древняя земля Армении рождает немало и мошенников всех мастей. Грузина легко можно узнать по сплющенному затылку (природу возникновения данного явления мне не удалось выяснить до сих пор), как правило, лысому, потому что грузины лысеют раньше и чаще других народов Закавказья (зашкаливающее количество мужских гормонов). Носы у них не такие орлиные, как у соседей, они скорее греческие, с аристократическими горбинками, отчего я считаю, что грузины – самый красивый народ в Евразии, как югославы – в Европе, и волосы у них в отличие от армян и азербайджанцев часто бывают светлые. Еще не родился на свет тот грузин, который не упомянул бы в пустячном разговоре о том, что всякий настоящий грузин обязательно должен быть рыжеволос и голубоглаз и изначально все грузины были именно таковыми, но в связи с постоянными набегами недоразвитых воинственных брюнетов – сначала персов и арабов, а потом турок – нация значительно потемнела. Впрочем, один мой знакомый турок, имеющий отношение к театральным кругам Анкары, с горечью уверял меня, что турки-сельджуки на заре веков тоже все были сплошь голубоглазые блондины или по крайней мере рыжие, как обожаемый всяким турком Ататюрк, но обилие завоеванных арабов сделало свое черное дело. Может быть, именно поэтому турки терпеть не могут арабов, хотя при этом весьма дружелюбно относятся к евреям, которые, в свою очередь, тоже утверждают, что во времена Ветхого Завета иудеи были рыжими и голубоглазыми, а сам Моисей – так прямо златокудрым красавцем вроде бога Тора, но впоследствии филистимляне, римляне и все те же вездесущие арабы основательно испортили им кровь. То же самое я слышат от татар, которые, оказывается, вовсе никакие не татары, а булгары – рыжие и голубоглазые, от осетин, памирских таджиков, персов, пуштунов и даже, как это ни странно, от индусов. Пожалуй, одни негры гордятся тем, что они черные, но что им, бедолагам, еще остается… Мир оказался просто переполнен тайными арийцами, но эти светлые воспоминания наводят меня на подозрение, что все человечество произошло от орангутангов. Что касается азербайджанцев, являющихся теми же турками, то это именно для их идентификации было придумано емкое, но оскорбляющее человеческое достоинство определение «лицо кавказской национальности». Азербайджанец – воплощение Кавказа и всех турецких завоеваний Малой Азии. Он смугл, щетинист и настолько типично восточен, что практически неотличим от дагестанца, черкеса, чеченца, курда, ассирийца, араба, друза, иранца, албанца, ливанца и даже, отчасти, грека.
Когда я выпимши, а дорога долгая, я люблю поболтать с водилой о том о сем. С русскими пиздить неинтересно, потому что они либо всю дорогу матерятся на проезжающие мимо машины, на баб, на черных и на московские власти, либо оказываются малахольными болельщиками «Спартака», негодующими на очередное несправедливое судейство, на которое мне насрать, так же как и на «Спартак», на весь мировой спорт и даже (страшно подумать!) на самого Михаэля Шумахера… Мне нравится общаться с кавказцами, потому что они искренне страстны в речах и быстро заводятся. С армянами я восторженно говорю о величии армянского народа, об Эчмиадзине, в котором я якобы побывал и навсегда остался потрясенным, о Давиде Сасунском, восхищаюсь армянским коньяком и горой Арарат, отчетливо видимой на этикетке этого коньяка, и мужеством, проявленным в войне с турками (армяне злобно называют азербайджанцев турками) за Нагорный Карабах. У грузина я сначала заинтересованно осведомляюсь, кто он – сакартвел, сван, мегрел, имеретинец, гуриец или кахетинец, и если выясняется, что он мегрел, я радостно смеюсь и вру, что моя бабушка тоже была мегрелкой из рода Дадиани, слышали, мол, про такую княжескую фамилию? А у вас, спрашиваю я, какая фамилия? Услышав его фамилию, я изумленно всплескиваю руками и говорю, что ведь это тоже старинный княжеский род и что Дадиани породнились с ним в восемнадцатом веке через великого Важу Прцхелаву (или кого-то с таким же благозвучным именем).
Грузин тогда начинает рдеть от удовольствия, приосанивается, и голос его обретает нотки солидности, ибо каждый грузин уверен в том, что он из княжеского рода. С сакартвелами, сванами, гурийцами и кахетинцами происходит та же история, только меняются фамилии, причем легче всего с сакартвелами, потому что все они «дзе» или «швили». Потом я деловито, как князь у князя, спрашиваю: «Ну, как там у нас в Грузии?» – и больше уже можно ничего не говорить, потому что грузин моментально взрывается и принимается ругать Шеварднадзе, российских таможенников, московских ментов, осетин, чеченцев, засевших в Панкийском ущелье, и абхазцев, отхвативших у Грузии все побережье.








