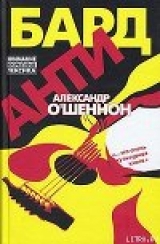
Текст книги "Антибард: московский роман"
Автор книги: Александр О'Шеннон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
А по мне, как раз то, что надо. Все равно ты, Крюгер, песни о Незнакомке от меня не дождешься.
– Ладно, сейчас что-нибудь вспомню.
И начинаю разливать сам.
Крюгер, балансируя на стуле, тянется рукой и отдергивает шторы. Солнце уже ушло, на улице и в комнате – начинающиеся сумерки. Время между волком и собакой, еще все видно, но уже ненадолго. Скоро совсем стемнеет. С той стороны окна стекло облепила жадная ноябрьская изморозь. Не отодрать. По небу видно, что мороза нет, но погода омерзительна – сыра и промозгла. Снег явно опять растаял.
И это только начало.
Это только начало шести месяцев гнилой московской зимы. С лужами и внезапной капелью. Задыхания на холодном ветру и умирания в распаренном метро. Тяжесть зимних одежд и бот. Горло, сдавленное шарфом. Красные лица с зажмуренными глазами. Одна отрада – горячая ванна.
Зима…
Летом всегда кажется, что этого никогда не будет, ни снега, ни холода, ни теплых вещей. Лето в Москве в этом году было жаркое. Временами доходило до плюс тридцати восьми. А то и до сорока. В это лето в Подмосковье загорелся торф. Дым окутал Москву. Задымился даже торф, насыпанный тщанием мэрии на газонах в центре. В это лето у меня умер дед. Ему было почти девяносто. Скорее всего он не выдержал жары. После него осталась тетка, старая дева, которая всю жизнь жила вместе с ним и ради него, и куча орденов и медалей полковника-пожарника. Похороны были стремительными – из-за жары и из-за тетки. Тетка убивалась. Дед прожил долгую жизнь и умер достойно, во сне, но с теткой никто не знал, что делать. Время от времени кто-нибудь ходил ее утешать. Потом всем это надоело. В конце концов она успокоилась. Лето было долгое, держалось почти до октября. Я уже всерьез начал подумывать о глобальном потеплении. Странно, но в определенный момент лето надоедает. Вдруг хочется зимы. Или это генетика? Ментальность? Но все шло по плану – где-то в середине октября погода сломалась, сразу резко похолодало, враз осыпались листья. Замутились окна. По ночам убаюкивал шум волнами перекатывающегося через деревья окрепшего ветра. Начались унылые дожди.
На меня нахлынуло невнятное вдохновение.
Захотелось усадьбу и камин. Захотелось гулять по кладбищу. Нет, скорее по погосту. Не там, где похоронен дед, на огромной свалке гниющих человеческих останков, с улицами и площадями, где-то в жопе за Кольцевой, а по Донскому, где прах уже стал тонкой, нежной пылью, в которой едва держатся готически покосившиеся монументы с ангелами и вензелями, уже не имеющие отношения к телам, погребенным под ними.
Только на кладбище можно оценить всю справедливость смерти.
И чтобы моросил чуть заметный дождик, прибивая к земле лиловую дымку, оставляющую на губах горьковатый вкус сгоревшей листвы. Под руку с красавицей. Лет на десять моложе. Раскидав хворостинкой наваленные листья, постараться прочитать вместе: «Здесь покоiтся статскiй советник…» Жадно вдохнуть прелый безудержный воздух Русской Осени. Закурить сигарету. Сделать глоток коньяку из фляжки, изящно, для дамы, налив в маленькую крышку.
«Да-с, Лизанька…»
Вдруг понять: что-то должно случиться. Произойти.
Я так до сих пор и жду.
Что же, что же?!
С тех пор.
Из меня уже вышло все лето. Все продымленное, пыльное московское лето выдуло из меня.
Так было всегда.
Пройдет еще месяц, и я начну мечтать о лете. Чтобы не висела коробом на плечах эта опостылевшая немецкая куртка из свиной кожи, весом пять кило, в которой я хожу уже четвертую зиму, потому что она толстая и сносу ей не будет, и не скребли по шершавому льду эти огромные меховые боты «Экко», нелепые, как концлагерные чуни, и чтобы можно было не натягивать на голову шапочку-пидорку с неизбежным пиратским лейблом «Diesel», чтобы забросить куда-нибудь, к чертовой матери, на антресоли перчатки на меху, которые, как ни старайся, всегда оставляешь на пьянках и теряешь по пять пар за зиму, и чтобы можно было выйти за пивом в магазин за углом в майке и шортах, вяло щурясь на расплывшееся по небу солнце…
Что же будет дальше?
О'кей. Я знаю, что спеть специально для Крюгера, чтобы заставить его ужаснуться. Задуматься. Понять, как все непросто. Но сначала мы выпьем.
– Я вспомнил одну песню, тоже сексуальную. Сейчас спою. Но надо выпить.
Крюгер, умильно улыбаясь, уже тянется со своей рюмкой. Крюгер, кажется, набрался по полной программе. Глаза у него со слезой, помутневшие. Нос заметно покраснел. Думает о чем-то своем. Судя по улыбке – о хорошем.
Ну и слава Богу!
Вера смотрит на меня не отрываясь, и я старательно отвечаю ей взглядом. Да, милая, все будет хорошо. Я уверен в этом. Еще пара стопок, и Вера поплывет тоже. С одной стороны, это хорошо, а с другой – плохо. Как всегда.
Впрочем, все равно.
Вкуса водки я уже совсем не чувствую. Вкусовые сенсоры нёба и гортани выведены из строя. Оглушены спиртуозой. В голове и во всем теле необыкновенная мягкость. Хорошо бы вот так сидеть и пить, пока не упадешь. Но труба зовет. Триста рублей, которые мне светят. Для меня не хуй собачий. И поклонники, которые, может быть, угостят коньяком. Все мои поклонники знают, что я люблю коньяк. На сольные концерты обязательно кто-нибудь приносит, угощает. Две женщины, некрасивые, но что-то есть, обязательно дарят бутылку «Московского». Видимо, скинувшись. Я уже жду. Радостно их приветствую, жадно заглядываю в глаза: «Принесли?» В такие моменты понимаешь, что все было не зря, что можно и нужно петь дальше, творить, что все для них, для людей.
Крюгер с громким стуком ставит на стол пустую кружку.
Итак!..
Что там? Ах да…
Мой лирический герой знакомится на выставке кошек с очаровательной женщиной, которая, как и он, обожает котиков. Общность интересов выявляет взаимную симпатию, за чем следует приглашение в гости, чтобы полюбоваться на кастрированного пушистого перса. Мой герой с радостью принимает приглашение. Вскоре его визиты принимают периодический характер.
Был муж ее несколько странен,
А впрочем, не странен кто ж?
Но в дом их я просто за гранью
Известных приличий был вхож.
Вхож мой лирический герой в этот дом до такой степени, что остается на ночь в одной постели с супругой, причем муж в это время безропотно спит в другой комнате. Это, однако, не мешает ему испытывать к визитеру самые теплые, дружеские чувства:
Встречая меня в коридоре,
Участливо, как родня,
О матушкином здоровье
Расспрашивал он меня,
помогая снимать пальто и предлагая тапочки. Мой герой смущен двусмысленностью ситуации, но расстаться с дамой сердца уже не в силах. Муж между тем демонстрирует беззаботность истинно галльскую:
Когда я из ванной стремительно
В комнату голый бежал,
С улыбкой снисходительной
Он взглядом меня провожал.
Дальше – больше:
А ночью он, воском заляпан,
Бесстрастием равен врачу,
Торжественный, как канделябр,
Над нами держал свечу.
Жена тоже не выражает никакого беспокойства. Но однажды ночью, в полнолуние, во время очередного гигиенического похода в ванную, на моего героя со всей внезапностью маньяка нападает совершенно голый муж со вставшим хуем. Они валятся на пол и начинают бороться. Лирический герой полон решимости защитить свое естество от посягательств мужчины. Они борются молча – то один берет верх, то другой. Античную красоту композиции нарушает появление супруги, которая зажигает свет и застывает в изумлении. Муж робко лепечет жалкие слова оправдания, но у женщины открываются глаза. Гневно швыряет она в лица обоим упреки и обвинения в мужеложстве. «А я-то дура!..» – убивается она. Заканчивается все скандалом:
Она назвала меня «пидор»,
А мужу по морде дала
И выгнала нас из квартиры
Обоих. В чем мать родила.
Ми – ля-минор: блям-блям!
Вера смеется. В глазах ее видна гордость за меня, гордость за своего любимого человека. Торжество женщины, которая обрела мужчину. Будет чем похвалиться перед подругами, замужними, но несчастными, будет что рассказать.
Поэт и музыкант!
И еще что-то материнское есть у нее во взгляде. Никуда от этого материнства не деться, хоть ты тресни.
Крюгер уже не смеется, но улыбается, глядя на меня с подозрительным прищуром. Даже с некоторым беспокойством. Ага, испугался, Крюгер! Небось думает, что я тайный гомосексуалист, что буду склонять его к сожительству. Поймаю в темном коридоре и поцелую взасос. Предложу сделать минет. Типа Вера – это так, для отвода глаз, чтобы усыпить бдительность простодушного натурала.
Ах, Крюгер, Крюгер!
Вот все они такие, поэты. Подавай им банальную еблю с поклонницей-институткой, впавшей от счастья в полуобморочное состояние или напившейся вдрызг для храбрости. И конечно же, если нет, как у Крюгера, доброй тещи с квартирой, на хате у друга, рано полысевшего от излучения веб-дизайнера, который сначала обидится, что не привели для него подругу, а потом угостится принесенной водкой, смирится и уснет. И нет того изящества, той изысканности, того изощренного разврата, который должен сопутствовать сексу всякой поэтической натуры. Все поэты хотят выебать бабу. Даже не важно какую. Прямо пиздострадальцы какие-то, ей-богу, гетеросексуальные маньяки. И ничего другого им не надо. А как же цепи, розги, хлысты, наручники, игрища с переодеванием, допустим, растление малолетних, наконец? Где весь этот задор чувственной души?.. Даже сам Александр Сергеевич Пушкин в этом смысле производит удручающее впечатление, становится обидно за гения. Злоебучесть его была столь же заурядна и несла в себе такой же заряд здоровой спортивности, как у какого-нибудь лихого гусарского поручика, рубаки и пьяницы. Секс для него был не более чем физиологическим процессом, включающим в себя определенное количество фрикций с последующим семяизвержением, и поводом похвастаться перед очередной барышней-крестьянкой своим смуглым членом.
Не более того-с.
С прыткостью почти анекдотической устремлялся он по зову своего либидо, чтобы поскорее кому-нибудь засадить. Почесаться. Не нужно было быть солнцем русской поэзии, чтобы соблазнять перезрелых помещиц из замшелых имений Псковской губернии, пейзанок и вольных актерок. Этим в то время мог похвастаться любой капитан-исправник или коллежский регистратор. И никакой тебе утонченности, кроме перемигивания на балах с новой любовницей.
А может, женщины другого ждали от Поэта?..
Может, их прикалывало втроем с француженкой-гувернанткой или с кучером Гришкой? Может, кто-то из них хотел, чтобы ее высекли на конюшне, как провинившуюся сенную девку? Или самой высечь пылкого арапа, переодевшись в бразильянскую плантаторшу… А слабо было тебе, брат Пушкин, с дворовым мальчиком? А потом написать об этом вдохновенную оду?
Слабо.
Одна унылая ебля. Так и довели его до дуэли бабы – жена и свояченица Финкельмон. Да что дуэль! В дуэли хоть какой-то пафос есть, а у остальных? Тут тебе и сифилис, тут тебе и гонорея, и алкоголизм. Рубцова, говорят, вообще задушила по пьяни ревнивая любовница – вот смерть, достойная русского поэта.
Маяковский, пожалуй, единственный, кто попытался выйти за рамки обыденности, живя втроем с Бриками. Но история эта, вместо того чтобы послужить возбуждающим примером создания крепкой шведской семьи, была опошлена местечковой расчетливостью супругов и по-гимназически истеричными выходками самого Владимира Владимировича, который из нашего далека в роли третьего выглядит просто лысым мудаком.
Есенин, будучи натурой буйной и страстной, мог бы стать апологетом русского садомазохизма, если бы не остался до конца дней своих заурядным крестьянином, каких много до и после него погубил Город. Дальше пьяных дебошей с проститутками его фантазия не шла.
А вот Блок вообще отказался от плотских утех. Бог знает почему. Может, был онанистом и любил смотреть, а может, тайком бегал по солдаткам и блядям-чухонкам из закопченных клоповников Петербургской стороны, зачерпывал с самого дна. Или безответно любил Андрея Белого, представляя его в страусовых перьях и с длинным мундштуком в пальцах… Коим воздержанием и довел супругу до откровенного блядства.
А Артюр Рембо? Я так и не понял, трахались они с Полем Верленом или нет. Если трахались, то почему поэт, с безудержной отвагой бальзаковского отверженного клеймивший аристократию, буржуазию, скопидомных крестьян, чумазых рабочих, напустившийся даже на самого Иисуса Христа, так ничего и не сказал о своей любви? Только редкие стихи о женщинах, написанные со всей раздражительностью латентного гомосексуалиста, указывают на его ориентацию.
Но где же твое мужество, Рембо?
Где твой похуизм, которым восхищался даже похуистичнейший Генри Миллер?
Да, наверное, и не было никакого мужества и похуизма, а была только талантливая ворчливость озлобленного маргинала, всю жизнь мечтавшего заработать как можно больше денег.
Шекспир тоже был хорош, ебясь с каким-то златокудрым герцогом-театралом и слагая в то же время насквозь лживые сонеты в честь некрасивой, но якобы горячо любимой им дамы.
Мир так и не дождался от него честных и глубоких «Ромео и Тибальда».
Оскар Уайльд тоже долго морочил всем голову своими парадоксами, но в итоге оказался смелее всех, по крайней мере оставив нам «Золотого мальчика».
Хорошо начинал Эдичка Лимонов, прямо душа радовалась за его Манфреда и Зигфрида, но довела его до ручки Америка, сделала из него страдальца, и снесло у чувака крышу на почве Великой России. А из России ни хрена, кроме стонов народных, не выжмешь… Складывается такое впечатление, что все поэты – самовлюбленные ослы, мучительно пытающиеся казаться умнее, добрее и честнее, гражданственнее, что ли, чем они есть на самом деле.
Но особенно в этом смысле умиляют меня барды. Они вообще ни о чем таком не поют. Забавный пример полинезийского табу, распространившегося среди тонких интеллектуалов на просторах Среднерусской возвышенности. Генерация идеальных евнухов для гаремов, даже оскоплять не надо. Их трудно заподозрить в чем-либо, особенно в какой бы то ни было сексуальной ориентации. Иногда задумываешься: а может, они не от мира сего? Живут и творят за гранью добра и зла? Эдакие Франциски Ассизские с гитарами, только что стигматов нету, не удостоил пока Господь. Хотя, на мой взгляд, тот же Сергей Никитин уже вполне заслужил. Правда, непонятно, как он со стигматами будет играть на гитаре, радовать и поучать нас, грешных, но сам факт этот, учитывая все спетое Сергеем Яковлевичем, я думаю, никого бы не удивил.
Асексуальность российских бардов по степени безысходного величия сравнима разве что с личной жизнью Гитлера и Сталина, которые, может быть, и ебались, но как-то скромно, не напоказ, по-государственному.
На концертах и тусовках уши закладывает от звона ржавых вериг бардовских комплексов. В измученной чужим воздержанием душе сами собой складываются строки:
С тобою что-то происходит,
В тебя мой старый член не входит,
А входят в праздной суете
Разнообразные, не те…
Или:
И только ты кричала,
Кричала, кричала
И головой стучала
Любви печальной в такт.
А после говорила: —
Начнемте все сначала,
Начнемте все сначала,
Любимый мой, итак!..
Мне уже стыдно быть бардом и поэтом.
Однако надо успокаивать Крюгера. Он сидит в напряженной позе и тупо смотрит на гитару. На лице его написано отчаяние: ну как же, только он меня зауважал, а я оказался гомосексуалистом. Бедный Крюгер!.. Заебанный жизнью русский поэт. Вильгельм Карлович Кюхельбекер первой половины двадцать первого века, такой же несносный идеалист. Не бойся, mein Liber, не нужен мне твой тощий немецкий зад.
Вера сидит в покорном ожидании нашего отъезда.
Что ждет ее впереди?
Чем это все кончится?
А хрен его знает.
– Ну ладно, – говорю я, – все это были шуточки. А напоследок я спою песню о нас, настоящих мужиках.
И веско смотрю на Крюгера. У Крюгера в глазах загорается огонек надежды. Он как бы спрашивает: «Нет, правда?» Правда, Крюгер, правда… И, ободряюще улыбаясь, говорю:
– Давайте, что ли, по последней.
И сам разливаю остатки.
– Мне больше не надо, – говорит Вера.
Не надо так не надо.
Это сколько же мы выпили? Почти две бутылки. Круто, Батхед! Правда, мужественно помогала Вера. Мое состояние можно назвать легким охуением. Главное, не сломаться дома. Не вырубиться. Продержаться до Алферова. А потом можно отключиться. В конце концов, Вера дотащит домой.
Чокаемся с Крюгером.
В движениях Крюгера все еще чувствуются какие-то сомнения. Опаска. Да, Крюгер, жизнь – штука поганая.
Заглатываю водку, как воду. Запиваю Вериным чаем.
– Песня про порно!
Крюгер оживляется. Вера настораживается. Ну, поехали.
Ночь, как остывший в стакане чай,
Вялый комар, вековая печаль,
Тусклая лампа желтеет
В дыму беломорном,
Я, как и вчера, как и всегда, один,
Уже не страшась ни живота, ни седин,
Пью пиво, закинув бутылку
С изяществом горна…
…Мужик, лет под сорок, сидит дома, пьет пиво и смотрит порно. Натурально – майка, трусы до колен… Когда тебе под сорок и ты был женат хотя бы раз, имел любовниц, подруг и случайные связи, если ты не полный дебил и оттопыра, уверенный в том, что весь мир должен упасть на колени перед бампером твоего джипа, ты вдруг понимаешь однажды, что все эти женщины, начиная с самой первой, соседки-одноклассницы, имели тебя по полной программе. Отымели на всю катушку.
Ты понимаешь, что это не ты выбирал, а всегда выбирали тебя, арканили между многими в топочащем потном стаде гогочущих самцов, оценив твои стати по какой-то ведомой только женщине шкале. Что, с торжествующей ухмылкой овладевая покорным трепещущим телом, ты вовсе не был победителем, добившимся своего в жаркой схватке полов, а совершал именно то, к чему тебя старательно и терпеливо, как коня к выездке, готовила женщина. И что, сколько бы ты ни бегал на воле, опьяненный свободой, всегда прибегал в какое-нибудь стойло, где тебя ждали тепло, кормушка и утешение плоти. Но чтобы удостоиться уютного гостеприимства конюшни, ты должен быть или горячим жеребцом-мачо, или работящим сивым мерином-бизнесменом. Ты должен быть послушным добрым конягой, которым твоя хозяйка хвасталась перед другими наездницами, всегда готовыми оседлать какого-нибудь скакуна.
Ты понимаешь, что вся твоя половая жизнь – это история лошади.
Когда тебе под сорок и ты не дурак, ты понимаешь: что бы ты ни делал – хватая за жопу, залезая под юбку, срывая бюстгальтер, соблазняя верных жен, гнусно пользуясь слабостями, подпаивая девственниц, ревнуя с мордобоем, – ты делаешь только то, что нужно женщине.
И ты понимаешь наконец, что ты есть не что иное, как белковый агрегат для удовлетворения желаний, фантазий и амбиций слабого пола, один воспаленный член с приделанными к нему руками, ногами и головой, чтобы добывать с их помощью средства к существованию. И, поняв это, ты склоняешься перед мудростью Неба, создавшего Ее, этот мощнейший стимулятор с тремя контактными отверстиями, необходимый для выведения мужчины из статического состояния сна, обжорства и покойной задумчивости. Подключенный к женщине, мужчина заводится, как мотор, и начинает выполнять свои прямые функции – трахаться и зарабатывать деньги, обеспечивая, таким образом, космос энергией, а женщину возможностью производить потомство, будущих ебарей-биороботов.
Еще Господь сказал женщине: «Ебитесь и размножайтесь», – и она выполняет этот завет ответственно и неукоснительно, поражая убогое мужское воображение своим напором и выносливостью.
Одна моя знакомая медичка назвала это «доминантой беременности».
Дьявол тоже шепнул женщине что-то такое, от чего перед ночными фантазиями какой-нибудь тихони десятиклассницы блекнут похождения самого развращенного плейбоя. Никто и ничто не может остановить женщину.
Но когда тебе под сорок, тебе начинают надоедать наложенные на тебя требы. Сказывается однообразие и усталость. Раздражает необходимость быть самцом, ведомым за яйца на случку. Хочется быть вялым и небритым…
Тут возникает парадокс почти оскаруайльдовский: чего хочет женщина – того хочет Бог, но не хочет мужчина.
Хочется воспротивиться.
И тогда мужчина срывается с постели, как с креста, и ударяется в бега наперегонки со своим естеством.
Существуют несколько способов оградить себя от посягательств со стороны слабого пола. Самый, пожалуй, эффективный и распространенный из них – алкоголизм. Алкоголиком может стать каждый, причем довольно быстро, в зависимости от количества и регулярности потребляемого бухла. Полгода, год… Как известно из профилактических брошюр, алкоголизм хорош тем, что он не признает никаких социальных и образовательных рамок, одинаково бескомпромиссно выводя из активной общественной, а главное, половой жизни ученого, поэта, брокера и сантехника Сопрыкина. Замечательно и то, что практически не имеет значения семейное положение спивающегося. Конечно, будучи женатым человеком, алкоголиком стать более проблематично, особенно когда жена начинает всеми способами противиться этому, но при известном упорстве и желании человек все равно добивается поставленной цели. Единственным препятствием на этом пути может стать собственный организм, не способный по состоянию здоровья выдерживать идейное пьянство. В этом случае не стоит его насиловать.
Много других дорог открыто мужчине, которому под сорок.
Можно, например, вдруг, ни с того ни с сего, запасть на мальчиков.
Такое случилось с несколькими моими знакомыми, солидными, если не сказать благообразными, людьми, многодетными отцами, которые все почему-то так или иначе связаны с кино. Кучкуясь у одного из них, нарочно для этого бросившего семью и снявшего роскошную трехкомнатную квартиру, они за короткое время с каким-то жизнерадостным неистовством переебали всю Плешку на «Китай-городе», половину ВГИКа, Щуки и ГИТИСа, Детский театр Татьяны Сац и растлили множество юных журналистов, приехавших из провинции покорять Москву. Когда им хотелось чего-нибудь остренького, они всем кагалом отправлялись в засаду к ближайшей воинской части и там, за шоколадку или бутылку водки, снимали бойцов, отпущенных в увольнение. И тогда начиналось что-то уж совсем невообразимое.
Такой отрыв, однако, предполагает определенный эстетизм мышления, наличие немалого дохода и мощный заряд похуизма, чего нет у большинства наших мужчин.
Самый тернистый путь, чреватый многими неприятностями, это путь насильника-маньяка.
В основе маньячества лежит эгоистическое желание получить максимум удовольствия, не связывая себя при этом никакими обязательствами и длительными отношениями. Розовая мечта любого мужчины, не осуществимая при обоюдном знакомстве. Не считая проституток, на которых у среднероссийского мужика денег просто нет, с другими женщинами единовременный союз по формуле «потрахались и разбежались» примерно в 98 % случаев практически невозможен. Но маньяк на то и маньяк, что он имеет возможность тешить член, сообразуясь только со своими желаниями, неся при этом минимальные потери в финансах (четырнадцать рублей за проезд на метро туда и обратно в жулебинские новостройки) и почти несущественное ущемление личной свободы (тесная кабинка лифта). Если же он к тому же еще и фетишист, он смело может забрать на память о соитии какой-нибудь предмет дамского туалета, не подвергаясь при этом глупым и унизительным насмешкам, которые неизбежно последовали бы, вздумай он попросить о подобном после всякой честной ебли с малознакомой женщиной. Однако мы не должны забывать, что, при всей беззаботности жизни маньяков, их время от времени все-таки ловят и сажают в тюрьму, где их участь несравненно печальнее, чем участь алкоголика, в сотый раз стоически выслушивающего сетования жены, или мужеложца, отстегивающего по сто баксов за право всю ночь харить впятером харьковского мальчика.
Но есть путь, путь достойных, путь философов и созерцателей, путь, проторенный из простодушной античности мудрецами-киниками во главе с Сократом, который, взойдя однажды на афинскую агору, принялся прилюдно мастурбировать. «Что ты делаешь, человече?» – спросили его тогда отцы города. «О, если бы так же я мог утолить свой голод!» – возопил мудрец, кончив прямо на толпу собравшихся зевак.
Итак, мудрецы и философы выбирают порнуху… Припев:
Вот все, что мне нужно от жизни теперь,
Вот все, чем отныне жив мой загнанный зверь, —
Это порно.
Порнушка хороша тем, что она не предполагает никакого насилия над собственным организмом и чужими телесами. Человек освобождается от необходимости быть издерганным ебарем, сохраняя при этом статус мужчины и возможность развлекать себя картинами самого разнузданного разврата, замедляя, ускоряя и останавливая процесс посредством пульта.
И высокий холод одиночества окружает его.
Как славно увидеть, что погасла звезда,
Корабль уплыл и ушли поезда.
И можно им вслед помахать
С облегченьем бесспорным.
Как славно, поняв, что жизнь проста и легка,
Расслабиться и опуститься слегка…
И все в таком духе.
Заканчивается припевом.
Крюгер счастливо смеется слабым голосом. Глаза его разъезжаются в разные стороны, и один с трудом фокусируется на мне. Лицо у него при этом становится страдальческим и пожилым. Я поощрительно улыбаюсь ему отеческой улыбкой, а сам думаю: «Крюгеру явно нужно лечь».
Вера грустно улыбается. Вся она – воплощенная несчастная бабья доля. Ладно, нужно уматывать отсюда. Я решительно снимаю с колен гитару и ставлю рядом с собой на пол, как ружье. Последний взгляд на бутылку. Пуста. Ну и хуй с ней.
– Ну ладно, дамы и господа, надо ехать. Верунчик, собирайся, – объявляю я.
Чтобы встать, мне нужно сильно напрячься всем телом, при этом я опираюсь на гитару. Охнув, я встаю, сильно задев стол. Посуда звякает, и Крюгер точным, каким-то паучьим движением ловит накренившуюся бутылку. Сказываются годы тренировок. Он ставит ее на подоконник, и лицо его становится совсем печальным. Оно все как-то съезжает вниз, от уголков рта прорезаются глубокие морщины, складки черными мефистофельскими тенями ложатся на щеки. Глаза становятся тусклыми, как у старого прусского генерала.
– Крюгер, мы поехали. Спасибо тебе за пельмени, все было очень вкусно, – лгу я.
По крайней мере он сейчас, как белый человек, ляжет спать, а мне еще переться на сраную «Каширскую», а с «Каширской» до «Сокола», а на «Соколе» еще надо что-то петь. В общем, пиздец… Это сколько же бабок у меня уйдет на дорогу? Рублей триста, точно. Почти столько же, сколько я заработаю у Алферова.
– Уже уезжаете? – голосом светского человека спрашивает Крюгер, пытаясь подняться. С первой попытки у него это не получается, и он остается сидеть, чтобы сосредоточиться.
– Да, мы поедем, Владик. Спасибо тебе за гостеприимство, – говорит Вера, нежно гладя Крюгера по плечу.
А может, мне вообще не ехать к Алферову? Поехать домой, чего-нибудь нормально поесть, залезть в ванну с Верой, поебаться да лечь спать? От предвкушения этого у меня веселеет на душе. Да, это было бы самое разумное. Коньяк, в конце концов, можно выпить и дома. Я представляю: вот мы сидим с Верой на кухне и пьем коньяк. Запивая кофеем. Никто не пиздит вокруг, не долдонит, не гогочет над ухом. Барды не лезут со своими глупыми разговорами, не умничают поэты. Тепло, уютно.
Но…
Вот именно, что «но». Я уже сказал Алферову свое твердое «да», а так как я и в прошлый раз сказал ему твердое «да» и не приехал, потому что меня ломало, Алферов может обидеться и не пригласить меня на следующий перфоманс, что для меня означает как минимум недели две жить без копейки денег.
Вообще-то меня все любят, особенно Алферов и Скородумов, хотя многие при этом называют за глаза сволочью, пидором и бабником одновременно, и все из-за толерантности моих песен, но Алферова лишний раз напрягать не следует. Он и так спускает мне все мои полупьяные выступления, только журит, как дитя…
Размышляя, я топчусь в темном коридоре, помогая Вере надеть пальто. Свет здесь, конечно, не включается. Она сильно прижимается ко мне задом.
Ну, не знаю, не знаю…
Из кухни доносится глухой стук упавшей табуретки, это наконец поднялся Крюгер. Проводить нас до дверей. Лучше б сидел, ей-богу.
Та-а-ак… А что я хотел? А! Пописать на дорожку.
– Пойду зайду в дабл, – говорю я Вере.
Около туалета на меня налетает Крюгер. Он, видимо, падал, но успел уцепиться.
– Держись, старик, – дружески прикрикиваю я, обняв его за талию, – я сейчас вернусь.
– Угу, – отвечает Крюгер и идет к Вере, отталкиваясь руками от стен.
Весь туалет увешан плакатами с женщинами топлесс. В одной чудовищно грудастой блондинке я с изумлением узнаю Саманту Фокс, эротическое чудо восторженных восьмидесятых, плакатами с которой были увешаны все мужские общежития и холостяцкие дыры в Москве. Не одно поколение кончало на красотку Саманту, но со времен расцвета ее очарования прошло, по-моему, лет двадцать и с тех пор о ней ни слуху ни духу, а ее нишу заняла Памела Андерсон, тоже нехилый поросенок. Но здесь, в этом сортире, ей отведено самое почетное место на двери, прямо напротив унитаза, на уровне глаз сидящего. Остальные дамы тоже, видимо, изъяты из «Плейбоев» начала девяностых и все чем-то неуловимо напоминают старуху Саманту – озорные блондинки с большими сиськами. Ее ипостаси и реинкарнации.
Так вот он – Храм Счастливого Уединения поэта Крюгера, его интимное пространство!..
Даже тещина рука не поднялась сорвать со стен эти иконы, освященные многолетними молебнами в честь Онона. Разглядывая женщин своей молодости, я писаю. Не успевают в унитаз упасть последние капли, как член в моих пальцах начинает твердеть и обретать увесистость. Выходить из-под контроля. Этого еще не хватало… Ах, Саманта, Саманта, что ты с нами, мужиками, делаешь!
Нет, не сейчас.
Я не пойду по неверным стопам Крюгера. Меня ждут Вера и Алферов.
За дверью слышен какой-то шум и возня. Стук тела об стену, сердитый шепот. Я осторожно приоткрываю дверь и одним глазом выглядываю в коридор. Там, в темноте прихожей, Вера отбивается от Крюгера. Крюгер хватает ее одной рукой за грудь, а другой за жопу и страстно шипит. Они накренились так, что вот-вот рухнут на пол.
Вот еб твою мать!
Я сильно дергаю ручку унитаза и под уханье спускаемой воды кричу:
– Вера, ты готова? Я уже иду!
Подождав несколько секунд, чтобы дать им время расцепиться, я выхожу, напевая:
– Ах, Арбат, мой Арбат…
Они уже стоят отдельно. Крюгер – тяжело привалившись к стене, Вера – нервно застегиваясь.
– Так, – говорю я, вспомнив, – а где, кстати, мой чехол?
– Он в комнате, – вскрикивает Вера, – я сейчас принесу.
Но Крюгер делает великодушный взмах рукой, разворачивается на месте, как часовой, и идет сам. Я целую Веру в щеку. Вера бормочет:
– Крюгер вечно – напьется…
Я лезу в карман, проверить, на месте ли деньги, и нащупываю ручку. Я всегда таскаю с собой ручку, чтобы записывать рифмы и строки, приходящие мне на ум, особенно когда я еду в метро, но сейчас моя рука сама тянется к двери, за которой таится тещин «Кетлер». Под стук каких-то валящихся предметов в другой комнате я, близоруко щурясь в темноте, старательно вывожу на запертой двери «ХУЙ». Любуюсь и убираю ручку обратно в карман. Неся чехол на вытянутых руках, как раненого товарища, появляется Крюгер.








