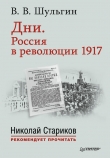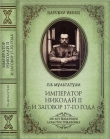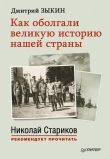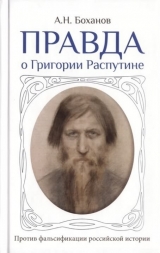
Текст книги "Правда о Григории Распутине"
Автор книги: Александр Боханов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
После падения Монархии сказания о «Гришке-миллионере» запестрели на страницах газет. Все же энергичные попытки различных «следопытов» отыскать «распутинские миллионы» или даже какие-то их следы закончились полным провалом. Нельзя же документально подтвердить то, чего не существовало в действительности.
Дочь Матрёна, близко наблюдавшая жизнь отца в Петербурге-Петрограде, по этому поводу заметила: «Целый день у отца уходил на прием разных просителей. К нему обращались очень многие с очень разнообразными просьбами: его просили о местах (службы. – А. Б.), о помиловании разных лиц, сидевших в тюрьмах. Вот главным образом с такого рода просьбами и обращались к нему. Ему разные лица давали деньги, но очень многие просили и у него. Никогда никому в денежных просьбах не отказывал. Он действительно одной рукой брал, а другой отдавал. Обращались к нему и за духовной помощью: просили совета, жаловались на тяжелую душевную жизнь. Он давал советы, старался помочь душевно, как мог».
Распутин не просил и не получал денег у Царской Четы. Императрица была чрезвычайно щепетильной в финансовых вопросах, всегда болезненно реагировала на любые попытки приближенных добиться определенных льгот или материальных выгод. Ладанки, иконки, пояски, вышитые рубашки, платки и другие подобные мелочи и изделия домашнего рукоделия – это всё, чем Распутина одаривали в Царской Семье. Он, в свою очередь, посылал Высочайшей почитательнице освященные куличи, пасхальные яйца, иконки, но главное, чему Она всегда искренне радовалась, напутствия и пожелания, даваемые лично или отправляемые по телеграфу.
В своих показаниях, данных в казематах Петропавловской крепости в 1917 году, А. А. Вырубова затронула эту тему. «На какие средства жил Распутин, я не знаю, но приблизительно в 1910–1911 году и в последующее время Император и Императрица, когда Распутин уезжал из Петрограда, что бывало раза три в год, передавали деньги из Своих личных средств „на дорогу“, но никогда не более, чем в сумме ста рублей в один раз. От Распутина я слыхала, что его поклонники дарят ему деньги, причем таковые иногда он находит неизвестно кем положенными в карманах его пальто. По моим сведениям, после смерти Распутина никаких денег не осталось, и дочери его бедствуют. Император и Его Семья предполагали обеспечить самого Распутина, но до революции не успели сделать этого». Вырубова была совершенно права: никаких средств семье своей «старец Григорий» не оставил.
Обосновавшись в столице Империи, став объектом интереса и восхищения для «господ», Распутин не подлаживался под стандарты жизни и принятые нормы отношений. Не изменил он и повседневные привычки. По словам дочери Матрёны, «свою личную жизнь, свои вкусы, свой уклад жизни отец нисколько не изменил после приближения к Царской Семье. Он ходил в русской рубашке, русских шароварах, заправляя их в сапоги, и в поддевках. Мяса он не ел до самой смерти. Его обед состоял из одной ухи. Кроме того, он еще употреблял редиску и любил квас с огурцами и луком. Больше этих кушаний он ничего дома не ел».
О жизни в квартире на Гороховой сохранились различные свидетельства, в том числе и самые необычные. Сосед по дому, служащий Синода, вел дневник, в котором зафиксировал некоторые детали обихода одиозного человека. «Обедает „он“ на кухне со всеми домашними. Садится „он“ посредине, с одной стороны чёрненький господин, по-видимому, агент в роли „его“ секретаря, с другой стороны простая какая-то женщина, деревенская, в черном платье, с белым платочком на голове, затем какая-то сестра милосердия и девочка в коричневом коротком платье, лет 16–18, в роли прислуги-горничной. Едят суп из одной все миски деревянными ложками. „Он“ сам очень часто во время приема посетителей своих приходит на кухню, берет закуску, фрукты: апельсины, яблоки, землянику – и несет сам в комнаты. Кухня „его“, кстати сказать, как раз напротив моей кухни, так что всё прекрасно видно, по вечерам почти всегда бывает спущена штора».
Распутин не подстраивался под нормы жизни состоятельных господ. Он, несомненно, знал, что своеобразный облик, простые крестьянские манеры, необычный стиль поведения и речи – всё это то, что во многом и делает его притягательным для привыкших к роскоши и комфорту людей.
Не желая меняться, Григорий Распутин всё-таки менялся. Испытание властью и лестью трудно было выдержать. При всём своем природном уме он всё-таки оказался слишком простым, открытым и незащищенным для специфической среды, где ханжество, лицемерие, корысть, интрига – непременные «нормы жизни».
Ему признавались в обожании, а потом эти же люди бежали к знакомым и с хохотом рассказывали, как общались с этим «пройдохой»; ему со слезами на глазах рассказывали «о муках душевных», просили совета, а затем пересказывали с массой выдуманных деталей реакцию «этого мужлана»; ему клялись в верности, с трепетным вниманием ловили его высказывания, а затем публиковали разухабистые фельетоны в газетах, где перевирали все, от начала и до конца.
В июне 1914 года на страницах популярной столичной газеты «Вечернее время» было помещено интервью с Распутиным, в котором Царев друг выплеснул наболевшее: «Неужели не о чем больше писать и говорить, как обо мне. Я никого не трогаю. Да и трогать не могу, так как не имею силы. Дался я им. Видишь, какой интересный. Каждый шаг мой обсуждают, все перевирают. Видно, кому-то очень нужно меня во что бы то ни стало таскать по свету и зубоскалить. Говорю тебе, никого не трогаю. Делаю свое маленькое дело, как умею, как понимаю. То меня хвалят, то ругают, только не хотят оставить в покое. Если что плохо делаю, рассудит Господь. Искренне говорю тебе: плохо делать не хочу. Поступаю по умению».
Так до самой смерти Распутин не мог понять и объяснить этот удушливый и бездушный столичный мир, где «молитве тяжело». Он, как и Александра Фёдоровна, видел лживость и двуличие его, но, в отличие от Императрицы, всеми силами стремившейся от этого мира отгородиться, Григорий к нему тянулся.
Ему стало нравиться быть в центре внимания, его натуре начала льстить популярность. Это искушение он не смог преодолеть, особенно в последние годы. Он начал любить застолье, стал употреблять спиртное. Хотя пил он по преимуществу мадеру, но большие дозы выпитого, столь любезно предоставляемого «искренними почитателями», не раз приводили его в состояние алкогольного веселья, когда он даже плясал русскую. Организаторы и очевидны таких случаев потом с упоением передавали виденное, дополняя его смачными деталями по своему разумению.
Верная Муня Головина описала, как в январе 1915 года праздновался день рождении Григория Распутина в его квартире на Гороховой.
«Было много народу, много подарков. Корзины с фруктами, пироги. Я подарила красивую белую шелковую рубашку, расшитую серебряной нитью… Ему подливают вина, его подталкивают, его упрашивают, умоляют: „Ты танцуешь русский танец как никто другой, Григорий. Это колоссальное удовольствие смотреть, как ты танцуешь. Не лишай нас этой большой радости. Давай!“. И, смеясь, его толкнули на середину комнаты в сопровождении русских песен…
А для меня возникло видение агонии, как будто я участвовала в таинстве жизни и смерти. Личное смирение для Григория, это выражение сосредоточенности на лице, молитвы, искажённый гримасой рот и этот зловещий неистовый танец, как ураган! В такие моменты в моём сердце возникало огромное уважение к Григорию Ефимовичу… Среди людей, пришедших поздравить его, было несколько представителей почти официальной власти, ожидающих назначения или только что его получивших, которые считали, что не следовало его обделять своим вниманием, и рассчитывали быть среди его „друзей“. Григорий был со всеми любезен, угощал всех напитками и сам пил больше всех, но никогда не был пьян и сохранял ясность ума».
Конечно, подобное поведение невозможно было сочетать с традиционным старческим благочестием. Однако с обычных позиций особо предосудительного в том нельзя было бы усмотреть, если бы не другое его качество, которое как раз и проявлялось в состоянии «подшофе». Он иногда начинал рассказывать о Царской Семье. Собственно, с этой целью его нередко как раз и «накачивали».
Хотя документально можно подтвердить не более трех случаев подобного рода, и ничего скабрезного, вопреки распространенным мнениям, он при этом не говорил, но сам факт разглашения таких сведений трудно признать уместным. Злого умысла у Распутина не было, но это вряд ли можно поставить ему в заслугу. Недопустимые повествования на почве «приема мадеры» начались уже тогда, когда жизнь Распутина приближалась к концу.
Ранее, когда он был не застольным гостем дорогих столичных гостиных, а являлся лишь духовным авторитетом, то не позволял себе ничего подобного. Суета и мишура богатого мира тогда его не искусила. Он выступал в своем исконном образе утешителя и наставника.
Смысл распутинских наставлений касался важнейших религиозно-нравственных категорий: любви и смирения. Современному читателю, наверное, стоит пояснить, что «любовь» в данном случае являлась высокой нравственной категорией и никого касательства к плотскому воплощению не имела.
Сохранилась целая тетрадь наставлений и изречений Григория, которая принадлежала дочери Николая II Татьяне. Приведем ряд типичных распутинских пассажей: «Любовь есть свет, и ей нет конца. Любовь – большое страдание. Она не может кушать, не может спать. Она смешана с грехом пополам. Всё-таки лучше любить. В любви человек ошибается, но зато страдает и страданием искупает свои ошибки. Если любить сильно – любимые счастливы. Им сама природа и Бог дают счастье. Надо Бога просить, чтобы Бог научил любить светлое, ясное, чтобы не мученье была любовь, а радость. Любовь чистая, любовь ясная есть солнце. Солнце греет, а любовь ласкает. Всё – в любви, любовь и пуля не возьмет».
Однако одной только любви для праведной жизни, наставлял он, недостаточно. Только тот найдет истинную дорогу к Богу, кто преодолеет свою гордыню, отрешится от земной суеты и слабостей, научится спокойно воспринимать все те испытания, которые ему ниспосылаются свыше для проверки крепости веры.
Судить о распутинских представлениях можно на основании текстов его книг. Многие не знают, что от его имени издано несколько брошюр, составленных, как заметила А. А. Вырубова, примерно в тех же выражениях, которые он произносил и на своих встречах.
Существует несколько таких книжек. «Житие опытного странника» (1907), «Великие дни торжества в Киеве! Посещение Высочайшей Семьи! Ангельский привет!» (1911), «Мои мысли и размышления. Краткое описание путешествия по святым местам и вызванное им размышление по различным вопросам» (1915). Они в открытую продажу не поступали, а рассылались автором своим близким людям.
Во всех этих книжицах много искреннего чувства, передаваемого неповторимым распутинским языком. Распутин знал и не сомневался, что Православие – опора России. «Я уверен, если больше веры будет, никакой варвар не подточит корень ее (Родины)».
Описание образов и ситуаций – точное и выразительное. Вот как он описал католическую Пасху, свидетелем которой был в Иерусалиме, высказав и свои суждения о русском празднике Светлого Христова Воскресения.
«Я был очевидцем и сравнивал их Пасху с нашей – у них неделей раньше она была. Что же сказать про их Пасху? У нас все, даже неправославные радуются. В лицах играет свет, и видно, что все твари веселятся. А у них в основном самом храме никакой отрады нет, точно кто умер, и нет ожидания: выходят, а видно, что нет у них в душе Пасхи, как у избранников, а будни. Какое же может быть сравнение с Пасхой Православия! Совсем это другое. Ой, мы счастливые православные! Никакую веру нельзя сравнить с православной. У других есть ловкость – даже торгуют святыней, а видно, что нет у них ни в чем отрады, вот обман, когда даже в Пасху служат, и то лица мрачные, поэтому и доказывать можно смело, что если душа не рада, то и лицо не светло – вообще мрак, – а у православных, когда зазвонят и идешь в храм, то и ногами Пасху хвалишь, даже вещи и те в очах светлеют. Я не берусь судить. А только рассуждаю и сравниваю католическую Пасху с нашей, как я видел во Святой Земле служили Пасху у греков. А премудрости глубину не берусь судить! Я чувствовал, как у нас ликуют православные, какая у нас величина счастья, и хотелось бы, чтобы нашу веру не унижали, а она без весны цветёт над праведниками, для примера указать можно на о. Иоанна Кронштадтского, и сколько у нас светил – тысяча мужей Божиих».
Может вызвать удивление, что человек, едва умевший выводить на бумаге корявые, часто трудно читаемые слова, смог осилить сочинение книжек. Несомненно, Г. Е. Распутину помогали, а в его окружении всегда были люди из числа тех, кто сам писал или занимался издательской деятельностью. Во-первых, это упоминавшиеся уже Г. П. Сазонов и А. Ф. Филиппов.
Близкими к Г. Е. Распутину являлись и еще два возможных помощника: бывший сторонник Илиодора писатель консервативного направления И. А. Родионов и богатый купец из Москвы Н. И. Решетников. Заметим попутно, что последний – сын той самой Анисьи Решетников, которая в возрасте 78 лет, как уверяли «надежные полицейские источники», «пировала с Распутиным» чуть ли не до утра в московском ресторане «Яр» в марте 1915 года.
Независимо от того, кто был редактором этих книг (иногда даже упоминают имя Александры Фёдоровны, но документальных свидетельств того не сохранилось), все основные положения формулировались самим Григорием Распутиным. Здесь он был всегда очень требовательным, и, например, когда кто-то его цитировал, он требовал буквального пересказа.
Наставление письменным словом было любимо Распутиным. Однако в ряду распутинских письменных источников основными были всё-таки не книги, а «малые формы»: записки и телеграммы. Первые – это почти всегда просьба о чем-нибудь к кому-нибудь, которые Григорий щедрой рукой раздавал ходатаям и просителям, обращавшимся во множестве к нему за помощью в своих житейских нуждах. Такому человеку вручался листок, на котором было написано что-нибудь вроде «милай сделай», «милай выслушай ево», «милай-хороший помоги ей». Этот клочок бумаги в силу удивительного положения писавшего часто срабатывал в чиновных канцеляриях.
Сошлемся опять на знатока распутинской жизни – Муню Головину. «Все истории, – вспоминала она через многие годы, – которые о нем рассказывали, не производили вначале на Григория Распутина никакого впечатления, он продолжал свою жизнь, посещал Дворец, принимал, как и прежде, много гостей, не делал никакого различия между „хорошими“ и „плохими“ людьми, считал, что даже безнадежным людям можно помочь… Он любил всех несчастных, угнетённых, закоренелых грешников и давал всё то, что у него просили. Очень немногие просили духовной или моральной помощи, большинство хотело получить его защиту в социальной обыденной жизни, и он писал на скорую руку записочки с просьбой помочь тому или другому несчастному. Среди министров и важных вельмож находились люди с добрым сердцем, которые принимали с улыбкой эти неразборчивые записочки и пытались выполнить указанные в них просьбы, но находились и другие люди, которые не могли вынести такого оскорбления и приходили в бешенство!».
Слухи о влиянии Распутина прокладывали дорогу его действительному влиянию без всякого «Высочайшего» вмешательства. Клочки бумаги с распутинскими каракулями порой позволяли просителю попасть на самый верх сановного мира, туда, куда без подобной рекомендации проникнуть было бы невозможно. Эти удивительные «рекомендации» во множестве сохранились в бумагах ряда государственных деятелей.
Среди документов премьера и неоднократного министра И. Л. Горемыкина, например, находятся такие собственноручные распутинские обращения, два из которых приведем с сохранением орфографии и стиля: «Дорогой божей старче выслушай их ежели возможно извиняюсь григорий»; «дорогой старче божей выслушай ево он пус твому совет и мудрости поклонитца роспутин».
Возникает вопрос, кому и зачем помогал Г. Е. Распутин. Как уже упоминалось, оказывал содействие он многим. Его квартира на Гороховой превратилась постепенно в своего рода «департамент ходатайств». Человека, близкого к Царю, просили «замолвить словечко» и помочь в разных случаях. В отдельные дни он принимал у себя на дому по нескольку сотен просителей.
Эта деятельность, о которой было так широко известно не в последнюю очередь благодаря распутинским запискам, вызывала общественное негодование. Как он смеет вмешиваться в государственные дела?! Это возмутительно и недопустимо! Подобные стенания часто можно встретить на страницах различных мемуаров и других свидетельств того времени.
На допросах в ЧСК А. А. Вырубова заметила, что к ней «все лезли со всякими вопросами» и что у неё «вечно не было покоя от них». При этом она часто просителей не только лично не знала, но раньше даже и не слышала о них. Все они стремились разжалобить сердце Царской подруги и добиться удовлетворения разных своих надобностей. То же самое, но в еще большей степени происходило и с Г. Е. Распутиным. Для некоторых он стал последней надеждой, а для других – желанным шансом.
У Распутина имелись свои приближенные. В 1917 году ЧСК провела скрупулезное исследование, кто же конкретно входил в распутинское окружение. Потребности революционного времени требовали выяснить и назвать всех поименно. Была произведена своеобразная регистрация «распутинцев», принималось в расчет участие в воскресных посиделках-собеседованиях у него на Гороховой, визиты в дом самого Распутина, переписка с ним и т. п. Однако в этом расследовании никаких сенсационных открытий не сделано. Мало того, оказалось, что число «распутинцев» невелико: всего 68 человек.
Основную часть их составляли женщины, о которых невесть что говорили! Приняв безоговорочно все разговоры о любвеобильности Григория Распутина за правду, общественное мнение было почти единодушно: в его квартире на Гороховой собирались ненормальные, сексуально неудовлетворенные и психически неуравновешенные женщины, предававшиеся там, как считали многие, невероятному, «просто разнузданному разврату». Говорили, что он гипнотизировал сознание разговорами о любви, а затем «овладевал» очередной жертвой, которая уже не могла освободиться от его чар и оставалась преданной ему до конца. Так или примерно так рассуждали многие, от кухарок в богатых домах до собеседников в профессорских кабинетах.
Необходимо подчеркнуть, что многие дамы петербургского света из числа тех, кто посещал квартиру на Гороховой или принимал его у себя, никогда не забывали об огромной социальной дистанции, отделявшей их от «старца Григория». Они встречались с ним, слушали его приятные душевные беседы о любви и смирении, но не забывали, что перед ними сидит простой мужик, который тем не менее близок к Царю, вхож в его Семью. При случае они были не прочь использовать это в своих сугубо земных, сиюминутных и суетных интересах. Затронем здесь одну примечательную в этом смысле историю.
В числе самых именитых «распутинок» часто фигурировало имя высокопоставленной дамы – жены дяди Царя Великого князя Павла Александровича Ольги Валерьяновны, до 1915 года носившей титул графини Гогенфельзен, а затем ставшей княгиней Палей. Об этой авантажной даме стоит поговорить особо.
Ольга Валерьяновна, урожденная Карнович (1865–1929), дочь петербургского чиновника, выросла в скромности, юность провела в безвестности. В зрелые же лета, когда стала «женщиной бальзаковского возраста», общалась с самыми родовитыми и именитыми, невероятного общественного благополучия, украшала себя Царскими драгоценностями.
Простая дворянская барышня превратилась в уважаемую персону высшего света, в одну из первых гранд-дам Империи. От баварского короля в 1904 году она получила титул графини Гогенфельзен, от русского Царя в 1915 году – титул княгини Палей. Ольга Карнович добилась практически невозможного – стала близкой родственницей Венценосцев, тётей Последнего Императора Николая II.
В своем роскошном дворце в Царском Селе графиня-княгиня принимала князей и графов, принцев и принцесс, послов и министров, самых модных музыкантов и художников. Она не была великосветской куртизанкой, державшей «модный салон». Хотя за ее спиной шушукались, называли парвеню, хищницей, но возможностью позавтракать или пообедать с «уважаемой Ольгой Валерьяновной» редко кто пренебрегал.
Ольга Карнович вышла замуж в девятнадцать лет за гвардейского офицера Эрика Пистолькорса (1853–1935) и родила от него троих детей: сына Александра (1885–1943) и дочерей Ольгу (1888–1963) и Марианну (1890–1976). Брак этот долго считался удачным, а Ольга Пистолькорс входила в число уважаемых «полковых дам». Женщина умная, обаятельная, умевшая располагать к себе, она быстро сблизилась с другими женами гвардейских офицеров и даже стала пользоваться покровительством супруги командира гвардии Великого князя Владимира Александровича (1847–1909) и Великой княгини Марии Павловны, урожденной принцессы Мекленбург-Шверинской (1854–1920).
Младшего сына Императора Александра II Великого князя Павла Александровича встретила, когда тот пребывал в глубокой депрессии после смерти в 1891 году супруги – Великой княгини Александры Георгиевны (1870–1891). Великий князь, ставший вдовцом в 31 год, погрузился в меланхолию. Так продолжалось почти два года, пока он не ощутил, что появилась «женская душа», которая его по-настоящему любит. В доме Пистолькорсов в Петербурге, а летом на их даче в Красном Селе собирался цвет дворянских фамилий из числа офицеров гвардии. Были там и представители Династии, в том числе и Цесаревич Николай. Великий князь Константин Константинович записал в дневнике 8 июня 1893 года:
«В 7 часов мы с Ники поехали обедать в Красное, к жене конногвардейца Пистолькорс, так называемой маме Лёле. Там был Павел, мадам Трепова, новый командир конвоя Мейендорф и его жена. С Ольгой Валерьяновной и Ники, и я не раз танцевали зимой; вот она и вздумала нас пригласить. Получив от нее записки с приглашениями, мы было смутились; Ники написал Павлу, как быть. Павел просил приехать, говоря, что будет очень весело. И действительно, скучно не было. Шампанское снова лилось в изобилии, и мой Цесаревич опять кутнул. Но выпить Он может очень много и остается всегда трезв. Вернулись с ним в лагерь в 12-м часу ночи».
«Мама Лёля» была очаровательной хозяйкой. Она умела для каждого найти нужное слово, не оставляла без внимания никого. Пела арии из опер, неплохо играла на фортепиано, была в курсе последних литературных новинок. Ее чары пленили Великого князя Павла. В свете же были уверены, что оборотистая дамочка просто «окрутила» высокородного вдовца. «Маму Лёлю» это нисколько не смущало. Она любила, умела и хотела завоевывать сердца мужчин. Это было самое важное.
В августе 1893 года она отправила Павлу Александровичу поэтическое послание, наполненное страстными признаниями.
Я не могу забыть то чудное мгновенье!
Теперь ты для меня и радость, и покой!
В тебе мои мечты, надежды, вдохновенье,
Отныне жизнь моя наполнена тобой.
В тебе еще, мой друг, сильно воспоминание,
Ты прошлое свое не можешь позабыть,
Но на устах твоих горит уже признанье,
И сердцу твоему вновь хочется любить!
И я люблю тебя! Я так тебя согрею!
В объятиях моих ты снова оживешь.
Ты сжалишься тогда над нежностью моею
И больше, может быть, меня не оттолкнешь!
Сын Императора Александра II трепетал, как юнец, но долго колебался. Он поклялся на могиле жены, что никогда не свяжет себя с другой женщиной. Но прошло время, и новые чувства в душе начали зарождаться. Его тянуло к Ольге, она становилась для него близкой и дорогой. Участливая, внимательная, окружила таким теплом и заботой, что невозможно было тем пренебречь. В ее объятиях он действительно «ожил».
Однако Ольга Валерьяновна была замужем. Ее супруг – гвардейский офицер, и долг чести не позволял вступать в связь с женой гвардейского товарища. Хотя Лёля уверяла, что у них с Эриком «всё кончено», что они фактически перестали быть супругами, Павел Александрович долго колебался. Лишь когда сам убедился, что Пистолькорс по отношению к ней держится вполне индифферентно, тогда позволил произнести признание, «горевшее на устах».
Они стали любовниками. В декабре 1896 года Ольга Пистолькорс родила от Великого князя сына, которого назвали Владимиром (1895–1918). У Николая II появился первый незаконнорожденный двоюродный брат…
Со временем Царский «дядя Павел» и замужняя «мама Лёля», презрев светские условности, стали появляться вместе на людях. На приемах и балах она демонстрировала сногсшибательные драгоценности, и знатоки узнали некоторые из особо вызывающих: это были украшения Императрицы Марии Александровны, которые после ее смерти в 1880 году унаследовал ее младший сын Павел. Всё это служило темой бесконечных пересудов, но внешне не вызывало нареканий, так как «романтические отношения» сами по себе были в порядке вещей; надо было лишь только блюсти матримониальные каноны.
Положение изменилось, когда влюбленные решили узаконить свои отношения. Павел добился от Племянника-Царя разрешения на развод для Пистолькорс, пообещав, что никогда не позволит себе «пойти дальше полагающегося». Осенью 1901 года «мама Лёля» стала свободной, а через год в Италии сын Царя тайно обвенчался с разведенной матерью троих детей.
Разразился скандал. Больше всех возмущался Государь Николай II. Он поверил дяде, пошел ему навстречу, а тот обманул Его, бросил вызов традиции и закону. 20 октября 1902 года Царь писал из Ливадии матери – Императрице Марии Фёдоровне о событии, которое его «нравственно расстроило»:
«Я узнал об этом от Плеве [52]52
Вячеслав Константинович Плеве (1846–1904), министр внутренних дел в 1902–1904 годах.
[Закрыть]из Петербурга, а ему сообщила мать мадам Пистолькорс. Несмотря на источник такого известия, Я желал проверить его и телеграфировал дяде Павлу. На другой день Я получил от него ответ, что свадьба свершилась в начале сентября в греческой церкви Ливорно и что он пишет мне. Через десять дней это письмо пришло. Вероятно, как и в письмах к тебе, он нового ничего не сообщает, а только повторяет свои доводы…В день отъезда своего за границу дядя Павел приказал ему дать в вагон 3 миллиона рублей из своей конторы, что и было исполнено. Из этого вполне видно, что дядя Павел заранее решил провести свое желание в исполнение и всё приготовил, чтобы остаться надолго за границей. Еще весною я имел с ним крупный разговор, кончившийся тем, что его предупредил о всех последствиях, которые его ожидают, если он женится. К всеобщему огорчению, ничего не помогло… Как это все больно и тяжело и как совестно перед всем светом за наше семейство!».
Вскоре последовало Царское наказание: Павел Александрович был лишен офицерских званий, отчислен со службы, ему был воспрещен въезд в Россию, а над его двумя детьми была учреждена опека во главе с самим Царем. Более десяти лет Павел со своей морганатической женой жил за границей. Под Парижем, в местечке Булонь-сюр-Сен, они купили поместье, где и вели светскую жизнь богатых рантье, ожидая Царского прощения. Трудно сказать, сколько бы продолжалось это ожидание, если бы в феврале 1905 года не случилось печальное событие. Бомбой террориста 4 февраля был убит брат Павла Великий князь Сергей Александрович. Великокняжескому изгою было разрешено прибыть на похороны. После погребения он встретился со своим Племянником-Царем и услышал от того, что он «больше на него не сердится».
Великий князь и его новотитулованная супруга (к этому времени она получила в Германии титул графини Гогенфельзен) ликовали, надеясь теперь вернуться в Россию. Павел решил, что опала миновала, и даже обратился к Царю с просьбой «узаконить брак», чтобы «положение его детей не было фальшивым». К этому времени помимо сына Владимира у них родилась дочь Ирина (1903–1990). В ноябре 1905 года появилась дочь Наталья (1905–1981).
Однако вскоре после похорон Великого князя Сергея в Париж пришло известие, что Павлу запрещено вместе с женой появляться на публике. Объясняя мотивы своего решения, Император писал Павлу Александровичу: «Во всяком случае, за Мною остается право решения вопроса о времени, когда тебе будет разрешено приехать сюда с женою. Ты должен терпеливо ожидать, не забегая вперед. Позволив тебе приезжать в Россию от времени к времени, Я желал этим дать утешение твоим детям видеться с тобою. Они потеряли в дяде Сергее в сущности второго отца. Не забудь, что ты покинул их для личного своего счастья».
Великий князь воспринял это как оскорбление и отказался появляться в России без жены. Он просил своих братьев Владимира и Алексея оказать содействие и добиться от Царя угодного решения – признать брак. Царь оставался непреклонным. Своему дяде Великому князю Алексею Александровичу разъяснил мотивы своего отказа.
«Я смотрю на этот брак, как на поступок человека, который желал показать всем, что любимая им женщина есть его жена, а не любовница. Желая дать новое имя сыну ее Пистолькорсу, он этим самым поднимает восьмилетнее прошлое, что в особенности неудобно по отношению к его детям от покойной Аликс. Они в таком возрасте, что скоро могут понять, какого рода отношения существовали между их отцом и его женою. Не думаю, чтобы это способствовало сближению их с ним.
Репутация жены, восстановленная законным браком, опять поколеблется благодаря подчеркиванию прошедшего. Наконец, совершенно естественно ребенку оставаться при матери и продолжать носить фамилию первого мужа. Вот те причины, которые заставляют Меня не соглашаться на просьбу дяди Павла».
Шли годы, а в настроении Монарха ничего не менялось. В 1908 году возникла щекотливая ситуация. Дочь Павла Великая княжна Мария Павловна в апреле того года выходила замуж за сына шведского короля Густава V Карла-Вильгельма-Людвига герцога Зюдерманландского. Первоначально отец категорически отказался появляться на свадьбе без жены, но затем всё-таки приехал и был лишь на акте венчания. Остальные праздничные церемонии он проигнорировал. [53]53
Брак Марии Павловны (младшей) не был счастливым. Родив в 1909 году сына Леннарта, она в 1913 году бросила мужа, а через год развелась.
[Закрыть]
Лишь через десять лет после заключения брака Павлу было разрешено вернуться в Россию. Он был восстановлен на службе. Ему были возвращены звания. В 1914 году Павел и Ольга Валерьяновна построили в Царском Селе огромный дворец, обставленный изысканной мебелью в стиле Людовика XV, украшенный дорогими французскими гобеленами и картинами. В мае 1914 года великокняжеская чета там и разместилась. Хозяйка стала здесь устраивать светские приемы.
Однако полного удовлетворения «у мадам» все-таки не было. Она хотела получить княжеский титул, стать «светлостью» и превратиться в полноправного члена Императорской Фамилии, войти в круг избранных, окружавших Императора. Неуемное честолюбие не давало Ольге Валерьяновне покоя. Она жаждала добиться приема во дворце, что означало бы окончательное признание.