Стихи
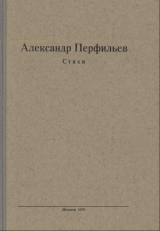
Текст книги "Стихи"
Автор книги: Александр Перфильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
«Живет звериное от древних наших предков…»
Стучаться в чужое окошко, зябко ежась слякотным днем,
И ждать, что позволят немножко посидеть перед их огнем…
Разогнуть покорную спину, снять котомку, руки согреть…
Боже, дай усталому сыну все принять, не клясть, и стерпеть …
Все мы, Господи, Твои дети, все согреты одним огнем…
Отчего же мы в окна эти стучимся слякотным днем?
«Я не хочу влезать насильно в терем к тебе…»
Живет звериное от древних наших предков;
его не смоет в венах кровь веков;
и в каждом есть проклятая отметка —
звериный крик, что глушит тихий зов…
Так жизнь смеется беспощадно едко
над призрачной культурой муравьев…
Пускай горит науки свет вечерний,
пускай дана нам мысли глубина —
таится в каждом Он, Дикарь Пещерный,
– и самка каждому принадлежать должна…
Живет звериное в культурности химерной —
и чашу эту каждый пьет до дна…
Детям
Я не хочу влезать насильно в терем к тебе, хотя б желанной и родной. Как больно то, что мы так мало верим тому, что нам дарует свет дневной, и ложно судим по закрытым дверям о равнодушии любимых за стеной.
Кто дал нам право мять чужие души и открывать без спроса тайники, и для того ль даны глаза и уши, чтоб слушать и смотреть излом чужой тоски, бестрепетно и беззаботно руша все то, что мы сочтем за пустяки?
Дает ли нам любовь такое право подстерегать в ночи чужую страсть и, переполнясь злобною отравой, любимую безжалостно проклясть и называть ее рабой лукавой за то, что не с тобой пришлось ей пасть?
Я был и глух и слеп к своим потерям, я знал лишь то, что мне твердила кровь. Увы, мы, как всегда, совсем не верим, что может все простить одна любовь … Я не хочу влезать насильно в терем, пока его ты не откроешь вновь …
«Богомольная и пьяная…»
Все для них: и Солнце и улыбки
И веселый, яркий шум Весны.
Может быть, они сотрут ошибки,
Те, что нами в жизни свершены.
Боже! Дай взойти им в поле рожью,
Васильками, тысячью цветов,
Не узнав, какому бездорожью
Расточались силы их отцов.
Пусть звучат торжественно и звонко
Детский говор, смех и топот ног.
Потому что в эти дни ребенка
Улыбнулся в небе хмурый Бог.
«Я всегда, всегда душою с теми…»
Богомольная и пьяная,
От экстаза покаяния,
До отчаянья неверия
Ты метешься издавна…
Необъятная, смутьянная,
На кресте богоискания,
С темнотою суеверия —
Это ты – моя страна…
Это ты, порывно дикая,
Русь – монахиня гулящая,
С самогонкой богомолица,
Изошедшая в скорбях.
Не за эту ль скорбь великую
Пречестная Мать Скорбящая
Снизошла к твоим околицам
С Сыном Божьим на руках?
Миреллии
«Говорим презрительно: мещанское счастье…»
Я всегда, всегда душою с теми,
Кто мне дорог и кого люблю.
Потому что мысль сильней, чем время,
И пространство ей целует стремя —
Ей простор, как в море кораблю.
Только в нашей оболочке бренной
Много силы, гнущей до земли,
И не каждый слышит мыслью пленной
Души тех, томящихся в дали,
И не каждый видит груз священный,
Постоянный, вечный, неизменный,
Что везут с собою корабли.
«Подошла, как облачко талое…»
Говорим презрительно: «мещанское счастье,
Жена, дети, кухня, пеленки …
Но отчего в осеннее ненастье
Детские голоса так звонки?
Говорим испуганно: «Петля навеки!
Копеечные расчеты, вечное корпенье…»
Но отчего в каждом человеке
Смутное к семье тяготенье?
И у каждого бывают такие мгновенья,
Что отдал бы все на свете,
Только бы было это вечное корпенье,
Жена, пеленки, дети…
«Сколько мне стоило горьких усилий…»
Подошла, как облачко талое,
Поцелуем коснулась спящего.
Это счастье – такое малое —
Светлее, ясней настоящего.
Ведь в него незаметно вложено
Оправданье несовершонному:
Ты, целуя, простила сонному
То, что будет им уничтожено.
Забывается все бывалое,
Безобразна явь настоящего…
Только счастье малое, малое
Остается на лбу у спящего.
«Господи! С нашей ли верою…»
Сколько мне стоило горьких усилий
Сердце зарыть в бытие,
Только нашла ты под кучею пыли
Детское сердце мое.
Но не взяла, а сказала с тревогой:
«Как оно бьется опять!
Этой большою и скорбной дорогой
Мог ты его потерять!
Значит, не тронуто игом советским,
Значит, щадила война,
Если осталось по-прежнему детским,
Так же, как в те времена.»
Я не сумею ответить словами
На нерешимый вопрос,
Как через кровь, через пытки и пламя
Сердце я целым пронес.
Стоит ли трогать минувшие были
Даже во имя твое,
Если забыла ты вынуть из пыли
Детское сердце мое?
«Огоньки, как звезды на пути…»
Господи! С нашей ли верою
Входить в другие миры?
Этой ли ношей серою
Пачкать Твои шатры?
Пустишь, рожденных вьюгою?
Примешь одетых дерюгою,
Туда, где горят костры?
Мы же убогие, пьяные,
Оставим следы лаптей
Там, где цветы осиянные,
Снежинки Твоих Страстей?
Мы – ж это те топоры,
Крест Твой тесавшие, серые…
Мы же и Ясли с Пещерою
Создали с древней поры…
Верую, Господи, верую!
«Сильному – мощь водопада…»
Огоньки, как звезды на пути.
Дальние гудки, свистки и звоны.
Поезд скорый должен здесь пройти.
Что ему за дело до влюбленных?
Помню я высокую трубу
Укрощенного стального зверя,
И не раз ему свою судьбу
Поручал я, в будущее веря.
Нес меня он к пажитям войны,
Уносил обратно к тихим зорям.
Видел я поля родной страны
В радости, в несчастьи и в позоре.
И теперь сюда меня привез,
Наказав в чужой стране беречься…
Вот под этот самый паровоз
Так светло и радостно улечься!
Сильному – мощь водопада,
Слабым – глухая гать.
Нищему скальду надо
Каждому нежно лгать.
Лгать, чтоб томимые жаждой
Солнечный пили Свет,
Лгать, потому что не каждый
Сын Голубых Планет.
Если ж почувствовать можно
Эту Господню весь
Как же тогда ничтожна
Зависть к счастливым здесь!
Редкому Божья рассада
В жизни расцветит гать…
Значит, смириться надо,
Губы сомкнуть и ждать.
Александр Ли (Перфильев) Стихотворения из сборника «Листопад». Вторая книга стихов (Рига, 1929)
«Если днем тоскливо мне и глухо…»«Опять в зеленых шапках тополя…»
Если днем тоскливо мне и глухо —
Ввечеру не закрываю ставни,
И тогда приходит ночь-старуха
Рассказать о были стародавней.
Припадая тихо к изголовью,
Принося с собою лип цветенье,
Нежность небывалую сыновью
Пробуждая трепетною тенью.
А когда рассветный луч забрезжит,
Прикоснувшись неба кистью тонкой,
Оставляет ночь – седая нежить —
Осужденного на жизнь ребенка.
«Я слишком устал для того, чтобы снами…»
Опять в зеленых шапках тополя,
Приятна тень от старых лип разлапых,
В июльский вечер их медвяный запах
Вдыхать люблю я, память окрыля.
Не о степных просторах ковыля,
Не о Руси равнинной на этапах,
Не о верблюжьих неустанных лапах,
Измеривших Монголию, пыля.
На отблески полупогасших дней
Моей большой и путаной дороги —
Не женщины любимой профиль строгий —
Встает иное в памяти моей!
Дворцы, ажур моста, Невы изгиб,
Взнесенный в небо шпиль адмиралтейский
И золотистый от цветущих лип
Задумчивый бульвар Конногвардейский.
Плотовщики
Я слишком устал для того, чтобы снами
Дневные ошибки загладить…
Я слишком был верен, чтоб новое знамя
К склоненному древку приладить.
Я много измерил земель необъятных,
И земли те слишком чужие,
Не им обезличить в речах непонятных
Священное слово – Россия.
Я слишком вкусил от пожарищ и дыма,
Чтоб мирную жатву постигнуть.
Я слишком любил – чтобы Новое Имя
На щит почерневший воздвигнуть.
Илья – Пророк
Измызганные лапти на панели…
Привычны спины, – согнуты в веках…
Армяк в заплатах, лица загорели,
В них серая, сермяжная тоска.
Они идут спокойно безучастны,
Неся свои котомки и крюки,
Моей Руси – не белой и не красной —
Покинутой Руси плотовщики.
Брезгливо смотрит чужеземный город,
Бегущий за мечтой культурных благ,
На распахнувшийся посконный ворот,
На косолапый, неспешащий шаг.
Да, этот город слишком накрахмален,
Закован в сталь своих условных пут,
Чтобы понять, как тяжкий путь их дален,
Чтобы постичь нечеловечий труд.
И не понять готическим соборам,
Хранящим пыл в молчании веков,
Унылых песен, спетых дружным хором
Оборванной Руси плотовщиков.
Морозной ночью
Илья-Пророк коней своих вознес
И бешеным движеньем их исполнил;
Из-под его стремительных колес
Взметнулись вихри и извивы молний.
И небо развернуло темный зев,
Дорогу уступая конским грудям…
И хлынул дождь, как древний знак, что людям
Еще дана надежда на посев.
Старый Петергоф
На синих стеклах вновь мороз наметил
Причудливый серебряный галун,
А ночь тиха, и купол неба светел,
Как будто в нем так много ясных лун.
И снег на камнях улиц в искрах синих,
И неумолчный говор бубенцов …
В ком сердце этой ночью не застынет
От холода серебряных цветов?
И если есть цветы на свете краше,
То не для тех горит их яркий цвет,
Кто пил хоть раз из синей неба чаши
Морозной ночью странный лунный свет.
Рыцари Святого Духа
Вы вскользь сказали: «Старый Петергоф!
Я там жила … давно, еще девчонкой…»
И от простого смысла этих слов
Моя душа забилась грустью тонкой.
Взметнулись в ней осколки прежних снов…
Вы вскользь сказали: «Старый Петергоф!:
Вы помните: журчащие струи,
И Монплезир, и шахматную гору…
Мой Петергоф! В полуночную пору
Как я любил все шорохи твои.
И музыку сквозь кружево листвы,
Подобную таинственному звону,
А позднею порой на рандеву к «Самсону»
Ужели никогда не торопились вы?
И в лепете его немолчных струй
Вы разве не ловили шепот дерзкий?
И разве не дарил вам поцелуй
Лихой поручик конно-гренадерский?
Я никогда нигде вас не встречал,
Теперь вы стали дороги и близки…
Быть может, вам влюбленные записки
Я юношей краснеющим писал?
И их бросал туда, где ряд скамей
Перед эстрадой струнного оркестра,
В тот миг, когда маман пленял маэстро
Колдующею палочкой своей.
А помните старинное село
С таким смешным названьем: «Бабьи Гоны»?
Какой далекой песни перезвоны
Названье это в душу принесло!
Там собирались мы на пикники
Веселою и шумною ватагой…
Юнцы пленяли барышен отвагой,
И в преферанс сражались старики.
…………………………………………
Вы помните? О, горечь этих слов!
Забыть ли то, что больше не вернется?
Ведь никаким изгнаньем не сотрется
В душе названье: Старый Петергоф.
Г. Д. Гребенщикову
Четыре сонета
Есть рыцари со сломанным копьем
И со щитами, согнутыми в битвах…
Их души – опустевший водоем,
Не помнящий о песнях и молитвах.
Есть рыцари чужих нездешних мест,
Жрецы давно враждебного нам храма…
На их щите отверженном не Крест,
А красная от крови пентаграмма…
Есть рыцари Железного Креста,
Закрытые опущенным забралом,
У них в сердцах закована мечта
Стремлений к недоступным идеалам.
Есть рыцари, которым имя – месть:
Их сердце ко всему иному глухо…
И лишь одним я жизнь готов принесть —
Смиренным рыцарям Святого Духа.
Их жизнь убога, мудра и проста,
Душа всегда на жертвенность готова,
Не на щите они несут Христа,
А в чистом роднике Живого Слова…
Ты, давший мне глоток Живой Воды,
Смиривший сердце Истиной благою,
С тобой готов до Утренней Звезды
Идти оруженосцем и слугою.
Он пожалел нас, бедный Люцифер,
У Божества из милости живущих,
Поведав нам о таинствах зовущих
Иных миров, иных надзвездных сфер.
И Господу, не знающему мер,
Великолепному в лазурных кущах,
Непогрешимому из Всемогущих,
Он показал дерзания пример.
Но, Утренней Звездою нам мерцая,
Он не дал сил отверженным от рая
Упасть или подняться до чреды:
Наипрезренные из всех творений —
Мы только отблеск грешных озарений
Непостижимой Утренней Звезды.
Вы днем внимаете обычным фразам
Задумчивы, печальны и бледны,
А в ночь, когда на землю сходят сны,
Вы отдаетесь бледным лунным фазам.
Я знаю вас по песням и рассказам
По былям и преданьям старины.
Но разве тайну лунной тишины
Осилит жалкий человечий разум?
И если ваш неощутимый шаг
Прошелестит над молчаливой бездной,
Кто вам подаст неосторожный знак,
Кто голос свой возвысит бесполезный,
Чтоб, разорвав магическую нить,
Небесное в земное уронить?
Мой древний предок, дикий хан Тимур,
Ты был для мира бесконечно страшен,
Враг городов и сел, и мирных пашен,
Презревший страх бойниц и амбразур.
И для меня, сквозь толщу всех культур,
Сквозь стены наших вавилонских башен,
Не призрак ты, ты будто бы вчерашен,
На боевом коне угрюм и хмур.
И если жизнь пустую проклиная,
Я не кочую без конца и края,
Как ты, в давно ушедших временах,
То твой клинок, и ятаган, и стрелы,
И конский храп, и каждый подвиг смелый
Я сладко знаю в быстролетных снах.
«На войне молодеет душа…»
Как грустно и светло перебирать
Подобно четкам, имена любимых,
В нетающих благословенных дымах
Им суждено гореть и не сгорать.
Пусть времена, пришедшие, как тать,
В своих шагах неслышных и незримых
Таят печаль о снах неповторимых —
Засушенным цветам не расцветать.
И если мы, согретые другими,
Влекомые желаньями своими,
Иные повторяем имена —
То только лишь на ниве снов уплывших,
Где тени всех любимых и любивших,
Другой любви взрастают семена.
Воскресение Христово
На войне молодеет душа,
Разрывая постылые путы:
Выпить жизнь из простого ковша!
Быть собой до последней минуты!
Небывалому бросить: могу,
Смерти крикнуть в лицо: не позволю.
И без злобы навстречу врагу
Устремить обострённую волю,
И в предсмертном томленье своём
Твёрдо помнить слова огневые,
Что высоким казачьим седлом
И клинком создавалась Россия.
…………………………………
В окошке – бегущие сосны,
Защита от дюнных песков,
Ткут ярко-зеленые кросна
На самом большом из станков.
Но рельсы нахмурённой сталью
Чужды зеленеющих крон,
Твердят, что печалью и далью
Я снова с тобой разделен.
Тобою и чувством я хмелен,
Быть может, на веки веков,
Но в жизни сильнее, чем зелень
Нашествие дюнных песков.
«Запах сена, ромашки и тмина…»
Ночь простые холсты небеленые,
В ясноглазый апрель засиненные,
Заслонив облаков острова,
Распахнула над старицей древнею,
Что большой притулилась деревнею,
И, с уделов доныне жива,
Носит древнее имя – Москва.
Шли над ней за столетьем столетия,
Благоденствия и лихолетия, —
Крест Господень и вражий топор —
Но, спокойная и величавая,
Все стерпела Москва златоглавая,
И последний тяжелый позор
Осиянное имя не стер.
Ночь окутала мраком околицы,
Но Москва не заснула, а молится —
Ибо кончился длительный пост:
Птицу Сирина с песней тоскующей
Этой ночью пасхальной, ликующей
Белокрылый сменил Алконост.
Ночь уже побледнела весенняя,
Но не смолкли в церквах песнопения
В этот радостный праздник Христов,
И торжественной медью расплавленной
Над Москвою, от ига избавленной,
Как напутствие Крестных ходов,
Льется звон «сорока сороков».
А вверху над Кремлем белокаменным,
Заревым поглощаемы пламенем,
Растворяясь в туманной дали,
Под тяжелою ношей согбенные,
Крестным ходом идут убиенные,
Что в бесчестие Русской Земли
Честной смертью на плахе легли.
Имена ты их, Господи, ведаешь,
Но не с ними ль невидимо следуешь
На Восток, в огневых облаках,
Провожаемый ясными звонами,
Над полями, лесами и склонами
С плащаницей Руси на руках?
С.А. Белоцветову
«О чужих, о странных, о прохожих…»
Запах сена, ромашки и тмина,
Васильки наклонились к овсу,
И дороги размытая глина
Затерялась в сосновом лесу.
На пройденные версты не глядя
Я тихонько иду и пою,
Пусть больное останется сзади,
Пусть не мучает душу мою.
Я давно не ходил в богомолье
И не видел, как зреют овсы,
Колосится ржаное раздолье,
Дожидаясь серпа иль косы.
Как зеленые кудри играют
Молодого веселого льна…
Пусть душа никогда не узнает,
Что не та ей дорога дана,
Пусть она не терзается болью,
Что напрасно и долго мы ждем,
Не настанет ли срок богомолью
По России, размытой дождем.
Спасо-Преображенская Пустынь, июнь 1928 г.
Г. Д. Гребенщикову – на книгу «Гонец»
«Мои глаза давно глядеть устали…»
О чужих, о странных, о прохожих,
Молчаливо ждущих у крыльца,
О сердцах, с моим усталым схожих,
Я сегодня слышу от Гонца.
Я не знаю, что сказал он дальним,
Что они ответили ему,
Но меня нашел он не печальным,
А склоненным к сыну моему.
Не одну я пережил потерю,
Жил, уподобляяся рабу,
Но в него я так же нежно верю,
Как в России светлую судьбу.
Как и в то, что сгинуть мы не можем,
Потому что Дух сильней, чем плоть,
Как и в то, что странным и прохожим
Не всегда бродить судил Господь.
Родная старина
Мои глаза давно глядеть устали,
И даже сон не в силах их смежить,
И только песней, кованой из стали,
Вдуваю жизнь в усталость слова: «жить»;
Пока они звучать не перестали,
Мы можем этой жизнью дорожить.
Зажегся день, апрельский день обманный,
Нахмуренную готику смутив,
Так с улицы порой в хорал органный
Врывается безудержный мотив,
Так на подмостках гаер балаганный
Коверкает столетья живший миф!
И странно думать мне, что весны те же
Века, тысячелетия подряд,
Что жизнь прожив, еще совсем я не жил,
Что не впивал переживаний яд
И оглянуться не на что назад.
Дни проходили смутной вереницей,
Покорные велениям земли…
Взлетали, возвращались журавли,
Как мысль моя в исканьях Синей Птицы…
Зачем они остаться не могли
В стране, где холода не могут сниться?
Как шпиц собора древнего отточен,
Что синим шелком неба оторочен,
Мой ум пытался вознести мечты
В томительном исканьи Красоты,
Но мир, несущий тяжесть дней, непрочен,
И кубки нашей радости пусты.
Пусты, как бесконечная потеря,
Все радости Земли – веленья Зверя,
И я живу, грядущему не веря,
И прошлого не поминая вслух.
Приходит радость – вспыхнет светлый дух —
Уходит радость – и костер потух.
Теперь душа моя – источник мутный,
Колеблемая прихотью минутной,
Приливами, вздымающими ил.
Пусть дует ветер, встречный иль попутный,
Но парусов на глади неприютной
Уже давно никто не находил.
Наивная мечта о Синих птицах!
Я чувствую, она как мир, стара…
Быть может, позабыть о ней пора?
Недаром отречение Петра
Забытое в евангельских страницах,
Петух вещает на церковных шпицах!
Сражалися за Истину мечи,
Да, многие всю жизнь ее искали!
И солнечные, лунные лучи
Нас в длительном пути не раз встречали.
Мы окунались в горные ключи,
Но ни один из нас – в святом Граале.
Источника животворящих сил
Изведать никому не удавалось:
Нас побеждал седой и древний Хаос,
Мы верили, но срок не приходил,
Мы жаждали, но жажда оставалась,
Ее еще никто не утолил.
Мои глаза давно глядеть устали,
И даже сон не в силах их смежить,
И только песней, кованой из стали,
Вдуваю жизнь в усталость слова: «жить»,
Пока слова еще не отзвучали,
Мы можем этой жизнью дорожить.
И.Н. Заволоко
Людовик Восемнадцатый в Митаве
Не постигнуть внезапную грусть,
Но душа принимает без слова.
От постылого дня отвернусь,
Отойду в безвозвратное снова.
За окном серебро седины,
Ночь свои опустила ресницы…
Предо мною «Родной старины»
Шелестящие мягко страницы.
И встает позабытая быль:
Русь – поля и зеленые склоны,
По степи золотится ковыль,
Тихий свет от Рублевской иконы.
Русь медвежьих углов и святынь,
Целина необхоженной чащи…
Подступившая к сердцу полынь
Сот медвяных изгнаннику слаще.
Набежавшую грусть не понять,
Но душою ее не отрину:
Кто отвергнет простившую мать,
Что пришла к позабывшему сыну?
«Душа моя, как ржавый флюгер…»
В его глазах – минувший дым Бастилий
И безобразный призрак эшафота.
А в сердце – трепет королевских лилий,
Растоптанных ногою санкюлота.
Нахмурены седеющие брови,
Искривлен рот от горечи отравы:
Последний, Восемнадцатый Людовик
Из милости живет вблизи Митавы.
Но не один в глухом изгнаньи сир он —
Потомок крестоносцев в тяжких бронях…
В угрюмом замке бродит герцог Бирон,
Вознесшийся и снова павший конюх.
Как молоты стучат в остывшем сердце
Часы – воспоминанье о Версале…
А рядом бродит призрак – мертвый герцог
В нависшем, как проклятье крови, зале.
И вырастают страхи – исполины,
А губы шепчут позднее признанье,
Что лучше краткий ужас гильотины,
Чем долгий стыд бесславного изгнанья.
Как мрак ночной под балдахином долог,
И кажется, что грудь уже не дышит!
Как странно думать, что тяжелый полог
Поверженными лилиями вышит!
И в исхудавших пальцах до рассвета
Дрожат печально золотые кисти…
Но никогда не воскрешают лета
Осенние топазовые листья.
А утром… снова сдвинутые брови,
В ушах еще шаги ночные гулки…
Последний Восемнадцатый Людовик
Томится на безрадостной прогулке.
В полях хлеба, и васильки, и клевер —
Созвучие мечтательных идиллий!
Но разве знает полудикий Север
Тоску и нежность королевских лилий?
«Опять огни бульваров Монпарнаса…»
Душа моя, как ржавый флюгер
На покосившейся избе…
При каждом взмахе крыльев вьюги
Дрожит покорная судьбе.
Душа моя, как колос спелый
Забытый жатвою давно,
Что гнёт, бессильно пожелтелый,
К земле ненужное зерно.
В своём мучительном недуге,
Ввергая жизнь в небытие,
Я твой, Россия, ржавый флюгер,
Зерно отпавшее твоё.
Но верю я, что флюгер ржавый
Преднамечает вьюгам ход,
А тленье зёрен у канавы
Весенней зеленью взойдёт.
Д-ру Г.Г. Кульману
Круги
Опять огни бульваров Монпарнаса,
Осенних листьев шорох по песку,
И призраки полуночного часа,
Огням кафе несущие тоску…
Вой саксофонов, всхлипывание альта,
Виолончели бледная мечта…
И в каждый дюйм нагретого асфальта
Безликая вдавилась нищета.
Но проходя полуночным бульваром,
И погружаясь в эту суету,
Вы вспомните не раз о храме старом,
Затерянном в мечтательном скиту.
И растворясь в его кадильном дыме
На миг исчезнет шумный Монпарнас…
И вы вздохнете: «Отче Серафиме,
В скиту небесном помолись за нас».
Ночь отшуршала траурною чтицей
Над тусклым днем, улегшимся под спуд,
И вот в окне рассвет голуболицый
У сумерек крадущий дробь минут.
Они идут, наследуя друг другу,
Неугасимый свет и вечный мрак.
Мы тоже ряд веков идем по кругу,
С которого нельзя свернуть никак.
И нам каким лучом в лицо ни брызни,
Какой зарей ни освети его —
Несущим в жизнь усталость стольких жизней
Свет Солнц и Лун не скажет ничего.








