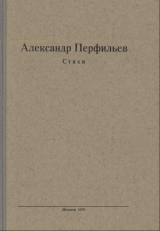
Текст книги "Стихи"
Автор книги: Александр Перфильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Александр Перфильев. Cтихи. Мюнхен, 1976
(По записи поэта):
«Предполагаемый, но не окончательно решенный эпиграф к сборнику. Вероятно – нет»:
«Пусть розы вянут – это ничего —
Всему цветущему даны живые сроки.
А в этой книжке сердца моего —
Быть может, есть, невянущие строки.»
Ирина Сабурова. Предисловие
«Мой биограф будет очень счастлив,
Будет улыбаться полчаса…»
Н. Гумилев
Биографы и историки литературы действительно очень счастливы, если им удается, иногда через много лет, обнаружить еще одну мелочь из жизни больших поэтов и писателей. Это понятно, конечно. Но мне кажется, что нужно говорить не только о великих. Каждый, средний или малый литератор все же был творцом, «кустарем задушевных строк», по мере своих сил и таланта, и мучился, потому что мучаются все.
Является ли Александр Михайлович Перфильев (ранее – Александр Ли, он же – Шерри-Бренди) поэтом выше или ниже среднего уровня – определять не берусь, потому что я – не литературный критик. Мне выпала только печальная обязанность собрать его литературное наследие, и постараться сохранить его в какой то мере для других. В «Наследии» перепечатаны три его сборника, ставших теперь уже библиографической редкостью, тексты некоторых его песенок, и стихи, написанные за последние несколько десятков лет. «Наследие», напечатанное на ротаторе, всего в 50 экземплярах, разослано по архивам, библиотекам и особо заинтересованным лицам, для, надеюсь, сохранения на будущее. Лучшие, по моему разумению, стихи из этого наследия входят в этот сборник «Стихи». Что касается прозы – рассказов, то выпустить их сборником вряд ли удастся. Большинство были и будут еще напечатаны в газетах и журналах.
Кроме стихов, текстов на музыку, свою и чужую, А. М. Перфильев в течение всей своей жизни написал неисчислимое количество фельетонов в стихах и прозе, но будучи не писателем– юмористом, а газетным фельетонистом, живо откликавшимся на злобу дня. Эти фельетоны вряд ли представляют какой либо интерес впоследствии, хотя в свое время часто бывали очень хлесткими и меткими. Помню, например, одну из его «находок» в составленной им в тридцатых годах «Азбуке»: «Ы» – изреченье Ильича в момент его паралича». Писал он фельетоны и под своим именем, и под различными псевдонимами, из которых наиболее частым был «Шерри-Бренди».
Жизнь и значение всякого литератора – в его произведениях. Везде три главных темы: любовь, смерть и Россия. Можно отметить и некоторый дуализм творчества: в своих фельетонах он был язвительным и метким юмористом, ярко выраженным антикоммунистом, писал остроумно и легко. Эта сторона его творчества совершенно не касалась поэзии – всегда глубоко пессимистической. Половина его стихов помечена в подлиннике: «Ночь. Тоска. Одиночество.»
Но пусть судят другие. Я считаю только, что у него безусловно есть «невянущие строки», которые могут дать кому-нибудь что-нибудь и впоследствии, потому что и любовь, и смерть, и Россия слишком вечные темы.
* * *
Рассказать о его жизненном пути тоже больше, кроме меня, некому. Я знала его в течение 48 лет, с 1925 года, когда мы встретились, и я вышла за него замуж (в 1940 году мы официально развелись, но в сущности никогда не расходились по настоящему), была матерью его сына Олега (умершего в 1960 году от последствий ранения на фронте), и бессменным всегдашним другом и поверенной в его сердечных делах в течение всех этих лет – до его смерти в 1973 году.
Александр Михайлович Перфильев, второй сын генерала Михаила Аполлоновича Перфильева, происходил из старого дворянского рода Забайкальского казачьего войска, ведущего свое начало от сподвижника Ермака атамана Перфильева. Он родился 2 октября (п. н. ст.) 1895 года в Чите, и приписан к станице Бокукун. В истории рода значилось, что князь Гантимуров, потомок хана Тимура, женился на дочери атамана Перфильева, и был им усыновлен.
Учиться он начал во Втором кадетском корпусе в Петербурге, но прервал учение, отправившись вместе с отцом в научную экспедицию в Центральную Азию известного путешественника Козлова. Впоследствии кончил Оренбургское казачье училище, и вышел в Первый Нерчинский полк, хотя одно время был в Лейб-Гвардии Сводно-Казачьей сотне; во время Первой мировой войны был несколько раз ранен и контужен, награжден за взятие фольварка Поешмень в Восточной Пруссии в конном строю Георгиевским оружием, и под самый конец войны (уже в чине есаула) – Георгиевским крестом. Во время войны был убит на фронте его брат Николай. Отец погиб во время революции. После революции умерла от «испанки» его первая жена и маленькая дочь.
Уже во время войны он начал печататься и был знаком с литературными кругами в Петрограде. После революции был арестован и провел около года в одиночном заключении, потом скрывался, женился второй раз, был послан для связи с казачьими частями в Белых армиях на юге, и наконец совершенно фантастическим образом, достав соответствующие документы, «оптировал» латвийское гражданство и в начале двадцатых годов выехал с женой в образовавшуюся тогда Балтийскую республику – Латвию, в Ригу.
После объездки лошадей для одного рижского фабриканта,А. Перфильев стал работать в редакции газеты «Рижский курьер», и с тех пор окончательно стал на путь журналиста. Со своей второй женой он развелся вскоре после приезда в Ригу, и она уехала заграницу.
В 1925 году в Риге вышел его первый сборник стихов «Снежная месса». В последующие годы Ал. Мих. был сотрудником, редактором, выпускающим, фельетонистом и корректором в журналах «Огонек», «Новая нива», в газете «Русское слово», в журнале «Для Вас», и наконец в крупнейшей русской газете зарубежья «Сегодня». В Риге вышли еще два его сборника стихов «Листопад» (1929), и «Ветер с Севера» (1937).
Помимо газетно-журнальной работы А. Перфильев был всегда тесно связан с нотными издательствами и артистами малой сцены, которых было тогда немало в Риге. Он писал тексты для нескольких ревю, скетчей, всевозможных музыкальных номеров, и бесчисленное множество русских текстов для наиболее популярных фокстротов, танго и т. п., исполнявшихся или выходивших в нотных издательствах, – как иностранных, так и местных композиторов, из которых крупнейшим (из местных) был Оскар Строк.
Русский текст всех нот, вышедших в издательстве Оскара Строка в Риге, написан Ал. Мих. Перфильевым (несмотря на то, что на них значится: «Слова и музыка Оскара Строка»), в том числе пользовавшиеся почему то невероятной популярностью «О, эти черные глаза». А. Перфильев считал это занятие «халтурой», исключительно ради заработка (очень небольшого, кстати), и поэтому упоминание его, как автора текстов – ниже своего достоинства.
Во время первой советской оккупации Латвии – в 1940–1941 году Ал. Мих. скрывался в качестве ночного сторожа в садоводстве. Во время германской оккупации он редактировал газету, выходившую на русском языке.
В октябре 1944 года он бежал в Берлин, где связался с ген. Красновым, снова надел военную форму, был послан в Италию, попал оттуда в Прагу, и после фантастического бегства из под расстрела очутился в Баварии, где жил одно время в Мюльдорфе, потом в Мюнхене. В Мюнхене он сотрудничал в юмористическом журнале «Петрушка», потом в «Сатириконе», ежемесячном журнале «Свобода», и наконец на радиостанции «Свобода», изредка посылая свои стихи, фельетоны и рассказы в газеты. Скончался он 26 февраля 1973 года.
Вот главные этапы жизни и творчества – а это, мне кажется, и есть самое главное для тех, кто может знать его только по стихам.
Что можно сказать о нем, как о человеке, не впадая в неуместную откровенность?
Остроумный, сыпавший экспромтами по всякому случаю, веселый в обществе, пользовавшийся симпатиями, А. Перфильев был по существу острым и тяжелым неврастеником, с большой склонностью к ипохондрии и мнительности. На службе он был хорошим товарищем, всегда готовым помочь, чуждавшимся всяких интриг, очень добросовестным работником, и человеком, никогда не умевшим добиться чего-нибудь и заставить считаться с ним. Он прекрасно знал и любил русскую литературу, хорошо играл на рояли, в молодости пел, очень любил музыку и обладал прекрасным слухом. Музыкальность, мелодичность слышится почти во всех его стихах. В газете или журнале он работал быстро и охотно на любой работе; стихи и прозу писал очень тяжело и мучительно, большей частью по ночам. У него было болезненное самолюбие, но не хватало выдержки и упорства для работы над собой. Он любил природу, цветы в особенности, уют, и зверей.
Что касается романов, – а они составляли всю его личную жизнь, заполняя ее целиком, так что ни для чего другого не оставалось места – то все они были фактически так или иначе неудачными. Обычно он метался между двумя женщинами одновременно, из которых одна была недостижимой, – и нередко, на несколько встреч, влюблялся еще «мимоходом» в третью. При этом он действительно был искренним во всех случаях и всем писал стихи. К любимой в данный момент женщине он был чрезвычайно внимательным и готовым действительно на все (что он и доказывал на деле, нередко совершенно утрачивая всякое понятие о добре и зле по отношению к другим), – но верным он не мог быть никак и никому – может быть, именно потому, что был поэтом.
В одном из четырех стихотворений, посвященных мне, он сказал уже очень давно:
«Только те, которых не ревнуют,
И которым не дарят Мечты,
В смертный час придут и поцелуют
Заостренные черты».
Что я и сделала.
Мюнхен, 1973 г. Ирина Сабурова

Александр Ли (Перфильев). Стихотворения из сборника «Снежная месса. Стихи. 1924–1925». Рига: Пресса, 1925
Богу – на память«Не молюсь я больше в светлом храме…»
Скоро Октябрь забрюзжит, засутулится,
Вылезет ночью седой старичок,
Тихо напудрит безмолвные улицы,
И на деревья накинет платок.
В ситечко дунет, с улыбкою мудрою,
В тихую, сонную, мглистую даль,
Ласково веря, что снежною пудрою
Можно запудрить земную печаль.
Встану тогда, с незажившими ранами,
Выйду, поймаю Его за рукав.
– Ну-ка, напудри голодного, пьяного,
Я утомился и след мой кровав.
Ну-ка, напудри немые булыжники,
Те, что сдавили усталых людей.
Знаешь ли, что фарисеи и книжники
Вновь распинают Твоих сыновей?
Лжешь, не напудришь царапинок жизненных,
Острых порезов и пьяных Голгоф… —
Он не послушает слов укоризненных,
Хмурых, надрывных, страдальческих слов.
В ситечко дунет, с улыбкою мудрою,
Яркие искры рассыплет вдали,
Ласково веря, что снежною пудрою
Можно запудрить болячки земли.
Памяти Лийки
Не молюсь я больше в светлом храме
На закате сумрачного дня…
Жизнь не пряла бледными руками
Тонкой пряжи счастья для меня.
Об одном мечтаю в дни заката:
Тихо лечь в глубокие снега,
И забыть манившие когда-то
В голубой каемке берега.
Все забуду, униженья даже,
Твой печальный образ сохраня,
Потому что – нет на свете пряжи
Тонкой пряжи счастья для меня …
«Люблю мою древнюю Землю…»
В опустевшей детской колыбели
Я оставил все свои мечты.
И живу без смысла и без цели …
В опустевшей детской колыбели
Вся любовь, вся нежность, я и ты.
Свет лампады, бледный луч луны,
Шепот сказок, тихой песни трели.
Мало этих песен мы пропели,
Мало сказок рассказать успели —
И теперь они уж не нужны —
Стало пусто в детской колыбели…
«В вечерней мути шумной улицы…»
Люблю мою древнюю Землю,
Ее касанья чту,
Ее печали приемлю,
Впиваю ее красоту.
Молюсь я другой святыне,
Другие песни пою,
И часто в своей гордыне,
Не помню Землю свою.
Но, если б в Иные Страны
Мы что-нибудь взять могли,
Я взял бы присыпать раны
Щепотку родной земли.
«Зимний ветер так колюч и хлесток…»
В вечерней мути шумной улицы
Ищу всегда твой нежный след,
И заставляет долго щуриться
Случайный женский силуэт.
Полно вечерними заботами,
Тепло укутавшись в манто,
Шурша по снежной пыли ботами,
Ползет безликое ничто…
Когда ж мелькнет фигурка тонкая,
Такая близкая для глаз,
Растет на сердце что-то звонкое,
И обрывается тотчас…
И у витрин, где лампы светятся,
Вгляжусь – не ты, конечно, нет…
Я знаю – нам придется встретиться
Не здесь – во мгле других планет…
Твое пророчество чудесное
Земля не может истолочь,
И охраняет твердь небесная
Молитвы, брошенные в ночь.
«Седое, старое, в мятелях Рождество…»
Зимний ветер так колюч и хлесток,
Жжет лицо, царапает его.
Вот и он – знакомый перекресток,
Но на нем не видно никого.
Треплет ветер, точно очумелый,
Белоснежный Божий пуховик.
Буду ждать тебя я вечер целый,
Пряча щеки в мятый воротник.
Гулко бьет цветной стеклярус града
В ободок фонарного стекла.
Может быть, мне ждать тебя не надо?
Может быть, не выйдешь из тепла?
Может быть, с скучающей зевотой
Просто ляжешь с книжкою в постель,
И забудешь, что томится кто-то
На углу, в собачую метель?
Тихо скажешь, что в такую стужу
И собак не выгонит никто;
И прижмешься, ласковая, к мужу;
Он тебя укутает пальто.
И заснешь, забывши про бродягу,
Не услыша мой безмолвный крик.
Я вздохну, и тихо-тихо лягу
Под фонарь, на Божий пуховик.
Итоги
Седое, старое, в мятелях Рождество,
Такое милое, как елочные свечи…
Далекой радостью пахнуло от него
И легче груз, упавший нам на плечи…
Хоть новых радостей не видим мы предтечи —
Звезда бумажная нас манит в Вифлеем
И дед рождественский и старых сказок речи
Дороже и ценней всех жизненных проблем.
Воспоминанья детства близки всем
И детских глаз так драгоценны блестки,
Что хочется спросить мучительно – зачем
Сменила жизнь мой прежний Вифлеем,
На балаганные бумажные подмостки?
Нечаянной радости
Я не буду твердить: нет в любви озаренности,
Отражения Солнца в волне;
Просто в первой задумчивой-робкой влюбленности
Мы любви не знаем вполне…
Я не буду твердить: нет в любви устремления
Без звериного бунта в крови…
Просто души не в силах уйти от сомнения,
Просто нет никакой любви.
«Вы помните: морозный вечер…»
Я не приеду – ты не жди:
Я пленник камня и асфальта.
Меня оплакали дожди
И ветра хриплое контральто.
Я слышал ночью из окна
Мотив унылый песни древней
И видел утром гребни льна
И пляску Солнца над деревней.
И понял, что в моей груди
Не вызреет проросший колос…
Я не приеду, ты не жди,
Меня оплакали дожди,
И Солнца луч, и ветра голос…
«Я вам принес последний ландыш вялый…»
Вы помните: морозный вечер,
Замерзших лужиц тонкий лед,
И звезд мигающие свечи,
И их подсвечник – небосвод?
Так было весело катиться
Вдоль этих, чуть замерзших луж,
Забыв, что может рассердиться
Мой друг и ваш любимый муж …
А после чай, как деготь черный —
(Его не в силах был я пить) —
Пасьянс затейливый, упорно
Не пожелавший выходить …
Теперь душа – безмолвный глетчер,
И в сердце тонких лужиц лед.
Увы! По ним в морозный вечер
Никто кататься не придет.
«Треплет ветер осенний с деревьев одежду последнюю…»
Я вам принес последний ландыш вялый,
Последний вздох весны, ее предсмертный стон.
Я сам такой, как он, поникший и усталый,
И все отвергнувший – я сам такой, как он…
Я вам принес последний крик весенний,
Безвестно тонущий в лазоревой дали
Не трогайте моих поникших настроений —
Я больше не люблю ни Солнца, ни земли…
В.А.М.
Колыбельная песенка
Треплет ветер осенний с деревьев одежду последнюю.
Как стеклянный колпак, придушила небесная твердь.
Мне сегодня казалось, что в церкви, за ранней обеднею
Отпевали какую-то близкую смерть.
За далеких и близких, больных, разлученных с любимыми
Пред вратами священник смирял изможденную плоть.
А в дали за престолом, окутан кадильными дымами
Над Причастною Чашей склонялся Господь.
И Один только ведал, что страждущим нет исцеления,
А плененных судьбою, забывших к любимому путь,
Никакою молитвой, ни пеньем, ни дымом курения
Никому, никогда не вернуть.
«Было в комнате глухо, темно…»
Бусинки яркие ангельской выточки
В темных небесных шелках
Боженька держит на тоненькой ниточке
В ласковых, теплых руках.
Внемлет с высокой невидимой лесенки
Старческим ухом тугим, —
Так ли поют колыбельные песенки
Матери детям своим.
Если ж забыла пропеть колыбельную
Чья-нибудь хмурая мать, —
На землю бусы свои ожерельные
Боженька должен ронять.
Каждая бусинка – нежная песенка
Вниз совершает полет,
Словно незримая Божия лесенка
Матери в сердце идет…
Боже, не знающий чисел и времени,
Ты и для нас не жалей
Хмурых, усталых, без роду, без племени
Горних Своих хрусталей…
Бусы бросай в одинокие спальные
Взрослым младенцам Своим,
Мы отдадим эти бусы хрустальные,
Детям чужим отдадим…
Тем, кто умеет пройти по калиточке
В детскую душу впотьмах, —
Дороги бусы на тоненькой ниточке
В ласковых Божьих руках…
«Случилось это так давно когда-то…»
Было в комнате глухо, темно…
Падал снег на железный карниз.
И тебя поманило окно
В сумрак ночи, настойчиво вниз…
Что тебе показалось в окне,
Чей увидела пристальный взор?
Или может быть, к синей волне
Ближе путь через каменный двор?
И когда я тебя от окна
На руках, как ребенка, унес,
Ты сказала: «Оставь, я больна,
И меня освежает мороз.»
Было это тогда … или, нет,
Я не знаю, не помню, забыл.
Не сердись, это может быть бред,
Мозг случайный кошмар отразил…
Только знай, через год, в этот день
Так же снег разукрасит карниз,
И твоя легкокрылая тень
Позовет одинокого вниз…
Глянет полночь в немой ворожбе,
Улыбнется морозный простор,
И пойму, что к далекой, к тебе —
Путь один – через каменный двор…
«Как больную свою ошибку…»
Случилось это так давно когда-то…
Был разговор необъяснимо груб,
И вдруг мой лоб смущенно виновато
Ты обожгла прикосновеньем губ.
И сразу в сердце что-то оборвалось,
И в ту минуту ясно стало мне,
Что ты нарочно в чем-то сознавалась,
В какой то не своей вине.
Все это было так давно когда-то:
Воспоминанья стерлись, может быть, —
Но то, что ты совсем не виновата —
Я не могу тебе простить.
«Мы Ясли и Крест Твой тесали…»
Как больную свою ошибку,
Как далекий бессвязный миф,
Вспоминаю твою улыбку
И дрожащий гитарный гриф.
И, как рану от острой бритвы,
Что в глубоком шраме жива,
Вспоминаю святей молитвы
Твоих грустных песен слова.
Может быть, раздумье проснется
И в твоем светло-синем дне,
И из темных глубин колодца
Встанет остро мысль обо мне.
То тогда, на гитарном грифе,
Отгоняя раздумья прочь,
Помолись о бессвязном мифе,
Отошедшем в глухую ночь.
Чужие очаги
Мы Ясли и Крест Твой тесали,
Мы рыли пещеру Твою, Рождались,
Любили,
Брели,
Умирали,
И в сумерках верили,
В сумерках знали:
Разбойник с Тобою в раю.
О Боже! Чьи ж муки суровей —
Твои, иль пространства веков?
За каждую
Каплю
Пречистыя
Крови
Мы отдали много долгов:
За каждую
Судоргу
Сдвинутой
Брови
Мы дали, даем и дадим еще внове
Мильоны безвестных Голгоф.
Всем бродягам посвящаю
«Так ласково Солнце в небе…»
Я волк степной, отбившийся от стаи —
брожу один, бродяга из бродяг, с звериною опаской избегая тех
мест, где люди теплят свой очаг, и, весь насторожившись,
отмечаю в степи глухой свой каждый малый шаг.
Ты не дал мне, Господь, моей жаровни, куда б я
мог подбросить горсть углей, чтоб сердце билось чаще
и неровней и кровь переливалася алей, и не дал силы
видеть хладнокровней чужой уют и жен чужих людей…
Ночь трепетное кружево простерла, окутав в темный
траур небосклон. Мой мозг язвят назойливые сверла:
всяк должен помнить жизненный закон и беспощадно
грызть другому горло за свой уют, тепло и ласку жен.
И каждый зверь, и каждый твердо знает, что он —
один, а все кругом – враги, и весь насторожившись,
отмечает звучащие поблизости шаги. Я волк степной,
глаза мои сверкают – эй, люди! Берегите очаги!
«Проходим мимо с затаенным вздохом…»
Так ласково Солнце в небе
Зовет от всего отрешиться,
Забыть о насущном хлебе,
О том, что должно свершиться.
Так ясно Небо сегодня,
И так лиловы просторы,
Как будто улыбка Господня
Согрела людские взоры.
И словно люди забыли,
О том, что гнетет былое,
Что в сердце так много пыли
И Солнце, Солнце – чужое.
«Что я дам тебе, моя родина…»
Проходим мимо с затаенным вздохом; чужое счастье
больно души жжет. Безумец тот, кто прикоснется к крохам,
упавшим на пол со стола господ, иль даст свободу
пламенным сполохам, что шепчут внятно: счастлив, кто дерзнет…
Дерзнешь! И что же? Только миг отраден, но он так
краток и неуловим … А дальше муки, что уют украден,
что ты виновен перед тем, другим…
Чужой светильник тускл, убог и чаден…
Проходим мимо и глотаем дым.
«Распустились первые подснежники…»
Что я дам тебе, моя родина: души сгоревшей золу,
тоску ли о том, что пройдено, заброшено в вечную мглу?
Я знаю, ты ждешь пророчества в туманах красной пурги;
мне близко твое одиночество, но сам не вижу ни зги…
Рвутся волокна незримые между тобой и мной, родина
горько любимая, за проклятой китайской стеной… А как
бы хотелось пламенно принять твоих мук хоть часть; к
мостовой окровавленной, каменной губами жадно припасть,
чтобы купиною неопалимою блеснуть на новой заре, и,
если нужно, любимая, сгореть на твоем костре.
Распустились первые подснежники,
Набухают почки тополей.
Только мы, бродяги-зарубежники,
Не прильнем к груди родных полей.
И напрасно Солнца песней пьяною
Подарит нас май чужой страны —
Мы навек с Царевной-Несмеяною
Кровью многих лет обручены…
С тою самой грустною Царевною
В кумаче, с распущенной косой,
Что проходит русскою деревнею,
И скорбит над каждой полосой.
Видно, надо выполнить заклятие
Нам, не снесшим тяжести Креста:
У людей, отвергнувших Распятие
Побираться Именем Христа.








