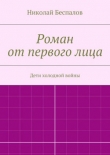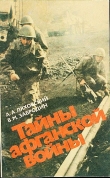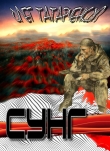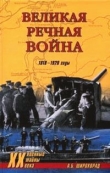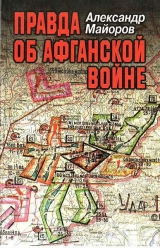
Текст книги "Правда об Афганской войне"
Автор книги: Александр Майоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Оба бронетранспортера парламентеров были сожжены. Все парламентеры ранены, а двое из них убиты.
Дальнейшее проявление «терпения и выдержки» с нашей стороны уже было бы кощунством по отношению к воинам бригады.
– Вертолетный полк – к бою! – приказал я.
Тридцать две машины, восьмерками – одна за одной – стали проходить над виноградниками и бить по нему площадно в течение часа. В это же время истребители-бомбардировщики звеньями и в одиночку прицельно громили саманные постройки-крепости. Над виноградниками бушевал смерч. Затем бригада двинулась вперед: центральный батальон шел на БМП, рассекал группировку надвое.
Впереди правого и левого батальонов, следовавших уступом за центральным батальоном, также шли по одной роте на БМП, а вслед за ними – по две роты в пешем порядке. В резерве бригады оставался танковый батальон.
Вслед за 70-й бригадой действовали подразделения Хада СГИ и Царандоя, дочищая виноградник, беря пленных или уничтожая несдававшихся. Сколько там было убито душманов – один Аллах ведает. А пленных они взяли более полутора тысяч.
Но и наши потери в том бою оказались тоже большими…
Здесь, наверное, надо сказать о «классификации» потерь – что принято считать «огромными», а что «небольшими» потерями. 19 убитых и 38 раненых – много это или мало для такого боя? Конечно, каждая жизнь бесценна. Однако в военном противостоянии смерть становится обычным делом, и столь же обычным делом становится и подведение итогов боя, анализ его результатов. Если взять классические виды боя, огромными называются потери, приближающиеся к половине личного состава, участвующего в бою. В результате таких потерь батальон или рота становятся небоеспособными или ограниченно боеспособными. После таких потерь батальон или роту трудно поднять в атаку и продолжать боевые действия.
Большие потери – это, примерно, четверть личного состава. А обычные потери в классическом бою – это пять-десять процентов воюющего состава. Однако названные числа и оценки не подходят для определения потерь во время боевых действий в Афганистане. Тут мы должны были, – обязаны были! – максимально сохранять жизнь своих воинов. Ведь превосходство наше было подавляющим. И если батальон терял в той или иной операции троих-пятерых убитыми, мы считали это уже большими потерями. Если к ним прибавлялись еще и 10-12 раненых, – то командиры брались за голову и говорили, что бой проведен неудачно, а то и проигран. Ответственность, разумеется, уже ложилась на плечи командира подразделения или части, ему указывалось на недопустимость подобного впредь.
В эпизоде, о котором я рассказал, мы потеряли 19 человек убитыми! И 38 – ранеными! Это страшно много. О происшедшем тут же узнала Москва и узнал Бабрак Кармаль.
На второй же день боев под Кандагаром убитых было человек пять-семь и до десятка-полутора раненых. Моджахеды здесь дрались ожесточенно. Причем, в коротком огневом бою они не уступали выучкой и подготовкой нашим воинам. Сопротивлялись насмерть – другого выхода у них не было.
Группировка Гульбеддина Хекматияра, численностью в несколько тысяч человек (вероятно, от пяти до семи тысяч), была в тот день полностью разгромлена. А сам Гульбеддин как сквозь землю провалился.
Вечером я вернулся в Кабул. Черемных и Самойленко доложили мне, что афганское руководство пребывает в подавленном состоянии.
Весь тот день оперативная группа из членов ПБ НДПА провела в Генеральном Штабе рядом с Черемных. Неоднократно связывался с ними по телефону Бабрак Кармаль.
Глава государства встретил меня во дворце подчеркнуто приветливо. При нем, как всегда, находился товарищ О. Однако о национальном трауре в связи с большими потерями под Кандагаром ни слова, как будто это его и не касалось и исходило предложение не от него. Вообще, я всегда удивлялся метаморфозам Бабрака: от паники до катарсиса восторга по поводу какого-нибудь пустяшного успеха. А ведь судьба уготовила ему место в истории древнейшей страны. Другое дело – какое место, какую оценку его действий определят потомки, – но место в истории Афганистана уже раз и навсегда определено: глава Государства…
Я полагал, что происшедшее под Кандагаром как-то заставит Бабрака по-иному взглянуть на афганскую армию (свою армию!). Он, правда, ее не любил, не доверял ей и боялся ее. Боялся ее успехов, даже малых побед, радовался ее постоянным поражениям – ведь они служили обоснованным предлогом, чтобы просить Москву еще и еще присылать войска в Афганистан.
Тут дело вот в чем. Как я уже говорил, в армии служило большинство членов НДПА – тринадцать с половиной тысяч халькистов из пятнадцати тысяч всех ее членов. Так вот, если при установлении и закреплении власти в республике или в отдельных ее районах самодовлеющей силой стала бы армия, то это означало бы для парчамистов утрату или ослабление их руководящих позиций. Вот почему Бабрак и стремился устанавливать народно-демократическую власть в стране, главным образом, за счет усилий Советской Армии. При таком раскладе он и его сторонники-парчамисты сохраняли бы главенство в центре и на местах, оттесняя на второй план халькистов. Бабрак и его сторонники форсировали рост рядов партийного крыла парчам. Учитывая, что Бабрак – протеже Андропова, я делал вывод, что его и парчамистов всеми силами поддерживают и впредь будут поддерживать посол и представитель КГБ в ДРА. А кто же будет воевать с моджахедами? Халькистская армия! Та армия, с которой я постоянно нахожусь в контакте, заботясь о ее поддержке, повышении ее боеготовности – даже вопреки желаниям и настроению ее Верховного Главнокомандующего. Уму непостижимо! Но это было именно так. Бабрак вскользь поинтересовался, проводилась ли данная операция по плану «Удар». Я ответил утвердительно. Но дополнил:
– В этот план пришлось внести серьезные коррективы, вызванные предательством и коварством моджахедов.
Он промолчал на это замечание. А товарищ О. сверкнул глазенками. Мы поняли друг друга. Инцидент с национальным трауром исчерпан. Главковерх по-прежнему на белом коне победителя!
Я понимал, что Гульбеддин мне не простит «дамские пальчики». Агентура подтвердила: вознаграждение за мою голову было увеличено вдвое – теперь она оценивалась в три миллиона долларов. Мне было предложено ежедневно ездить на службу и обратно на БМП по разным маршрутам, – а их было отработано несколько – и возвращаться со службы не позже 20 часов.
Вскоре подтвердилось, что такая предосторожность была не напрасной…
Кандагар мне вспоминать неприятно и порой даже стыдно. Выполнение мною поставленной боевой задачи, конечно, соответствовало и моим убеждениям, и пониманию моего долга Главного военного советника. Но где-то в глубине сознания я понимал, что занимаемся мы делом не очень-то достойным… И только гибель воинов нашей Советской Армии, ранения и увечья многих и многих моих боевых товарищей, – а на войне мы все одно большое братство, – заставляло меня быть решительным и беспощадным.
Что мне сейчас – открещиваться? Или, как ныне модно говорить – отмываться? Не хочу. И не желаю перекладывать ни на кого вину – ни на погибшего в Афганистане Петра Ивановича Шкидченко, ни на комбрига-70 Шатина, ни на других. Что правда, то правда – и она одна: мне пришлось командовать и этой операцией, и я сделал все, что мог, чтобы и боевую задачу выполнить, и сохранить – как только возможно – жизнь своих подчиненных.
Вечером по «булаве» состоялся мой доклад Устинову. Он слушал внимательно, изредка поддакивал, хмыкал, угукал, а в конце с ехидцей спросил:
– А как же это вы Гульбеддина-то упустили? Не все было продумано? Парламентеров каких-то выдумали…
– Я действовал, исходя из обстановки, товарищ министр! – дерзко и громче обычного рявкнул я в трубку.
Щелк. Связь отключена.
Его бы, сталинского наркома, сюда, в виноградники под Кандагаром… Э, да ладно! Авось, все перемелется… План Гульбеддина сорван. Его главная группировка под Кандагаром разгромлена. Вот это меня радовало. А Устинов? Он же в военном деле ни хренашеньки не понимал и не понимает. Но на душе у меня все-таки было неспокойно, что-то саднило…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Провинция Балх и ее административный центр город Мазари-Шариф на севере Афганистана имели особое стратегическое значение. Здесь пролегала дорога к Термезу, конечной железнодорожной станции, куда с востока и севера шли поезда с вооружениями, боеприпасами, техникой, топливом, цементом, пиломатериалами, удобрениями, пшеницей – в качестве помощи режиму Бабрака Кармаля. Нередко все это добро, уже перегруженное на автомобили, чтобы следовать колоннами на перевал Саманган, подвергалось разграблению или сжигалось отрядами полевого командира Дустума.
Губернатор Мазари-Шарифа и его администрация реальной власти в городе и провинции не имели и жили в страхе, не ночуя на одном месте две ночи подряд. Связь с Кабулом ими не поддерживалась – также из опасения за свои жизни.
Тем временем на афгано-таджикском и афгано-узбекском участках границы сохранялось относительное спокойствие. Судя по всему, Дустум выжидал, да по-видимому и опасался ответных мер наших пограничников.
Однако нас это не успокаивало. Мы не могли позволить враждебной группировке действовать вблизи наших границ.
Будничная активность противника вокруг транспортных артерий и поддержание им страха и нестабильности в провинции – этих аргументов в принципе было достаточно для перехода к разработке войсковой операции.
Предварительно переговорив по ВЧ с Начальником погранвойск Союза генералом армии Матросовым Вадимом Александровичем, я заручился поддержкой с его стороны – нужно было создать такие условия, при которых дустумовцы не смогли бы, отступая под ударами наших войск, перейти советскую границу.
Черемных предложил мне слетать в Мазари-Шариф для более тщательного изучения ситуации и принятия окончательного решения, направленного на разгром моджахедов. Отношения с Дустумом надо было «выяснить» как можно скорее, до наступления зимы, то есть не позднее конца ноября – начала декабря.
Из агентурных источников нам было известно, что в нескольких аулах под общим названием Акбар-Ширага сосредоточились крупные силы моджахедов под командованием самого Дустума.
Нам приходилось учитывать, что население на севере страны состоит в основном из узбеков, таджиков, хазарийцев и меньше из пуштунов. В 20-30 годы здесь осело немало бежавших от Советской власти басмачей. Теперь– живут их потомки, внуки и правнуки. Они помнят историю и яро ненавидят Советы. Значит и бои предстояли жестокие и бескомпромиссные.
Я слетал в Мазари-Шариф и встретился с командирами 5-й и 201-й мотострелковых дивизий 40-й армии, 18-й и 20-й пехотных дивизий афганской армии, интересовался тактикой дустумовских войск. Облетел на вертолете аулы Акбар-Ширага, получив представление о местности.
Все говорило о том, что операция могла стать тяжелой и, не исключено, длительной. Признаюсь, мне хотелось самому ее возглавить, но поскольку инициатором ее проведения был Владимир Петрович, я, скрепя сердце, согласился следить за его действиями из Кабула.
Через несколько дней Черемных предложил мне план проведения операции.
Привлекались полки 5-й и 201-й мотострелковых дивизий 40-й армии и части 18-й и 20-й пехотных дивизий Афганской армии. Особая роль при этом отводилась авиации и десанту.
Коротко, суть наших действий сводилась к следующему. Перекрывая дороги, связывающие аулы с внешним миром, мы намеревались высадить в шести пунктах вертолетные десанты – каждый силой от роты до батальона; подготовить и выдвинуть в район, прилегающий к аулам Акбар-Ширага максимально необходимое число батальонов с тем, чтобы они стремительно соединились с десантом и плотным кольцом окружили эти аулы. Вслед за этим мы, естественно, планировали предъявить противнику ультиматум с целью заставить его сдаться. Отклонение ультиматума означало бы начало уничтожения противника.
Предвидя такую перспективу, я решительно настаивал на том, чтобы любым способом выманить моджахедов из аулов для открытого боя и не допустить огневого воздействия по населенным пунктам. Я строжайшим образом запретил это делать.
Агентурная разведка доносила, что количесто моджахедов в аулах исчисляется примерно шестью – восемью тысячами человек. Среди этого скопления враждебно настроенных к нам людей был один мулла, симпатизировавший нам, или, уж во всяком случае, решивший на нас поработать. И мы надеялись на него, рассчитывали на его влияние и авторитет среди мусульман.
Итак, Черемных с оперативной группой вылетел в район Мазари-Шарифа.
Выбросили шесть вертолетных десантов. На соединение с ними двинулись восемь батальонов с артиллерией афганской армии и шесть наших мотострелковых батальонов на БМП и также с артиллерией.
И вдруг – выпал снег. Полуметровой толщины. Небо опустилось на горы, придавив к земле самолеты и вертолеты. Температура по ночам падала до минус восьми-десяти градусов. Дороги-дорожки, тропы-тропинки замело, завьюжило. Батальоны остановились.
Десанты в горах попали в тяжелейшее положение. Хоть и было у них продовольствие, теплое обмундирование, палатки и боеприпасы – холод и оторванность от главных сил внушала тревогу и, наверное, понятный страх. Моджахеды тем временем сидели в аулах в тепле и не думали ни о какой сдаче в плен.
По радио я переговорил с командирами каждого десанта, просил их выстоять до прихода основных сил. А в голове все вертелись картины шипкинского сражения, о котором я читал еще в детстве и подробности которого, рисовавшиеся в сознании, повергали в отчаяние.
Я приказал генералу Черемных предпринять все возможное, включая самые жестокие меры, для скорейшего соединения батальонов с десантами. По занесенным снегом дорогам и тропам, преодолевая в сутки по пять-семь километров, три дня и три ночи продолжали двигаться наши войска. Боевые машины пехоты рвались на минах, подвергались огню моджахедов из укрытий и засад. Операция приобрела самый нежелательный для нас характер. Десанты продолжали находиться в горах. А мороз усиливался.
На четвертые сутки Черемных отдал приказ на облет истребителями-бомбардировщиками аулов на малых высотах, давая, таким образом, ясно понять, что окружение завершено и душманам ждать пощады не приходится. Решительность, конечно, решительностью, но листовки с требованием к противнику сдаваться в плен мы продолжали разбрасывать. Напрасно!
Я приказал:
– Илмар! Готовь два вертолета: летим на КП к Черемныху.
Сдержанный, как всегда, Бруниниекс возразил:
– Нэ слэдуэт этого дэлать.
– Почему? Я сейчас нужен там, понимаешь, там!
– Это вэрно. Но и Чэрэмных опытэн. И очэнь самолюбив. Поддэржите эго совэтом отсюда.
Я согласился с Илмаром, отдав приказание каждые два часа докладывать мне обстановку под Мазари-Шарифом.
Лишь на шестые сутки батальоны, неся большие потери, стали один за одним соединяться с десантами. Худшее кажется миновало. Черемных сделал еще одну попытку с листовками. Но никакой реакции не последовало. Тогда, связавшись со мной в очередной раз по радио, он предложил нанести удары с воздуха по окраинам аулов. Я посоветовался со своим замполитом, не желая ставить в известность ни Кармаля, ни Рафи, чтобы не связывать их с вероятно непростым для них решением. Мы согласились с предложением Черемных. Решили провести в течение суток удары с воздуха по окраинам аулов («только не по жилым строениям», – настаивал я).
Сделали.
Опять никто не сдается.
Тем временем мы действительно завершили окружение и ясно дали понять об этом противнику.
Нулевая реакция.
Владимир Петрович предлагает расчленяющие удары, чтобы отрезать один аул от другого и не дать моджахедам действовать сообща. Но мне эта идея не нравится. Опять выжидаем. Опять наносим удары с воздуха, но уже все ближе и ближе к домам…
Интуиция мне подсказывала, что должно что-то произойти, потому и не торопился я с проведением на практике предложения Черемных о расчленяющих ударах. Не зря же сидел в стане Противника наш человек. Должен же был он что-то такое предпринять; что подставило бы под наш удар именно бойцов Дустума, а не мирных жителей.
И вот – дело было ночью – моджахеды рванулись из окружения. Бойня продолжалась до рассвета. Бой то и дело переходил из огневого в рукопашный.
– Такой озверелой драки я не видывал за всю Отечественную, – рассказывал мне Черемных позднее, уже в Кабуле. – А когда стало светло, мы увидели почерневшее от трупов снежное поле. И в морозном воздухе пахло человеческой кровью. Раненые моджахеды в плен не сдавались. Они добивали друг друга. Или сами кончали с собой. Кому-то удалось прорваться через наше кольцо. Но таких было немного.
– Я организовал и провел разведку в аулах, – продолжал докладывать Черемных. – Туда спустились и батальоны. В жилищах оставались только глубокие старики, женщины и дети – все, кто мог носить оружие, ночью ушли в бой. А затем, – и он тяжело вздохнул, – как всегда перед установлением власти, началась чистка аулов силами СГИ…
Мурашки пробежали по мне от шеи до поясницы.
Через несколько недель мы узнали дополнительные подробности операции под Мазари-Шарифом.
В то время как наши вертолеты наносили по утрам удары по окраинам аулов, все чаще задевая жилые постройки, Дустум собрал в одном из аулов малую джиргу, где вместе с муллами решал как действовать. Вопрос о возможной сдаче в плен не вызывал разногласий – не сдаваться неверным, драться до последнего. Аксакалов, жен и детей – спасать в укрытиях и домах, остальным, способным носить оружие – прорываться из окружения. Таковым, собственно, было предложение «нашего» муллы, который, по местному поверию, являлся далеким потомком пророка Магомета на земле Мазари-Шарифа. Его поддержали другие, согласился в конце концов с этим планом и сам Дустум. Он и повел своих бойцов на прорыв. То есть на верную погибель.
Однако все было бы слишком хорошо, если бы и наш человек не поплатился за случившееся. Его самого, семью и родственников вскоре нашли задушенными, зарезанными, застреленными.
Поплатились своими головами и губернатор Мазари-Шарифа, и вся его администрация, и многие их родственники.
Дустум умел беспощадно мстить.
А из окружения ему все же удалось прорваться.
И много жестокостей он еще успел совершить. И беспощадно пытал и терзал наших пленных, когда они попадали к нему или приказывал истязать их своим подчиненным. Живыми от Дустума выбирались немногие.
… У меня сохранились с афганской войны оперативные карты и таблицы – с разноцветными линиями, стрелками, флажками. Иногда, глядя на них, я думаю: какая прекрасная и четкая графика! Хоть в рамку заключай, да на стенку вешай. Разве в этих произведениях военного штабного творчества меньше образности, меньше экспрессии, чем в работах живописцев? Но здесь за каждой черточкой на ватмане или топографической карте – адские картины смерти и горе тысяч людей, еще некоторое время назад живших спокойно, не ведавших страха насильственной смерти и военных тревог. Но вот вычертили мы эти карты и таблицы – и люди узнали истинную цену своего афганского лиха и цену нашего советского интернационализма…
Конечно, есть в этой штабной живописи и творчестве своя логика, своя стройность и даже красота. Но за ними стоят события далекие от красоты и естественной жизни людей. За ними стоит огромный труд, тяжелый изнурительный труд солдата. И Панджшер с его высокими горами, с его снегом и русским матом, и кандагарские виноградники, с молчаливым коварством душманов, замерших в лисьих норах в ожидании нашей погибели, и вот теперь Мазари-Шариф… Все они подтверждают: бой – это труд. Страшный и скорбный.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Операция «Удар» успешно завершалась. Стремительно освобождались от моджахедов провинции Кабул, Баглан, Парван, Газни, Заболь, Урузган. В волостях и уездах, в крупных аулах временно устанавливались гарнизоны афганской и нашей армий, их численность не превышала роты. А в уездных или волостных центрах оставляли до батальона. Таким образом, народно-демократическая власть устанавливалась с опорой на военную силу.
В операции было задействовано личного состава от 40-й армии до 80 тысяч, от ВС ДРА до 120-140 тысяч человек. Для их поддержки в боях привлекались истребительной авиации до 190 самолетов, истребительно-бомбардировочной – до 250 самолетов и до 115 вертолетов. По сопротивляющимся группировкам душманов постоянно вели огонь до 70 артдивизионов. В резерве, в готовности закрепить успех любого боя находились шесть танковых батальонов, до 180 танков Т-55 А.
Операцией руководили министр обороны Рафи и я. Практически же всю организацию боев на местности и их ведение осуществлял мой заместитель генерал-лейтенант Шкидченко Петр Иванович и командарм-40 генерал-лейтенант Борис Ткач. Мы с Рафи ежедневно бывали у них на КП, наблюдали за полем боя, давали необходимые рекомендации. Мы торопились до зимы очистить центр страны от моджахедов, установить там народно-демократическую власть.
Нам было известно, что Ахмад-шах и Хекматияр после поражений в Панджшере и под Кандагаром рассорились, обвиняя друг друга чуть ли не в предательстве, возлагая вину друг на друга. Это, конечно, было нам на руку. И мы продолжали громить душманов, которыми зачастую командовали не слишком-то опытные полевые командиры.
Афганский министр обороны Рафи и я, оба руководившие проведением операции «Удар», всякий раз, возвращаясь из района боевых действий в Кабул, направлялись к Бабраку Кармалю на доклад. Дела шли неплохо и докладывать было приятно. Бабрак тоже радовался вместе с нами.
В своих докладах я был точен и откровенен. Однако при обсуждении возможных перспектив придерживался «правила двух карт», которое себя оправдывало: по нашим агентурным сведениям противник действительно оставался в неведении относительно наших намерений. Ложь во спасение служила залогом успешных боев.
При Бабраке естественно находился Осадчий. Он слушал нас и все кивал головой, словно одобряя действия Главного военного советника. И меня это несказанно раздражало. Я думал: окажись ты со мной в Риге, в лучшем случае был бы допущен разговаривать с моим порученцем. Но – тут товарищ О. представлял Андропова, и с его присутствием приходилось мириться.
Тем не менее о правиле двух карт не знал даже он, а следовательно, и ведомство Ю. В. И я ощущал это как свою маленькую личную победу.
Когда Рафи докладывал Бабраку, я внимательно следил за главой государства. Во время упоминания потерь среди душманов Бабрак, казалось, сникал, начинал суетиться, хватал со стола трясущейся рукой карандаш и пытался делать записи. Но у него не получалось, он просил повторить, быть может, надеясь, услышать меньшие, чем в первый раз, числа. Но числа были неумолимы, и Бабрак, слушая, похоже, соотносил эти сведения со своей собственной ролью в войне, и тогда, мне казалось, он являл свое настоящее нутро – передо мной был человек, не столько озабоченный впечатлением, которое он произведет на окружающих, сколько теми возможными в скором будущем оценками в его адрес, которые неминуемо будут влиять на его политическую карьеру. Тень озабоченности, однако, скоро слетала с его лица, он вновь предавался радости побед и благодарил:
– Спасыбо, шурави. Спасыбо!
Появлялись фужеры со «смирновкой»…
Помню, однажды, Бабрак, видимо, с подачи товарищ О., узнав о моем военном прошлом (я служил в кавалерии, командовал эскадроном), произнес:
– Стремьянную!..
Я, однако, как обычно, пригубил. Тем более, что предстояло совещание в управлении ГВС.
Вот так происходили доклады Верховному Главнокомандующему о боевых действиях.
После трагедии в Мазари-Шарифе Бабрак впал в депрессию. Запил с товарищем О. Никого не принимал, нигде не показывался, даже по телевидению не выступал. Ни Нур, ни Зерай, ни Кештманд, ни Рафи, ни даже Наджиб к нему во дворец не могли попасть. А это ведь все члены ПБ и секретари ЦК, глава правительства, министр обороны, даже сам руководитель СГИ. И лишь Анахита Ротебзак, которую мы к этому времени среди своих называли Надеждой Константиновной, изредка проникала во дворец. Табеев метал молнии в мою сторону. Да и сам я понимал, что положение щекотливое и сложное, и оно для меня не останется без последствий: Табеев и Спольников наверняка постараются через Ю. В. подложить мне свинью: мол, утратил контакт с руководителем страны. При этом, дескать, не всегда верно велись боевые действия, большие потери терпела афганская армия, да и мирное население сильно страдало от боев в уездах и волостях. И в общем-то доля правды в таком утверждении была бы – не решись я в кратчайшее время этот контакт с руководителем страны восстановить. Но как это сделать – пока я не знал, задача была не из простых.
Среди всех членов ПБ, с которыми можно было войти в союз для достижения этой цели, я мысленно отобрал, конечно, Анахиту Ротебзак. Член Политбюро, в свое время спасшая Бабрака от растерзания толпы в Герате, подруга его и любовь – вот кто должен мне помочь.
Мне следовало, под предлогом обсуждения боевых действий в провинциях, встретиться с главой государства и прервать его запойное состояние. Затем хорошо было бы свозить его на встречу с руководством армии, с губернаторами южных и юго-восточных провинций, с вождями племен. Такую встречу, а точнее говоря, совещание, можно было бы организовать в Джелалабаде. Мы знали, что Кармаль любил те места, не раз с гордостью говорил о разгроме там английского экспедиционного корпуса афганцами сто лет назад.
Это мероприятие задумывалось нами давно, как средство усиления авторитета и роли Бабрака Кармаля, как главы государства и центральной власти.
Но время шло – летело. Бабрак с товарищем О. продолжал пьянствовать, никого во дворце не принимая уже вторую неделю. Ключика от дворца у меня в кармане не было. И вдруг Самойленко доложил, что генерал Голь Ака просил передать мне просьбу Анахиты Ротебзак принять ее и Голь Ака без переводчика по сугубо конфиденциальному делу. Сердце мое екнуло: на ловца и зверь бежит? Ко мне идут на прием две важные персоны, и как знать – не у этих ли двух важных персон я достану ключ ко дворцу Бабрака Кармаля?
Посоветовавшись с Черемных и Самойленко, мы решили, что я встречусь с Анахитой у себя в кабинете без лишних свидетелей, и даже без переводчика. Видимо она желала, чтобы не было никаких препятствий и ограничений откровенному разговору.
Начальник Главного политуправления армии ДРА генерал Голь Ака являлся давним доверенным лицом Бабрака, особенно в армии, парчамизируя ее, насколько возможно. В прошлом, при Амине, когда Бабрак был послом в Чехословакии (а это для него было своеобразным изгнанием из руководства Афганистаном), Нур – в Англии, Анахита – в Югославии, Кештманд и Рафи – сидели в тюрьме Поли-Чорхи («колесо»), Зерай прозябал на побегушках у Амина, – так вот, в те времена, в глубоком подполье в Афганистане нелегальным связным Бабрака был Голь Ака. От него и через него шла информация Бабраку, Нуру, Анахите о положении в Афганистане, о диктаторских замашках Амина и о его расправах с парчамистами. Все это аккумулировалось, конечно же, у Бабрака, Нура и Анахиты, а уж затем – у Андропова. Исходя из этой информации, КГБ и определял вероятных будущих лидеров Афганистана. А при вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, на смену свергнутого и убитого советскими кагэбистами халькиста Амина во главе НДПА и государства Ю. В. Андропов, с согласия ПБ ЦК КПСС, поставил парчамиста Бабрака Кармаля и его близких друзей-соратников по партии.
Несколькими годами раньше Голь Ака учился в течение трех лет в Рязанском военном воздушно-десантном училище. Хорошо говорил по-русски и, главное, был близок к Анахите, как он сам неоднократно похвалялся. Ему, выходцу из пастушьей семьи, было лестно, что теперь он на равных с господами, с лидерами парчам, аристократией страны. Ему и нужно-то было особенно выслуживаться, чтобы чувствовать себя на равных, и чтобы другие тоже его считали в обойме афганской элиты.
Все чертовски сложно и в то же время по-человечески банально и просто…
Организацию встречи с Анахитой Ротебзак брал на себя Виктор Георгиевич Самойленко, мой заместитель по политической части и старший советник при начальнике Главного политуправления афганской армии, то есть при Голь Ака.
К вечеру Самойленко доложил, что Анахита готова завтра в 10 часов быть у меня вместе с Голь Ака. Видимо, она понимала, что я знаю, что именно ей надо, и конечно, она понимала, что надо мне. Наши интересы, похоже, совпали…
Странное дело, сколько подобных бесед мне приходилось вести, – я всегда был спокоен и уверен, а тут – почему-то нервничал, и готовился к встрече как-то особенно, более серьезно, торжественно что-ли, чем обычно. Вечером я коротко рассказал Анне Васильевне о предстоящей встрече с Анахитой и о ее вероятной причине. А жена моя за месяцы пребывания в Афганистане многократно встречалась с Анахитой. Они даже подружились, возможно, найдя друг в друге что-то общее…
– Саня, вспомни Египет, – сказала мне Анна Васильевна, – вспомни подругу Насера, подругу Амера. Помнишь, какое влияние они имели на лидеров Египта? А Анахита – умна, проницательна и хитра. Будь с ней осторожен.
Анна Васильевна сходила в столовую и вернулась оттуда с большой коробкой конфет – шоколадным набором из Новосибирска – расписанной под кедр с шишками.
– А букет цветов утром нарву.
Утром в половине седьмого я, мой помощник полковник Алексей Никитич Карпов, охрана на трех машинах и БМП были готовы к отъезду в офис. Анна Васильевна перекрестила меня и поцеловала:
– С богом!
В руках Алексей Никитич уже держал огромный букет свежих роз и шоколадный набор.
– Вручи от меня. Передай поклон, и скажи, что я ее помню и люблю.
По Кабулу поехали каким-то совершенно новым маршрутом – Черемных и Карпову виднее…
В 8.15 у входа в Генштаб меня ожидали Черемных и Самойленко.
Почти все готово, доложил Владимир Петрович. Идет сервировка стола. Есть и сюрприз… Ночью из Ташкента доставили мороженое, пяти сортов. И с орехами, и с клубникой, и с айвой… Я еще подумал: не излишне ли мы стараемся, все-таки разговор-то будет о серьезном и отнюдь не праздничный.
Но Черемных привел неотразимый аргумент: «Ублажай больше любовницу, чем жену».
Я, конечно, строго на него посмотрел, но он был невозмутим:
– А это не я придумал, это – Стефан Цвейг.
Мы поднялись наверх. Там, действительно, заканчивались последние приготовления. Кроме основного стола был приготовлен и чайный столик. Обслуживали две официантки из столовой управления ГВС – две красивых русских девушки, умеющих пользоваться косметикой ровно настолько, чтобы это соответствовало и местной манере, и в то же время не выглядело слишком блекло. Владимир Петрович знал толк в подборе и таких кадров.