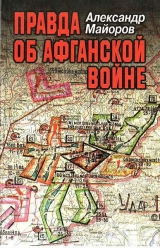
Текст книги "Правда об Афганской войне"
Автор книги: Александр Майоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Предстояло тщательно разработать план реального прикрытия госграницы с Пакистаном. Об этом мы собирались поставить в известность и академика министра Лoэка – но лишь в необходимых пределах.
Определенное внимание надо было уделить и границе с Ираном.
Когда в кабинете остались лишь Черемных, Самойленко и Бруниниекс, Владимир Петрович хитровато спросил:
– Две карты?
– Да.
Немного подумав и сменив тему разговора, он сказал:
– Москва еще напомнит нам об этом ЧП.
– Все свободны, – отрезал я.
И вновь остался один. И человек в чалме преследовал меня своим взглядом. О чем думает он сейчас там, в Пешаваре, что замышляет?
Надо связаться с Петром Ивановичем Ивашутиным. Он поможет мне разгадать следующие шаги Раббани и его соратников.
За окном светило яркое весеннее солнце.
Я представил себе весеннее утро в Москве, проснувшийся Арбат, дворовую тишину… Ах да!.. Там же теперь подготовка к съезду – «историческому событию». А тут – так себе, боевые эпизоды и разные неприятные чрезвычайные происшествия. Будни.
Всю вторую половину дня я находился под тяжелым впечатлением от встречи и беседы с Кештмандом. Суть джелалабадского ЧП отошла на второй план. На первом – были тревога и опасения, связанные с возможным развязыванием крупномасштабного джихада.
Прошло еще только четверо суток после преступления, в стране надежно действовал приказ о превентивных мерах; вспышек волнений пока нигде не было, но следить за обстановкой приходилось с удвоенной бдительностью.
Взгляд мой снова скользнул по фотокарточке под стеклом, и чувство злорадного удовлетворения почему-то возникло на минуту: прозевал, Раббани, прозевал такой предлог для джихада! Что-то не сработало в твоем ведомстве. Теперь же время работает на меня, и я сделаю все, чтобы удержать обстановку в стране в привычных рамках необъявленной войны.
Вечером, в 18.00, как и было условлено, у меня собрались мои товарищи и мы обсудили положение. Решили, что, во-первых, ужесточенный режим комендантского часа в Кабуле и других крупных городах надо продлить как минимум до начала партийного съезда в Москве. Во-вторых, проинформировать об этом все основные учреждения власти Афганистана. В-третьих, продолжить активные боевые действия по планам января-февраля, при необходимости привлекая дополнительные силы и средства из резерва. В-четвертых, организовать выезд в военно-политические зоны групп генералов и офицеров управления ГВС на период 22-26 февраля, то есть перед началом работы съезда. В управлении остаться лишь Главному военному советнику и генералу Бруниниексу с небольшой оперативной группой для выполнения возможных новых возникающих задач.
Умиротворенные, но с измочаленными нервами мы сидим у меня дома, на вилле, и мирно чаевничаем. Неторопливо беседуем под музыку тегеранского радио о вещах, весьма далеких от войны. Без таких спокойных минут, без разговоров на отвлеченные темы за рюмкой коньяка наша служба в Афганистане превратилась бы совсем в безрадостное занятие. А так – говорим о театре, о литературе. И моя жена в этих материях, наверное, такой же специалист, как я в военном деле, потому она и ведет разговор.
Самойленко хорошо знает и любит репертуар Свердловского театра оперетты. А моя Анна Васильевна дав-ным-давно училась в музыкально-театральном училище и два сезона даже играла субреток в тульской оперетте. Ну а потом замужество, педагогический институт, работа, аспирантура, преподавание в течение восьми лет в Рижском госуниверситете, защита диссертации, работа над книгами. Пристрастие к оперетте у жены сохранилось на всю жизнь, несмотря на то что ездить ей приходилось со мной по совсем другим театрам – театром военных действий.
Владимир Петрович и того ближе к театру. Его отец, Петр Черемных, в 30-50-е годы был известен во многих российских областных театрах как талантливый режиссер.
С детства Володя много колесил с родителями по Союзу – главрежи в ту пору больше двух-трех лет в одном театре не задерживались. И до сих пор Владимир Петрович сохранил еще в своих манерах некоторую театральность, в частности это заметно, когда он судит о ком-нибудь. Ясность, четкость, безапелляционность соседствуют с образностью…
Анна Васильевна наливает моим друзьям по второй. И они все говорят и говорят о театре, о Товстоногове…
Бог мой!.. Как же с ними хорошо! Остановись, мгновение, ты прекрасно!..
Но вошел генерал Бруниниекс.
– Эжэднэвноэ боэвоэ донэсэниэ, – доложил Илмар Янович.
Пока я читал, Анна Васильевна успела угостить Илмара рюмкой «Наполеона», ей, похоже, хотелось продлить минуты чаепития, покоя и уюта.
Засигналила «булава». Я зашел в обитую изнутри оловянными листами (для экранизации, исключающей подслушивание из космоса) кабину. Нехотя взял трубку.
– Товарищ генерал армии! По поручению руководства докладывает генерал-полковник Аболинс. (Это один из заместителей начальника Генерального штаба – начальник главного оргмобуправления.)
– В чем дело, Виктор Яковлевич?
– Вы знаете, Александр Михайлович, есть мнение, что информация о ЧП, о котором вы доложили, извините, мягко говоря, не соответствует действительности.
– Мы дважды его расследовали. Все так, как я доложил шифровкой министру обороны.
– Но по линии «ближних» есть другие данные…
– Кто поручил тебе переговоры со мной?
– Николай Васильевич.
– Чехословацкие события помнишь, Виктор Яковлевич?
– Так точно, помню.
– Скажи, если бы тогда у тебя в 30-й Иркутско-Пинской дивизии произошло такое ЧП, как бы ты поступил?
Долгая пауза.
– Почему молчишь, товарищ генерал-полковник? Отвечай.
– Я бы насильников судил военным трибуналом… – и, выждав для приличия несколько секунд, спросил: – Что доложить Николаю Васильевичу?
– Дословно наш разговор. А с «ближними» разбирайтесь сами.
– Есть.
Я позволю себе маленькое отступление. У военных так заведено: если человек хоть раз в жизни находился в подчинении у кого-то, то это сказывается в отношениях этих двух людей в течение всей оставшейся жизни и службы. Аболинс был от меня сейчас совершенно независимым – ведь он заместитель начальника Генштаба. Но я с ним вел разговор как с человеком, который в прошлом был у меня в подчинении командиром дивизии.
Мы продолжили чаевничать, обсуждая разговор с Аболинсом, когда минут через сорок позвонил Ахромеев.
– Александр Михайлович, здравия желаю! Хочу предупредить и предостеречь тебя: у Ю. В. вызрело мнение, что злодеяние под Джелалабадом совершили переодетые душманы. Тебе надо отозвать шифровку. Предстоит разговор Бориса Карловича с Леонидом Ильичом, неминуемо они затронут и это ЧП. И Борису Карловичу будет сказано, что виновниками являются переодетые душманы.
– Сережа, и это ты говоришь мне? – Долгая пауза. –
Что молчишь? Ты решился сказать мне, чтобы я на старости лет сфальшивил? Да ты же меня уважать не будешь…
– Александр Михайлович, извини, но я ведь звоню по поручению.
– Сережа, ты всегда действовал по поручению. Но ведь надо же и самим собой оставаться.
– Что мне доложить?
– Доложи суть разговора. А хочешь – и дословно его передай.
Мы были поражены тем, как поворачивались дела. Там, в Москве, за кулисами здешней войны, рисовались какие-то недостойные, хуже того – лживые картины. А нам, людям военным, чтущим военную этику, знающим правила игры, но в не меньшей мере уважающим и свое собственное достоинство, надо было занимать какую-то позицию. Собственно, и раздумывать было особенно не над чем. Факты потому и называют иногда «упрямыми», что с ними непросто примириться. Но приходится.
Илмар Янович ожидал моей подписи на боевом донесении. Я читал его медленно, чтобы еще и еще раз все взвесить. Нелегкое занятие, никто за меня не подпишет, никто не возьмет на себя ответственность. Такие минуты почище иных минут перед боем…
Самойленко и Черемных с меня глаз не сводят.
Я перекрестился и вписал несколько слов о том, что при повторном расследовании на месте подтверждено, что ЧП в районе Джелалабада совершено группой военнослужащих такой-то мотострелковой дивизии в составе одиннадцати человек под командой старшего лейтенанта К. Группа арестована. Начато следствие.
Посмотрел я на своих друзей – на одного и на другого, увидел в их глазах поддержку – и расписался. Отдал Бруниниексу, чтобы шифром передал. Часы показывали половину одиннадцатого вечера.
Снова «булава». Огарков.
– Как обстановка?
Коротко доложил.
– Что там упорствуешь?
– Я не вполне понимаю.
– Ты что, хочешь позора Вооруженным силам? Есть возможность опровергнуть?
– Никакой возможности нет, Николай Васильевич.
– Ты так считаешь?
– Нет никакой возможности. Факты дважды перепроверены – причем людьми, которым государство не может отказать в доверии.
– Ну, знаешь, у нас другое мнение сложилось. «Ближние» особенно напирают. У Дмитрия Федоровича состоялся разговор с Юрием Владимировичем. Кстати, и Посол был у министра и тоже подтвердил, что это мистификация, что преступники были переодетыми…
– Николай Васильевич, мы же тридцать лет знаем друг друга. Я вас глубоко уважаю… Не о том мы ведем речь.
Долгий был у нас разговор. По тону Николая Васильевича я чувствовал, что ему не хочется упорствовать в стремлении переубедить меня и не хочется обнаружить во мне подлеца. В конце концов он еще раз спросил:
– Значит – нет?
– Категорически – нет.
– Ну будь готов к разговору с Дмитрием Федоровичем.
Попрощавшись с гостями, мы остались вдвоем с Анно Васильевной, готовые к любым неожиданностям. Ясно было, что предстоит разговор с министром обороны. Неужели и он будет гнуть меня, толкать на ложные утверждения?
Я знал, что Устинов, по давней привычке сталинских времен, задерживался допоздна на службе. Часы показывали час ночи. Подожду еще немного – возможно, позвонит.
– Саня, сомнут тебя «ближние».
– Не знаю, не знаю, мать. Теперь мне нужна поддержка там, в Москве. Кто мне ее окажет?
И я набрал номер телефона, установленного на даче Сергея Леонидовича Соколова. Я убежден, он честен и неподкупен.
– Сергей Леонидович, прошу прощения за звонок в столь поздний час. Важно узнать ваше мнение…
И я изложил суть происшедшего. Он меня спросил, докладывал ли я устно министру. Говорю, что пока нет. Утром доложу. И эдак ласково с подхалимцей и хитрецой пытаю Сергея Леонидовича.
– Посоветуйте, как это сделать.
И он мне ответил:
– Ты достаточно опытный человек. Поучать мне тебя из Москвы сложно. Да и ни к чему. Я – сторонник правды. А как ты поступишь – дело твое.
Вот что ответил мне Соколов.
Утром я пораньше уехал на службу. В восемь часов звонок по «булаве». Мягкий вкрадчивый голос:
– Здравствуйте, Александр Михайлович, как вы поживаете?
За мягкостью и вкрадчивостью Устинова порой скрывалась жесткость и не исключено, что жестокость.
– Доложите оперативную обстановку.
Доложил.
– Ну, а мы вот тут готовимся к съезду партии. Вы не беспокойтесь, ваше политическое положение, я полагаю,-и в ЦК сложилось такое же мнение – останется прежним (на двух предыдущих съездах КПСС я избирался в состав ЦК).
Мне предлагался торг, это было очевидным. Я поблагодарил министра за заботу, тем более что я числился и среди делегатов съезда, и только в связи с необходимостью заботиться о стабилизации обстановки в Афганистане министр разрешил мне оставаться по месту службы.
И вот он перешел к главному:
– Ну вы там, конечно, уяснили, что злодейское глумление над мирными гражданами совершено переодетыми душманами. У нас тут такая информация и по линии «ближних», да и Фикрят Ахмедзянович это подтверждает.
Я изо всех сил старался сохранить твердость в голосе:
– Товарищ министр обороны, дважды проверено, дважды доказано, и дважды я от имени Советского правительства приносил извинения председателю правительства ДРА в связи с этим злодеянием, совершенным воинами 40-й армии.
– Да что вы плетете, товарищ Майоров? Ведь доказано!
– В Москве, может быть, и доказано так, как вы говорите, а здесь доказано, что преступление совершено нашими воинами. И эти преступники арестованы.
И тогда он тихо меня спрашивает:
– Послушайте, вы за кого?
И услышал я сталь в голосе сталинского наркома. И как бы смел и уверен в себе я ни был в тот момент, испарина покрыла мой лоб.
– Товарищ министр обороны, я за правду.
А он опять, тихо так:
– За какую правду?
– За ленинскую правду, товарищ министр…
Не успел я сказать «обороны», как в трубке раздался щелчок. Разговор был окончен.
Развязка состоялась.
Пригласив Самойленко и Черемных, я изложил им суть разговора с министром. Сказал им и о поведении Табеева в Москве, о коварстве и лжи представителя КГБ Спольникова. Одно лишь утешило нас – обилие работы. Предстояло закончить планирование операций на март-май.
Вечером того же дня позвонил мне из Москвы один из заместителей Епишева, генерал-полковник Соболев Михаил Георгиевич.
– Саня, что ты там натворил? Характер свой показал? Так вот знай: как бы там ни было, я тебя уважаю. И еще будь в курсе: басурман Фикрят тебя предал. Сейчас вернулся Алексей Алексеевич от хозяина, ему было сказано, чтобы вычеркнул тебя из состава ЦК… Но ты не переживай. Твои настоящие друзья тобой гордятся.
Этот случай многое тогда перевернул в моей душе. Я понял, что либо выстою, но меня отсюда уберут, либо окажусь сломленным.
…Бандитов-насильников судили, нескольких приговорили к высшей мере наказания. Остальных к большим тюремным срокам.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Хмурым вечером 22 марта 1981 года в одном из кремлевских зданий, в так называемой Ореховой комнате собралось немногочисленное по составу присутвующих совещание по проблемам Афганистана. Ярко светила над их головами люстра – похоже, для того, чтобы помочь им внести полную ясность в оценку советского присутствия в Афганистане.
Итак, за большим круглым столом – первый заместитель министра обороны Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР генерал армии Сергей Федорович Ахромеев, командующий Туркестанским военным округом генерал-полковник Юрий Павлович Максимов, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане Фикрят Ахмедзянович Табеев, представитель КГБ в Афганистане генерал-майор Виктор Николаевич Спольников и я – Главный военный советник в Афганистане, первый заместитель Главкома сухопутных войск генерал армии Александр Михайлович Майоров.
За тем же столом, рядом с ними – четыре члена Комиссии ПБ ЦК КПСС по Афганистану: ее глава Председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов; член Политбюро ЦК КПСС министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко; член Политбюро ЦК КПСС министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов и кандидат в члены ПБ ЦК КПСС секретарь ЦК КПСС академик Борис Николаевич Пономарев.
О времени проведения в Москве этого совещания и о вопросах, которые предстояло на нем обсудить, в Кабуле стало известно сразу после выступления Бабрака Кармаля на партийном съезде в Кремле – не преувеличу, если скажу, что для нас оно было сенсационным. Нам стало понятно, что отныне руководящей идеей становится скорейшее окончание войны, ибо, согласно выводам, сделанным афганским лидером, война практически завершена и в стране установлена твердая народно-демократическая власть, мир и покой царят за дувалами простых смертных мусульман и во дворцах провинциальных и столичных властителей. Аплодисменты, конечно, отгремели, а вот как в действительности победно закончить войну – это оставалось для нас острейшей проблемой. Выполнить план боевых действий на март-май, укрепить границы с Пакистаном и Ираном – это по-прежнему война на всей территории страны, огромные потери, лишения и муки всех воюющих по обе стороны революции: моджахедов, советских воинов, афганской армии и измученного войной афганского народа.
Конечно, мы по-прежнему владели инициативой, но душманы, обороняясь, копили силы за границей, чтобы с началом весны перебросить свои части и подразделения в Афганистан и перехватить у нас инициативу в боях.
Я откровенно поделился со своими боевыми товарищами мыслями, которые долго вынашивал и держал в тайне даже от самого себя, но теперь, в канун заседания в Москве Комиссии по Афганистану, на которое меня пригласили, эти мысли следовало еще и еще раз сверить с действительностью и, возможно, подготовиться к их изложению. Черемных, Самойленко и Бруниниекс поддержали меня, подготовив к совещанию необходимый справочный материал.
– Надо конька менять. С ним войну не выиграть, – настаивал Черемных.
– Поздно! – парировал Самойленко. – Теперь, после объятий с Леонидом Ильичем, это признанный вождь!
Илмар Янович был настроен оптимистически, как и подобает наследнику традиций латышских красных стрелков:
– В Крэмлэ найдут правильноэ рэшэниэ.
Уже не первый час идет обсуждение. Судя по всему, проблемы предстают сложными и запутанными, их возможное развитие не вполне ясно. Выступающие говорят много, но сколь-нибудь определенного и толкового изложения той или иной проблемы нет, потому и к ясным понятным выводам все никак не удается прийти.
Только один из присутствующих в Ореховой комнате не принимает участия в разговоре – сидящий за столиком у высокого окна перед телефонными аппаратами, очевидно, офицер КГБ.
Назову рассматривавшиеся на той встрече проблемы. Это военно-политическая обстановка в Афганистане, роль НДПА и руководства страны в ее стабилизации; положение в экономике, в армии, Хаде, Царандое, в среде интеллигенции; национально-племенная политика; прикрытие границы с Пакистаном и Ираном; ход земельной реформы. Главное внимание, естественно, обращалось на состояние вооруженных сил и ведение ими войны в целом и отдельных операций и боев; на поставки необходимых техники и материалов из СССР.
На столе передо мной лежали тогда две карты, датированные 21 марта 1981 года, и рабочая тетрадь в твердом красном переплете с записанными в нее необходимыми справочными данными. Члены Комиссии брали в руки карты, делая вид, что определяют свое отношение к ним. Лица их не выражали никаких чувств, и потому можно было подумать, что все им ясно и понятно…
Мне, кадровому военному, длительной службой приученному к ясному и определенному пониманию фактов, к предметному их обсуждению с определенными выводами, не вполне понятен был метод проведения данного совещания Юрием Владимировичем Андроповым. Я его просто не узнавал. Я неоднократно бывал у него на Лубянке, раз пять или шесть. И всякий раз я уходил с впечатлением, что имею дело с мудрым сановником, который без ненужного менторства втолковывал мне некоторые, пусть и прописные истины. Он всегда был приятен в разговоре. Темы бесед всегда ясно прорисовывались, хотя и подтекст было нетрудно обнаружить. И, несмотря на то, что я находился в кабинете руководителя политического сыска страны (а кадровые военные никогда не приходили в восторг от посещения этого места), я чувствовал себя комфортно и зачастую ловил себя на том, что с симпатией рассматриваю этого уже грузного, седовласого, с мучнистым лицом человека. Глаза его, однако, упрятанные за толстенными стеклами очков в роговой оправе, не выдавали истинного его отношения к собеседнику. Думаю, что и одной встречи с Андроповым хватило бы, чтобы сделать вывод о нем как о сильной личности, обаятельном и одновременно хитром человеке самого высокого государственного положения.
Было бы естественным ожидать от него, чтобы он властно вел совещание, на которое часть приглашенных приехали отнюдь не для спокойной демократичной беседы, а для получения четких ориентиров и необходимой информации. Мы ведь не философы и даже не профессиональные политики и дипломаты – мы солдаты… Однако он выступал сейчас не столько руководителем совещания, сколько собеседником на равных.
Особенно активно высказывали свое мнение по проблемам Ахромеев, Табеев, Максимов и Спольников. Пономарев реже вступал в беседу, суждения его отличались отсутствием категоричности, а скорее располагали к совместному размышлению. Устинов оживлялся лишь при упоминании о технике и вооружениях, применявшихся в боевых действиях. Он спрашивал Максимова о техническом состоянии вертолета МИ-8 в горах на высотах 4-5 тысяч метров или об эффективности в горах бомбы объемного действия. Конечно, отказать сталинскому наркому в знании техники было бы несправедливо, однако нельзя не сказать и о том, что Устинов не интересовался собственно ходом и особенностями боевых операций, не спрашивал он и о потерях.
Андропов терпеливо и, казалось, очень внимательно слушал ворчливые вопросы Устинова и толковые ответы Максимова. Быть может, эта внимательность служила лишь маской, под которой шла напряженная работа ума, пытавшегося охватить и обобщить все известное этому человеку про трагическую войну в Афганистане? А может быть, этот ум был уже просто не способен что-либо сколь-нибудь широко охватить и сделать правильные обобщенные выводы? Не знаю. Во всяком случае, Ю. В. явно находился уже не в лучшей физической форме, болезнь, вероятно, мучила его, и маска на лице, как знать, лишь скрывала внутреннее ежеминутное сопротивление физическим страданиям? Я смотрел на него и думал, что держава наша с такими стариками вряд ли далеко уедет. Брежнев настолько болен, что не смог сделать доклад на съезде партии, Суслову – тому идет уже восьмидесятый год…
– Высказывайтесь, высказывайтесь, товарищи,– подбодрил Андропов присутствующих.
Табеев предложил объявить Пакистану ультиматум в связи с расположенными на его територии лагерями моджахедов.
– Еще одну войну сейчас начинать?– буркнул Громыко, сделав ударение на слове «сейчас».
– А что, – заерзав на стуле, оживился Устинов. – Махнем к Индийскому океану, Вооруженные силы готовы решить эту задачу.
Я заметил, как молчавший Соколов внутренне собрался, как будто все в его существе съежилось от такой безумной перспективы.
– Мы отклоняемся от темы обсуждения,– тихо вымолвил Андропов.
Несмотря на объективно более высокое служебное положение Соколова и Ахромеева и несмотря на непосредственный контакт между Табеевым и Громыко, Главный военный советник был в ту пору решающей фигурой в афганской военно-политической игре. На меня возлагалось планирование боевых действий, представление этих планов на утверждение в Москву и затем их осуществление на практике. Так что, никак не преувеличивая свою роль, мне не хотелось бы ее преуменьшать. Это мешало бы правильному восприятию событий, правильному определению роли и значения фигур на игровом поле.
На заседании, о котором сейчас идет речь, от меня ждали основного доклада о положении дел в Афганистане и о развитии там боевой обстановки. Соколов и Ахромеев, конечно, тоже хорошо владели обстановкой, и, возможно, из Москвы некоторые события им были видны даже лучше, чем мне из Кабула. Но они все-таки сравнительно давно выехали из Афганистана, и чувство непосредственного присутствия, чувство боя, чувство операции могло быть ими уже утрачено, как и непосредственное ощущение расстановки сил в руководстве Афганистана.
Во время совещания я вступал в беседу главным образом по фактическому материалу, обращаясь к тем самым картам, которые впервые предлагаются теперь вниманию читателей. С выводами выступать я не торопился, помня напутствие Самойленко на аэродроме в Кабуле:
– Дайте выговориться всем. Туза бросайте на стол, когда вас конкретно спросят о том, что делать.
– Конька менять – вот что делать,– зло бурчал Черемных. Но я больше соглашался с Самойленко.
И вот теперь я ждал этого момента.
– Будем подводить итоги? – предложил Андропов, и веки его устало поднялись за толстыми стеклами очков.
Какие же итоги подводить? Ведь за истекшие часы были одни только многословные рассуждения. И они отнюдь не определили дальнейших действий. Может быть, подумал я, когда мы все разойдемся, останется четверка и все решит? В таком случае нас-то зачем пригласили?
Состояние мое в ту минуту было странным, чувства и мысли мешались в голове. Мне казалось явно неудовлетворительным все это долгое обсуждение и отсутствие каких-либо выводов. Сейчас я предполагаю: уж не было ли это обычным почерком круговой безответственности на самом верху нашей власти – ждать, пока кто-то крайний, кому уж никак не «отвертеться», возьмет на себя ответственность?
Вслед за предложением подводить итоги Андропов прямо обратился ко мне:
– Что будем делать, Главный?
Сказать, что в тот момент я был в полной мере готов бросить туза на стол, было бы преувеличением. Одно дело с боевыми товарищами предполагать, а другое – оказаться перед человеком, имеющим полную власть, чтобы тобой «располагать» по своему усмотрению. Да и весь характер этого совещания настраивал скорее на то, чтобы изложить свои выводы в том же неопределенном мало к чему обязывающем стиле. Но факт есть факт: председатель Комиссии Политбюро спрашивает тебя как Главного военного советника: «Что будем делать?»
Теперь, вспоминая те минуты, мне кажется, что я пошел на Голгофу.
– Юрий Владимирович, я уверен, что в Афганистане все надо решать политическими и дипломатическими методами.
– Это не ново, – буркнул Громыко.
Я понял, что меня сразу же ставят на место.
Андропов тихо спросил:
– И все же?
Я почувствовал, как сердце мое стало ритмично разгонять кровь. Не вполне уверенный, что поступаю в соответствии с рангом и положением, когда вокруг столько крупных политических и военных деятелей, я медленно, стараясь не торопиться, начал излагать:
– Юрий Владимирович, уважаемые члены Комиссии, каждый день пребывания советских вооруженных сил в Афганистане и ведение ими боевых действий бьет по авторитету Советского Союза и выгодно играет на руку Соединенным Штатам Америки и НАТО.
– А у вас что, есть свои люди в Пентагоне? – едко спросил министр обороны.
– Нет, товарищ министр обороны, в Пентагоне своего человека не имею.
– Откуда же вам это известно, уважаемый радетель за интересы Америки и НАТО? – грубо продолжил Устинов.
Я не мог и не хотел быть униженным на этом совещании и потому ответил резко:
– Дмитрий Федорович, в свое время министр обороны Андрей Антонович Гречко учил меня мыслить широко, видеть политическую сторону явлений и излагать свои выводы откровенно и прямо…
– И все-таки,– перебил меня Андропов.
Я встал – не скрою, для большей храбрости. Да и вообще, сидеть перед столь высокой Комиссией во время своего доклада было неприличным. Пока я поднимался со стула, успел и приободрить себя и сформулировать ответ.
– В течение восьми месяцев, что я нахожусь на посту Главного военного советника, я располагал возможностью, глубоко и всесторонне анализируя ситуацию, делать все для победы над противником в вооруженной борьбе…
Табеев успел скороговоркой вставить:
– И тут же снимали воинские гарнизоны там, где отвоевывали у душманов власть!
Громыко сделал рукой жест: мол, помолчи, послушай, что генерал докладывает.
И я продолжал:
– Считаю, что необходимо объявить руководству Демократической Республики Афганистан, товарищу Бабраку Кармалю, что в ближайшие полгода из страны будет выведена половина войск 40-й армии, а в следующие полгода – остальная часть… Следует возложить ответственность за судьбу и защиту Революции на НДПА ДРА, ее руководство.
Несколько секунд длилось гробовое молчание.
Устинов, зло посмотрев на меня, сказал:
– Мы добиваемся военно-технического превосходства над Америкой и НАТО…
Я не сдержался:
– Товарищ министр обороны, я докладываю сейчас о возможном решении проблемы Афганистана…
Но Устинов продолжал давить:
– Нам Афганистан нужен как полигон мирового масштаба. Это-то хоть вы понимаете, стратег?
Пономарев мягко и уважительно попытался поправить Устинова:
– Как политический и экономический полигон, Дмитрий Федорович.
– А я говорю: военно-технический полигон мирового масштаба.
Андропов сжал губы. Ему эта перепалка явно не была нужна. Громыко хранил непроницаемость. В наступившей тишине стало слышно, как потрескивает спираль одной из ламп в люстре над головой, казалось, она сейчас перегорит.
В те минуты я всего мог ожидать – и несогласия со мной, и полемики, и даже отстранения меня от должности за непонимание поставленных задач. Но я никак не ожидал такого цинизма в словах Устинова (которые, как я понимал, не должны были бы произноситься вслух), сжатых губ Андропова, непроницаемости Громыко…
Мне вдруг вспомнился разговор с Устиновым по телефону в связи с преступлением наших воинов, то, как он меня вразумлял на счет правильного понимания «правды».
Растерянность и подавленность на минуту овладели мною. И тут – есть Бог на свете! – зазвонил телефон на столике у окна. Молчавший до сих пор офицер впервые раскрыл рот:
– Юрий Владимирович, вас просит к аппарату Константин Устинович.
Ю. В. медленно поднялся и подошел к аппарату.
– Слушаю, Костя. Да, мы сейчас этим и занимаемся. Четвертый час сидим. Передай Леониду Ильичу, что работаем. Да, он здесь. Хорошо.
Этот звонок, словно подстроенный театральным режиссером, сразу сбросил напряжение в комнате. Андропов, медленно возвращаясь на свое место за столом, явно принимал на ходу какое-то решение. Мне показалось, что четверка быстро обменялась значительными взглядами. Ю.В. сел в кресло и устало произнес: – Ну что же, сделаем перерыв. Все свободны.
Соколов, Ахромеев, Максимов, Табеев, Спольников и я быстро вышли из Ореховой комнаты.
Разговаривать мне ни с кем не хотелось.
Кстати сказать, ореховые панели, которыми обшиты стены той комнаты, не раз потом наводили меня на мысли об ореховых прутьях, которыми в старину секли провинившихся. Эти прутья вымачивали в тухлой болотной воде, считалось, что качество воспитания от такой предварительной обработки будет лучше… Так вот, вспоминая теперь Ореховую комнату, я вновь и вновь испытываю удовлетворение от того, что «бросил туза на стол».
А счастливый случай спас меня от порки.








