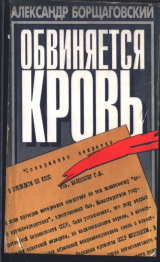
Текст книги "Обвиняется кровь"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
В словах Маленкова поражает и несомненно сталинская цитата, типичный для полемических выпадов Сталина аргумент: «Хотите на колени нас поставить!» В нем надменность, «цезаризм», презрение к слабым, проигравшим в борьбе, высокомерная гримаса произвола. Он объявил крестовый поход против «лиц еврейской национальности» и доведет дело до конца, вопреки любым профессиональным ошибкам и нерадивым исполнителям. Нет, не от себя, не от своего имени мог сказать Маленков: «Вы хотите нас на колени поставить…»
«Я тогда, предполагая, что он до приема меня докладывал этот вопрос т. Сталину, чему у меня некоторые подтверждения есть, заявил Маленкову, что я передам его указание судьям, что мы исполнили свой долг, доложив ЦК свои сомнения. Но как члены партии выполним указания Политбюро с убеждением, что у Политбюро есть по этому делу особые соображения.
После беседы с Маленковым в здании ЦК меня догнал Рюмин. Обругав площадной бранью, он угрожал мне расправой. Как установлено следствием по делу Рюмина, он в августе-сентябре 1952 года начал готовить материал на меня».
Чепцов действует от лица всех трех членов суда. Мы исполнили свой долг – сказано ясно и со значением, а не потому только, что он старший по званию и главный судья. Возникни у членов суда принципиальные разногласия, поход Чепцова по кругу важных державных лиц был бы попросту невозможен.
Многого уже не восстановить, о многом можно догадываться, но несомненно, что все три члена суда, зная, какой приговор продиктован им ЦК, прониклись поразительным для того времени чувством справедливости, неприязнью к авантюристу Рюмину и всей атмосфере, созданной им вокруг процесса.
Поступок судей должен быть отмечен в трагической хронике тех лет, отмечен и не забыт, как и упорные попытки Чепцова в этих исключительно опасных обстоятельствах спасти жизнь людей, не заслуживших казни. Как важно, что почти всегда, в обстановке, кажется исключающей благородство и отвагу честности, в застенках, в нравственной клоаке, в оглохшем и ослепшем мире, находились люди, способные на Поступок, возвращающий нам веру в человечность и человечество.
Я еще раз подумал об этом, натолкнувшись на три листика допроса Олимпиады Петровны Скворцовой, состоявшегося в конце февраля 1952 года, когда Рюмин, в преддверии суда, торопливо сгребал груды несостоятельных протоколов, шантажировал экспертов, прятал заявления и протесты подследственных. О.П. Скворцова с 1935 года, почти с самого появления Лины Штерн в нашей стране, и до дня ее ареста выполняла обязанности личного ее секретаря-стенографистки. При отсутствии у Штерн семьи Скворцова была самым близким и доверенным человеком резкой, категоричной, а то и жесткой одинокой женщины. Арест, обыск дома и в служебном кабинете должны были напугать немолодую, 1901 года рождения женщину, но ничуть не бывало! С поразительной отвагой отвечала она на вопросы следователя, уверенно говорила о гражданской честности Лины Соломоновны – все ее ответы, точные, краткие, словно от сдерживаемого гнева, свидетельствовали о внутренней свободе ее личности. Я трижды перечитал эти странички, так радостно было столкнуться с островком чистоты и неподкупности во взбаламученных, темных, кишащих пресмыкающимися водах лихачевско-рюминского следствия.
Как рисковала неведомая мне, отважная Олимпиада Скворцова! Как просто было следователям, подтасовав какие-то бумажки из взятых у Штерн при обыске, «повесить» на Скворцову любое обвинение и погубить ее в лагере или ссылке. Ненавидеть ее должен был Рюмин: достойную русскую женщину, зачем-то продавшуюся «сионистской ведьме», наглой старухе, уверявшей, что родина ее не Россия, а Женева.
Когда на пороге кабинета Абакумова в конце января 1949 года появилась эта седая, толстогубая, с крупным носом под маленьким лбом женщина, министр, как мы знаем, оглушил ее площадной бранью, назвав «старой блядью». Все в ней – чувство достоинства, спокойствие, заметный еврейский акцент, вызывающая прямота ответов, внешняя непривлекательность – бесило и юдофобов типа Комарова или Рюмина, и таких «социалистических бонвиванов», как Абакумов. Допросы Штерн, дерзновенность ее взглядов на науку как на нечто такое, что неподвластно политике, а тем более «классовому подходу», ее панегирики древнееврейскому языку, Библии, национальной самобытности евреев – все должно было предопределить жестокую кару. И вдруг – три с половиной года тюрьмы, три с половиной года, уже проведенных в тюрьмах, они уже позади, впереди ссылка, поселение, глушь, но все же жизнь, жизнь и пусть урезанная, но свобода.
Что же случилось? Как удалось Лине Штерн «поставить на колени» партию?
Пощадили как женщину? Непохоже: тогда почему бы не пощадить и Чайку Островскую-Ватенберг, и самую молодую из подсудимых, красавицу Эмилию Теумин, не сказавшую на суде и тысячной доли вольностей, из которых состояли все речи и реплики Лины Штерн?
Пощадили ученую? Но скольких ученых с мировым именем, скольких великих сыновей России уничтожили к этому времени Сталин и его клика.
Рискуя ошибиться, выскажу свое предположение: никакое другое не кажется мне более убедительным.
Милость Сталина к этой пришлой, упрямой, бесцеремонной в защите своих взглядов женщине я объясняю его усилившимися страхами перед смертью; склонностью верить в чудо; тайной надеждой, что судьба и само мироздание не посмеют отмерять ему жизненные сроки, как обыкновенному смертному. Что-то должно случиться, что-то случится непременно. Он нужен России и миру, он не может подохнуть, как дохнут все окружающие его бездарности, обжирающиеся, тучнеющие, подыхающие, – он не они, он – другой, он должен, обязан жить, если не вечно, то по крайней мере мафусаилов век. Библию Сталин знал, запомнил огромные сроки жизни многих ее героев – почему бы снова не случиться чуду?!
Об открытиях Лины Штерн ходили легенды, особенно в еврейской среде. Едва ли кто-либо из неспециалистов мог догадаться, что́ стоит за терминами «гуморальная регуляция физиологических процессов» или «гематоэнцефалический барьер», – вот и поговаривали, что академик Лина Штерн подошла к разгадке долголетия, торможения процессов старения и отступления старости. Время от времени такого рода слухи возникали в связи с работами Лепешинской или Штерн и весьма занимали Сталина.
А вдруг «жидовская ведьма», «старая блядь», на всю жизнь запомнившая вытверженные еще в Вене страницы Талмуда и Торы, – вдруг она набредет на разгадку, подарит стране социализма великое открытие, и, если его удержать в тайне (расправиться со старухой никогда не поздно!), тогда сталинское Политбюро будет решать, кому подарить долголетие. Молотова можно не одаривать, этот бесстрастный большевик от природы без вмешательства чуда рассчитан на долгие годы жизни.
Не поручусь, что именно так размышлял Сталин, но двигали им, как всегда, не милосердие, а эгоизм и корысть.
Тем временем Чепцов все еще пытался спасти положение.
«Выполнив указание Маленкова, – продолжал он свою исповедь, – и осудив Лозовского и других к тем мерам наказания, которые нам были указаны, я, вопреки настояниям Рюмина на немедленное приведение приговора в исполнение, предоставил всем осужденным право на подачу просьб о помиловании с тем, чтобы, помимо обсуждения в Президиуме Верховного Совета СССР этих просьб, в которых все подсудимые категорически отрицали свою вину, вопрос этот еще раз был бы предметом обсуждения в Политбюро, так как тогда существовал порядок: решение о помиловании осужденных к смертной казни утверждалось Политбюро. Кроме того, на имя т. Сталина после вынесения приговора мною было направлено заявление Лозовского, в котором он полностью отрицал свою виновность. Однако никаких указаний не поступило, и приговор был приведен в исполнение».
Примечательная, постыдная подробность: верховные власти страны словно не заметили просьб осужденных о помиловании, пренебрегли этой святой обязанностью, не удостоили ответом – пусть и самым жестоким.
И правда: зачем? Ведь и Сталину, и Маленкову со Шкирятовым, и пока еще преуспевающему Рюмину ясно, что на осужденных нет никакой вины. Их не то чтобы не за что казнить, их не за что даже судить. Но преследовалась и осуждалась кровь, грех рождения в «черте оседлости» или просто в обыкновенных еврейских семьях. Проведя такое мучительное многолетнее следствие, не станешь же пересуживать дело по такому пустяковому мотиву, как отсутствие состава и самого факта преступления.
Три недели, с 18 июля по 12 августа, длилось страшное ожидание, затем прозвучали выстрелы.
XXVI
Письмо евреев – деятелей культуры и науки, которое готовилось в осуждение «врачей-убийц» в редакционных кабинетах «Правды», так и не появилось на страницах газеты. Текст письма не сохранился, и неизвестно точно, кто успел, а кто не успел подписать его или уклонился. Состав подписавшихся, если верить разным публикациям, вызывающе неправдоподобен, он якобы открывался Мехлисом, а то и Кагановичем – небожителем, спустившимся с партийного Олимпа, чтобы расписаться в ряду с поэтами средней руки и популярными спортсменами.
Трафаретным и рутинным был замысел письма: осудить преступников, «убийц в белых халатах», проклясть евреев-врачей, ставших на путь террора, устами единокровных, твердо заявив, что эти злодеи и отщепенцы чужды советскому еврейству, как никогда преданному партии и великому Сталину.
Зловещая резкость, с которой оборвалась эта затея в феврале 1953 года, внезапность запрета публикации, обескураженные и виноватые физиономии правдистов – вчерашних энтузиастов «спасительной акции», говорили о том, что остужающий и сердитый окрик раздался с самого верха. Сталин не принял привычного подарка, изъявления любви и верности на крови очередных «врагов народа». Не для того задумывалось широкомасштабное наступление: не для того дольше трех лет велось особое наблюдение за ЕАК, прихлопнуть который следовало уже в 1945 году, по минованию военной надобности: не для того шаг за шагом суживали сферу жизнедеятельности еврейской культуры; не с тем вздыбили страну на борьбу против низкопоклонства перед «прогнившим» Западом, чтобы и на этот раз позволить коварному врагу, брошенному на ковер, спастись испытанным приемом: сдать правосудию кучку «предателей» и громко прокричать о своей преданности советской власти. Дожать надо, дожать, притиснуть к ковру и вторую лопатку…
Братство народов обойдется без них. Целые народы по приказу вождя изгонялись в сибирское и среднеазиатское рассеяние, а в стране не убывало ни братства, ни громких од Сталину. А евреи, полагал он, эти «этнические группы», этот разноликий малый народец, быстро применяющийся к обстоятельствам, жизнью отученный от языка предков, – это не строительный материал истории, а некое вкрапление, нечто непрочное, межеумочное, но при малейшем над ним насилии, при отрицательном энергетическом заряде становящееся опасным для всякого простодушного, доверчивого общества.
Как досаждали ему кривые ухмылки, недоброе перешептывание за его спиной, когда он еще в должности наркомнаца стал распоряжаться судьбами народов Кавказа и Средней Азии, а те «старики» из рядов ленинской гвардии не признавали в нем теоретика-марксиста. Где они теперь, эти умники, говоруны, любители отсиживаться в эмиграции, знатоки мировой дипломатии и европейский языков? Едва ли эти языки понадобились им в камерах Суздальского и Верхне-Уральского политизоляторов.
Какое-то время он попустил этим скрытым, притихшим бундовцам, националистам, радевшим о еврейских школах, газетах и книгах. Не то чтобы вовсе сиял удавку с их шеи – он расправлялся с ними наравне с сынами и дочерьми других народов страны в целях регулярного уничтожения если не вполне вольной мысли – от этого, слава Богу, отучены! – то от всякой мысли или таланта, не поторопившихся отречься, откреститься от своей национальной самобытности. Иные грузины, те, кто имел привилегию доверительного с ним разговора, бывало, пеняли ему: зачем так беспощадно уничтожаются грузинские интеллигенты? А он вяло, с ленивой ухмылкой уверял их, что у страха глаза велики, нисколько не лучше обстоит дело в Ереване и Киеве, в Минске, в Уфе или Казани. Евреев он в этой связи не вспоминал: без своей столицы и государственности они не нация, их потери проходят по чужим амбарным книгам, но между тем госбезопасность не дремлет, там уже давно трудится и группа по борьбе с сионизмом.
Государственности у евреев в Советском Союзе не прибавилось. Опасаться Биробиджана нет нужды: как некий полигон, лаборатория, он, судя по всему, подтверждал неодолимость ассимиляции даже в условиях допущенной властями национальной автономии. Место для автономной области назначили с умом, в Приамурье, на государственной границе, при малейшей нужде можно будет толкнуть эту автономию на тысячи километров севернее, убрать с потерями, но без шума, как в 30-е годы убрали с берегов Амура корейцев.
После войны возникла новая реальность – государство Израиль. Сталин поспешил признать его, и не только в пику Черчиллю, но также из предусмотрительности: в будущих конфликтах на Ближнем Востоке, ни у кого не вызывавших сомнения, лучше поначалу иметь репутацию страны, дружески расположенной к новому государству. Едва ли будущее этого государства виделось Сталину менее «курьезным», чем давние претензии Бунда на национально-культурную автономию. Злобная, с оттенком истерии реакция Сталина на исход арабо-израильской войны сразу же обнаружила его истинные симпатии и намерения.
Гитлер «прочистил» Европу, нанес сокрушительный урон двум категориям ее жителей: евреям и ненавистным Сталину социал-демократам. В абсолютных цифрах уничтожено куда больше славян, одних поляков погибло семь миллионов, не говоря уже о жертвах, понесенных русскими или украинцами. Эти жертвы небезразличны Сталину, но так уж повелось в XX веке на равнинных просторах России, что побеждает тот, кто хладнокровнее ведет кровавый счет своим потерям и не страшится их. Он, видит Бог, готовился идти к вершине своей судьбы в «связке» с Гитлером и против «гнилой» Европы, но вышло иначе и, защищая родину, свою землю, он защитил и советских евреев, и сотни тысяч евреев-беженцев, бросившихся от нацистов на восток. Им бы славить его имя в веках, поставив его выше своих библейских кумиров, не подниматься с колен, не спуская с его портретов благодарных молитвенных глаз. А они, как всегда, объяты сомнениями и скепсисом, привередливы, неисправимы в преследовании каких-то своих национальных интересов, хотя история преподнесла им жестокий урок, толкая их стушеваться, раствориться в больших милосердных народах. Как и сорок лет назад, в 1913 году, для него любая численность евреев в мире не создавала нации, а была лишь осколками, несовместимыми этническими группами с отмершими в веках корнями древности. Существуют советские евреи, американские евреи, евреи Латинской Америки, грузинские евреи и даже абиссинские, черные, евреи, и только. Всякая, даже умозрительная теоретическая попытка обнаружить признаки национальной общности есть враждебная, воинствующая вылазка, а главное – оскорбление достоинства советских евреев, их завидной и единственной в своем роде судьбы.
Теперь он принялся за жестокую коррекцию этой судьбы и не хотел позволить хитрецам отделаться легким испугом, откупиться кучкой «буржуазных националистов», выведя из-под удара всех остальных евреев страны. «После статьи в „Правде“ („Об одной антипатриотической группе театральных критиков“ 28 января 1949 года), – пишет в своей мемуарной книге Эстер Маркиш, – по всей стране, во всех отраслях хозяйства и культуры начались антиеврейские чистки. „Безродных космополитов“ (читай: жидов) выгоняли с работы без всякой надежды найти другое, мало-мальски приличное место, многих сажали в тюрьмы. Любопытная деталь: тех, кого обливали помоями и грязью в газетах, за редчайшим исключением, не сажали и, наоборот, о тех, кого сажали или собирались посадить, почти никогда не писали в газетах перед акцией»[243]243
Э. Маркиш. Столь долгое возвращение…, с. 167.
[Закрыть].
Мы, «политые помоями и грязью», в долгом ожидании ночных гостей (от этих страхов я отчасти избавился после того, как был выброшен из квартиры, потерял московскую прописку и скитался по Подмосковью, живя с семьей как «нелегал» в домах наших русских друзей), тогда не вполне представляли себе, что и то и другое, помои и аресты, – части единого плана.
Генерал Чепцов имел право сказать, что «принял все зависящие от меня меры к законному разрешению этого дела, но меня в тот момент абсолютно никто не поддержал, и мы, судьи, как члены партии вынуждены были подчиниться категорическому указанию секретаря ЦК Маленкова».
Там, на высоких этажах власти, странно было бы ожидать появления спасителей, людей гуманного или хотя бы здравого образа мыслей. Именно в ночь смерти Сталина, словно торопясь выполнить его духовное завещание, прошли многочисленные аресты, тогда взяли Йоганна Альтмана, Александра Исбаха и многих других. В марте 1953 года руководство Союза писателей вновь заторопилось освободиться от «балласта», от десятков литераторов еврейской национальности, хотя и пишущих с младых ногтей по-русски и видящих русские сны. Казалось, смерть Сталина – трагедия столь неутешная, что только небывалые жертвы, только уничтожение тысяч и тысяч его врагов могут, пусть в ничтожной, жалкой мере, умилостивить его богов-покровителей.
В Москве, в Союзе писателей, собрали критиков и литературоведов столицы и объявили нам, что для начала изгнанию из союза подлежит 70–75 критиков, не печатающихся в последние годы. За редчайшим исключением, все это были литераторы-евреи, которым в минувшие четыре года (1949–1953) нечего было и мечтать о публикациях. Двенадцать человек из общего числа были персонально аттестованы докладчиком Виталием Озеровым – их имена чаще других шельмовались в печати с января 1949 года. Дело, начатое Александром Фадеевым на исходе 1948 года, преследование «критиков-антипатриотов», получило дальнейшее развитие. Исключение из Союза писателей десятков критиков и литературоведов, загнанных в многолетний простой, в вынужденное молчание, оказалось бы только началом обширной чистки писательских рядов. Торопясь в писательский клуб на вселявшие тревогу собрания, мы всякий раз проходили мимо мемориальной доски высотой в два метра, на которой высечены фамилии писателей-москвичей, погибших в боях за родину. Более половины из них были евреи. Перец Маркиш, объясняя на суде психологический мотив создания стихотворения «Бойцу-еврею», сказал: «Я не хотел, чтобы говорили о еврейском солдате, что он служит в интендантстве в… Ташкенте»[244]244
Судебное дело, т. 7-А, л. 63.
[Закрыть].
Даже в 1949 году размах чистки писательских рядов от «безродных космополитов» был скромнее, чем в драматические дни марта 1953 года. 28 марта 1949 года, спустя два месяца после публикации в «Правде» статьи о группе «критиков-антипатриотов», руководство Союза писателей поставило перед ЦК и Сталиным вопрос об изгнании ошельмованных литераторов – и случилось так, что письмо союза подписал не Фадеев, а его заместитель К. Симонов. Видимо, дело представлялось неотложным, ждать светлых дней выздоровления Фадеева показалось небезопасным, письмо с курьером было отправлено на Старую площадь.
На письме две резолюции Маленкова, обе помеченные 28 марта: «Тов. Шепилову. Прошу разобраться и подготовить предложения. Г. Маленков»; «На Секретариат. Г. Маленков».
Письмо гласило:
«Товарищу Сталину И.В.
Товарищу Маленкову Г.М.
В связи с разоблачением одной антипартийной группы театральных критиков Секретариат Союза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов: Юзовского И.И., Гурвича А.С., Борщаговского А.М., Альтмана Й.Л., Малюгина Л.А., Бояджиева Г.Н., Субоцкого Л.М., Левина Ф.М., Бровмана Г А., как не соответствующих п. 2 Устава Союза советских писателей, в котором говорится:
„Членами Союза советских писателей могут быть писатели (беллетристы, поэты, драматурги, критики), стоящие на платформе Советской власти и участвующие в социалистическом строительстве…“
Заместитель Генерального секретаря Союза писателей СССР
К. Симонов
Секретарь Правления Союза писателей СССР
А. Софронов».
Видимо, существовали какие-то высокие связи между Лубянкой и спецотделом ССП, признательные протоколы первых двух месяцев следствия предвещали скорое завершение всего дела ЕАК, руководство писательского союза боялось опоздать, допустить, чтобы еще какая-нибудь часть литераторов была взята в тюрьму с не отнятыми у них писательскими билетами. Таким образом, нас предупредительно сбросили с «платформы Советской власти», заранее благословляя любые жандармские меры против нас. Альтернатива платформе советской власти в те времена была только одна: антисоветизм.
Но какие же страхи владели руководителями Союза писателей после смерти Сталина, на исходе марта 1953 года?
Почему дрогнул достойно державшийся в лютом 1949 году Алексей Сурков и освятил своим председательством позорное собрание критиков и литературоведов Москвы? Освятил, зная, какой запланирован в тот день антисемитский шабаш.
Страна жила слухами. Еще в полной силе Берия, в представлении народа и прежде всего интеллигенции – обер-палач, подталкивающий Сталина к жестокостям. Никто не мог сказать, принесет ли смерть «отца народов» облегчение «безродным космополитам» или для них придет час возмездия, отмщения за все, и за утрату вождя тоже. Уже давно никто у нас не умирал своей смертью, всякая смерть императорского ранга – превосходный повод для сотен и тысяч других насильственных смертей. Торопливость, с какой Союз писателей приступил к изгнанию литераторов-евреев, не имевших никакого отношения к еврейской секции ССП, подтвердила внутреннее направление общественных процессов, как они складывались в последние годы, а особенно – в последние месяцы жизни Сталина.
Еще при его жизни, когда страна и не слышала имени Лидии Тимашук, в недрах дела ЕАК все явственнее заявляла о себе новая провокация, будущее «дело врачей». Среди «врачей-убийц» окажутся и медицинские светила других национальностей – все не без греха! – но в представлении народа зловещий образ врача – навсегда сольется с недоброй этнической «группой». Уронить ядовитое зерно недоверия к врачу-инородцу, лекарю без рода и племени, сбросить на него всякую смерть, недуги детей и стариков, всякое нечаянное отравление, неудачу или бессилие врачевателя – вот поистине великое средство восстановления против евреев десятков миллионов людей. Соединить ожесточение толпы, ее слепую ярость и буйство времен давнишних «холерных бунтов» с высочайшей организацией дела и верой народа лозунгам и призывам партии – вот в чем залог успеха.
В недрах дела ЕАК возникали и другие гибельные «новообразования», так сказать, дочерние провокации, грозившие будущими процессами над новыми группами «сионистских» злоумышленников. 19 октября 1951 года было начато дело № 5214 по обвинению Шейнина Льва Романовича, который в Постановлении на арест, утвержденном министром Госбезопасности СССР Игнатьевым и Генеральным прокурором СССР Сафоновым, изобличался в том, «что, будучи антисоветски настроенным, проводил подрывную работу против ВКП(б) и Советского государства».
Никто не спросил с Льва Шейнина за его преступления 30-х, и последующих годов, когда он, приближенный к особе Генерального прокурора СССР Вышинского, активно участвовал в фабрикации известных дел, в уничтожении неугодных Сталину политических деятелей. Шейнин совершенно неожиданно возникает на тюремной Лубянке в роли… «еврейского буржуазного националиста». В ходе следствия по делу ЕАК у некоторых арестованных добиваются обвинительных показаний о связи – если не организационной, то духовной – ЕАК с бывшим старшим следователем Прокуратуры СССР по особо важным делам Шейниным – драматургом, членом Союза писателей. Самых общих его неодобрительных характеристик, негативной оценки личности и пьес оказалось достаточно для его ареста именно как националиста. Обвиняется кровь, а раз так, почему не обвинить и Льва Шейнина – верного и ревностного слугу режима, заранее напуганного, сговорчивого, хорошо знающего, как добываются признания на Лубянке, а потому готового без всякого понуждения повиниться в национализме. Подследственные по делу ЕАК прошли тяжкий пусть насилий и шантажа, прежде чем поняли, что в «национализме» признаться придется, и это не то чтобы «меньшее зло», а просто единственный выход, чтобы дожить до суда. Льву Шейнину не понадобились уроки Лихачева или Рюмина, для него эти уроки – но без побоев – уже давно позади, см не колеблясь, сразу же одарил следователей признанием в еврейском национализме, каковым, разумеется, никогда и никак не страдал.
Нет ничего нелепее и оскорбительнее для самой национальной идеи, с каким бы знаком ни брать ее, чем зачисление в адепты еврейского национализма деятельного приспешника Вышинского, циника и карьериста, беспощадного к вере своих предков, к самому существованию или несуществованию людей его крови. Поразительно не то, что самых расплывчатых намеков на близость – никогда не существовавшую! – Шейнина и Михоэлса, на националистические мотивы его написанных в соавторстве с братьями Тур пьес оказалось достаточно для ареста Шейнина, – поразительна его сговорчивость на допросах и то, как он увлекает следователей за собой, за бойкими своими признаниями в национализме.
Оказавшись в тюрьме еще при жизни Сталина, опытнейший функционер прокуратуры, изощренный в тонкостях, опасностях и ловушках следственного процесса, Шейнин напряженно дожидается разгадки: какого рода «подрывную работу» против партии и советского государства инкриминируют и станут навязывать ему? С великим облегчением должен был он воспринять открывшееся ему обвинение в национализме. Кто-то окрестил его махровым националистом, кто-то, потеряв чувство юмора, назвал его даже религиозным фанатиком – что ж, он поможет следствию, избегая крайностей, всего, что может быть квалифицировано как уголовное преступление. Поможет, не гневя бездарных следователей, поспешая им навстречу, расскажет о националистических настроениях – собственных и своих коллег-драматургов, – не пощадив и соавторов. Слегка коснется неясных душевных томлений, невеселых размышлений о еврейской жизни, дурно пахнущих, но, впрочем, безобидных анекдотов. Расскажет о том, за что по крайности могут исключить из партии, прогнать с должности или даже сослать на малый срок, но не должны гноить в лагере, а тем более расстреливать.
Недавно еще всесильный Шейнин, предусмотрительный и искушенный, все же не сумел оценить переменившегося времени и решимости Сталина осуществить геноцид, невзирая на лица, не щадя никого, даже и начальственных, преданных ему персон. Это поняли Абакумов и его следователи, позволяя себе глумливые вопросы в адрес Кагановича или Мехлиса, откровенные издевательства над женой Молотова и женами-еврейками других сиятельных вельмож. Всезнающий же Шейнин, однако, не уразумел всей глубины перемен.
Литературная экспертиза по делу № 5214 была поручена тому же писательскому квартету, который в деле ЕАК уже покорно играл по нотам Рюмина и Гришаева, обрекая гибели обвиняемых (Щербину, Владыкина, Лукина и Евгенова). Похоже, что они становятся штатными экспертами госбезопасности, готовыми «обслужить» быстро и в любом угодном следствию направлении. Вместо того чтобы вынести краткий вердикт третьесортным пьесам Шейнина и его соавторов, ремесленным, конъюнктурным поделкам, пьесам отнюдь не на еврейские темы, в которых если и возникал персонаж-еврей, то как приправа, «экзотика», возможность оживить действие анекдотцем или откровенной балаганностью, эксперты, прислуживая следствию, обнаружили и в этих пьесах несуществующий национализм, воспевание отживших, ретроградных обычаев и даже противопоставление евреев всем другим нациям.
«– Вам предъявлено заключение экспертов от 29 февраля 1952 года, – сказал следователь Шейнину. – Из заключения видно, что в своих пьесах вы воспевали носителей отсталых идей еврейской националистической обособленности. Правильность этого вывода подтверждаете?
ШЕЙНИН: – Подтверждаю… Образы еврея Рубинштейна в пьесе „Кому подчиняется время“ и в меньшей степени еврея Гуревича в пьесе „Очная ставка“ обрисованы националистически… В других моих пьесах героев, евреев по национальности, нет»[245]245
Дело № 5214, т. 3, л. 55.
[Закрыть].
Два отнюдь не националистических, а вполне дежурных, балаганных персонажа, лишенных внутреннего содержания и самобытности, два второстепенных персонажа в двух из множества сочиненных им пьес: их оказывается достаточно для изворотливого подследственного, чтобы в поисках спасения признаться в националистических грехах.
Коварной оказалась и оценка экспертами одной из последних по времени написания пьес Льва Шейнина – «Дело Бейлиса». Оценка эта обличает не столько автора пьесы, сколько самих экспертов, их политический обскурантизм и следственную ангажированность. «В пьесе, – утверждали они, – очевидна попытка автора воскресить и актуализировать давно решенный в Советской стране так называемый еврейский вопрос, что противоречит интересам дружбы народов СССР».
Как много лжи вобрала в себя одна эта фраза! Здесь и тупое умаление целей искусства вообще, привязка его к конъюнктуре времени; запрет на тему, которая, как и многие другие эпизоды мировой истории, принадлежит человечеству, а не полицейским приставам; циничная ложь по поводу «давно решенного» еврейского вопроса, тогда как этот вопрос набатом звучит в самом деле ЕАК и в поведении самих ученых-экспертов. Здесь и подталкивание следствия к обвинениям в антисоветизме, ибо противодействие дружбе народов – стандартный мотив антисоветизма.
Шейнин приемлет и это; виновато склонив голову, он старается только об одном – не забрести туда, где грозными басами гудят вечевые колокола, – в контрреволюцию.
Не забрести трудно, если не невозможно. Даже Шейнин от допроса к допросу погружается в опасную трясину. Начав с того, что его и его коллег по писательскому цеху с некоторого времени стали посещать националистические настроения, он называет фамилии малодушных, вспоминает о «националистических высказываниях» Маклярского («но он делал их в весьма осторожной форме…»), о жалобах Александра Штейна «на плохое отношение в Союзе писателей к писателям-евреям и о том, что в этом смысле „время тяжелое“ и что писатели-евреи должны поддерживать друг друга». Постепенно в круг своих «единомышленников» Шейнин включает не только своих соавторов – Тубельского и Рыжея (братьев Тур), – но и К. Финна, И. Прута, Ц. Солодаря и даже А. Крона. А с течением времени, потакая следователям, и Эренбурга с Гроссманом, пытаясь даже их, своих идейных и нравственных антиподов, включить в некую «националистическую» группу по признаку крови. Постепенно задачи и цели этой группы очерчиваются все определеннее и опаснее, и вот уже мы читаем в подписанном Шейниным протоколе, что главным делом «нашей группы была борьба с Советской властью за обеспечение ведущей роли евреев-драматургов в советской драматургии».







