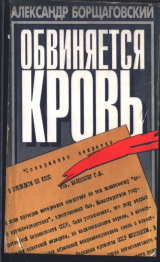
Текст книги "Обвиняется кровь"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Вполне утопическое, несбыточное при правлении Сталина, твердившего уже с 1913 года, что евреи не нация и нацией никогда не станут, это письмо написано по всем стандартам времени и со слепой верой, что именно Советский Союз может и должен решить мучительную историческую задачу возвращения государственной целостности, самого статуса единства народу, на протяжении многих веков живущему в рассеянии.
Только Эпштейну, связанному и с Инстанцией и с Лубянкой, Эпштейну, заверившему Михоэлса, что правительство ждет их обращения по поводу будущего Крымского полуострова, под силу было исполнить это щекотливое поручение властей. Во всем видна опытная рука Шахно: в том, как он сумел убедить Михоэлса и опытнейшего Лозовского, что правительство готово рассмотреть этот вопрос и ждет письма; что надо поспешить, ибо «на предстоящей мирной конференции может возникнуть вопрос об устройстве евреев». Его рука – и в расплывчатости некоторых положений письма, так и не обозначившего рамки претензий на Крым – идет ли речь обо всем полуострове, или только о его северной, степной части. Особая заинтересованность Эпштейна обнаружилась и в том, что он категорически воспротивился привлечению Шимелиовича к написанию письма и настроил воинственно Ицика Фефера, встретившего в штыки текст доктора Шимелиовича. На очной ставке с Шимелиовичем 29 июля 1949 года Фефер заявил, что «…Шимелиович представил свой проект письма, причем от него веяло таким национализмом, что мы, по совету Лозовского, вынуждены были составить письмо в другом варианте»[76]76
Следственное дело, т. VIII, л. 36.
[Закрыть].
О татарах в письме ни слова. Об их государственности, их автономии. За этим умолчанием также видится предусмотрительность Шахно Эпштейна, и, возможно, не только его. Не надо раньше времени трогать больной вопрос – будущую, быть может, уже назначенную Инстанцией кровь! Земли Крыма велики, по европейским масштабам, очень велики, больше 27 тысяч квадратных километров. Вспомним, что территория государства Израиль, в решениях ГА ООН от 29 ноября 1947 года, было равна примерно половине площади Крыма и даже в 1948–1949 годах оказалась меньше Крыма (20,7 тыс. кв. км). Крым велик и самой природой как бы поделен на две зоны: гористую – причерноморскую – основные районы проживания татар, и степную, полупустынную северную часть полуострова. Пусть государство рассудит, как расположить в Крыму две автономии. В любом случае Михоэлсу в начале февраля 1944 года не могла и в голову прийти мысль о депортации татар и о «еврейском счастье» на чужой беде!
Это бесспорно: прошло три года и в изменившихся условиях, когда преступная акция в отношении татар уже свершилась и Крым «освободили» от татар, Михоэлс воспротивился новым притязаниям на эту землю, а занятая им позиция вызвала новый прилив ненависти Абакумова и желание поскорее покончить с ним.
«Михоэлс, – показал Шимелиович в феврале 1952 года, когда подходил к концу второй этап следствия, а Абакумов уже около года сидел в тюрьме, – предложив мне написать проект письма в правительство о Крыме, пояснил что этот вопрос будто бы поднят самим правительством… Поскольку инициатива в этом вопросе принадлежала правительству, то я ничего не видел предосудительного и составил проект письма… Что касается националистических побуждений, – продолжал доктор на очной ставке, отметая обвинение Фефера, – то их у меня не было никогда».
Не раз приходилось Шимелиовичу твердить следствию: «Ни о каком преступном сговоре Михоэлса и Фефера с американцами, в том числе и по вопросу о Крыме, я не знал», и в марте 1952 года, уже в преддверии суда, снова о том же: «Михоэлс мне заявил, что есть указание, как он выразился, свыше, представить свои соображения о замене автономной области Биробиджан автономной еврейской республикой в Крыму. Это мероприятие, говорил Михоэлс далее, необходимо провести в жизнь в связи с тем, что на предстоящей мирной конференции может возникнуть вопрос об „устройстве евреев“. Я спросил у Михоэлса, что означает его выражение „указание свыше“. Михоэлс разъяснил, что такое указание, исходит, по его словам, от правительства».
Мог ли Михоэлс сказать что-либо более внятное и определенное, сам двигаясь в потемках, обманутый и подталкиваемый Эпштейном и Фефером, в которых он не мог заподозрить агентов службы госбезопасности?!
Стоит задуматься над тем, почему «письмо трех» о Крыме в течение недели поменяло адресата. Писалось на имя Сталина, что вполне естественно: никто другой не мог и помыслить не то что о создании в стране новой автономии – и какой: еврейской! – но и о серьезной постановке такого вопроса на обсуждение.
Письмо Сталину от 15 февраля 1944 года сохранилось в архиве без помет или резолюции Сталина. Трудно предположить, что письмо скрыли от него, что кто-то, не спросив генсека, осмелился распорядиться о переадресовке письма: уже 21 февраля оно, с небольшой купюрой, направлено за теми же тремя подписями заместителю председателя Совета Народных Комиссаров В.М. Молотову. Только Сталин, пробежав текст послания или выслушав сообщение о нем Поскребышева (Маленкова? Щербакова?), мог сбросить еврейскую заботу на Молотова. Но как сбросить? Сердито, раздраженно – или с притворным равнодушием, полупрезрительно, с коварным умыслом – этак небрежно, между делом – маскируя скрытый ход своих мыслей? Появись на письме резолюция Сталина или выскажись он вполне определенно, все и решилось бы так или иначе в соответствии с его волей.
Вспомним, что ЕАК с первых дней существования – «поднадзорный объект»: что «крымский проект» подброшен отнюдь не Совнаркомом и не напрямик аппаратом ЦК ВКП(б), а Лубянкой через двух своих сотрудников – Шахно Эпштейна и Фефера.
Сегодня, многое узнав о тайной службе двух руководящих деятелей Еврейского антифашистского комитета, мы можем досадовать на доверчивость Михоэлса, недоумевать, почему его не насторожила атмосфера секретности, неадекватные, оскорбительные нападки Фефера на доктора Шимелиовича вместо благодарности ему за помощь.
Тогда все выглядело иначе: деловой хозяин ЕАК – его ответственный секретарь Шахно Эпштейн – и редактор газеты «Эйникайт» Фефер, два старых члена партии, завсегдатаи ЦК ВКП(б), два малосимпатичных лично Михоэлсу человека (тому есть множество доказательств), но не вызывавших гражданского недоверия, а скорее, по неизменной их партийной ортодоксальности, казавшихся Михоэлсу выразителями воли партии в ЕАК, сообщили ему о готовности правительства и лично Сталина рассмотреть вопрос о Крыме с благожелательных позиций. Как было не поверить, не подписаться под письмом, не загореться надеждой?!
Сталин, который спустя несколько лет, когда усилиями Абакумова – Фефера будет эксгумирован «крымский проект», взорвется театральным, слишком неистовым, чтобы быть натуральным, гневом («Сталин буквально взбесился!» – скажет по этому поводу Хрущев) на евреев, задумавших «умыкнуть» Крым, в феврале 1944 года коварно молчит, препоручив заботу Молотову. Плод не созрел, время не пришло…
При всей высоте своего державного ранга Молотову живется неуютно. Менее всего хотел бы он заниматься еврейскими делами, всякий раз, при каждом подходящем случае убеждаясь в неискоренимости матерого уже к этой поре антисемитизма Сталина. Жена Молотова – еврейка, всегда чуждая Сталину, а после самоубийства Аллилуевой – ненавистная ему. Но Молотов – гроссмейстер осторожности – в отличие от доверчивого Михоэлса, этого простодушного мудреца, не попадает впросак. Сама осторожность, он не дает загнать себя в ловушку, не доставит этой радости ни Берии, ни Жданову, ни Маленкову и никому другому, кто хотел бы оттеснить его от трона. По совету Сталина Молотов звонит в Киев Хрущеву – по собственному почину он не стал бы советоваться о Крыме с украинским руководителем, к которому всегда был не расположен и который в Крыму не хозяин, а просто ближайший «сосед», – спустя годы именно Хрущев и подарит Крым Украине.
Звонок в Киев – формальный, во исполнение чужой воли. И в Москве Молотов ограничится формальными шагами, адресовав копии «письма трех» Маленкову, Микояну, Щербакову и Вознесенскому. Четыре дня спустя на оригинале письма появляется надпись: «В архив. Тов. Щербаков ознакомлен. 28 февраля 1944 г.». Письмо остается полеживать в архиве, как мина замедленного действия.
Следствие с трудом поддерживало миф о притязаниях ЕАК на Крым, основываясь единственно и только на показаниях Фефера о сговоре Михоэлса со спецслужбами США и чуть ли не с самим американским правительством. Постепенно роль Фефера в сочиненной им афере умалялась до полного исчезновения, тяжесть «преступления» перекладывалась на безответного Михоэлса. «Фефер дал мне понять, – свидетельствовала 25 марта 1949 года Эмилия Теумин, – что в получении евреями Крыма заинтересованы американцы, и Михоэлс в период своего пребывания в Америке в 1943 году обязался выполнить это требование американских капиталистов»[77]77
Следственное дело, т. XXIV, л. 106.
[Закрыть].
Как часто в тяжелые месяцы работы над архивом следственного и судебного дел ЕАК печаль стискивала мне сердце; угнетало бессилие защитить от поругания человека, так естественно соединившего в одном существовании художественный гений, сострадание к людям и могучую, неусыпную энергию. Как горько было убеждаться в действенности зла: стрократно обманутые, истерзанные так, что позавидуешь мертвому, люди заражались подозрительностью, гневным недоверием, принимали ложь за правду, начинали верить наветам. Если малодушный, цепляющийся за жизнь Фефер, каясь, открыл свои собственные преступления, почему бы не оказаться правдой – как ни тяжело и представить себе такое! – и преступлениям Михоэлса?! Люди словно увязали в трясине: мутился разум, ядовитые миазмы застилали глаза, уже не вчерашние друзья, а уродливые призраки чудились в тюремных стенах. Их умело, виртуозно толкали к предательству, к самооговорам и клевете. Сама память о Михоэлсе – сильном, решительном, полном деятельной энергии – менялась. Утрачен покой, убита надежда, поругана вера в человеческое достоинство, страх за близких истерзал сердце; до Михоэлса ли теперь, до недавнего еще почитания, а то и преклонения перед ним? В конце концов, он – «счастливец», для него все уже позади, он покняжил, пображничал на пиру жизни и ушел, ускользнул от палачей, исхитрился уйти на самом пороге несчастья… Никогда еще покушение Сальери на Моцарта, говорил я себе, думая о Михоэлсе и Фефере, не было столь изощренным и страшным, вдобавок еще и опирающимся на государственную власть.
«Откуда взялись в обвинениях по нашему делу реакционные круги Америки? – вопрошал на суде ученый-международник Лозовский. – Они ведь из сегодняшних газет, из газет 1952 года, а не 1943 года, когда Михоэлс и Фефер были в США. Тогда в Америке было правительство Рузвельта, с которым мы были в военном, антифашистском союзе». Опираясь на факты, на правительственные телеграммы, он показал, что все встречи в США, в том числе и с Розенбергом и Вейцманом, были согласованы с Москвой, каждый шаг наших эмиссаров в США был известен Молотову. С чего же началась провокация?
«Все началось, как объяснил нам здесь Фефер, с „крымского ландшафта“, а кончилось тем, что я, Соломон Лозовский, захотел продать Крым американцам как плацдарм против Советского Союза. Началось с показаний Фефера о том, что Розенберг предложил свою „формулу Крыма“. Крым – это Черное море, Балканы и Турция. Потом Фефер заявил, что Розенберг не говорил этого и что это формулировка следователя… Но в памяти подследственных уже засела эта удобная формулировка: Черное море, Турция, Балканы… По мере того как допрашивались другие арестованные, каждый следователь прибавлял кое-что от себя, в конце концов Крым оброс шерстью, которая превратила его в чудовище. Так получился плацдарм, и, хотя уже не докопаться, кто первый произнес это слово, военно-стратегический плацдарм налицо. Кто-то уже додумался, что и американское правительство причастно к этому делу. Это значит – Рузвельт. Осенью 1943 года Рузвельт встретился со Сталиным в Тегеране. Смею уверить вас, что мне известно больше, чем всем следователям вместе взятым, о чем шла речь в Тегеране, и должен сказать, что там о Крыме ничего не говорилось. В 1945 году Рузвельт прилетел в Крым с большой группой разведчиков, на очень многих самолетах. Он не прилетел ни к Феферу, ни к Михоэлсу и не по делу о заселении евреями Крыма, а по более серьезным делам. Зачем же нужно было изобретать формулировку – плацдарм, – которая пахнет кровью?!»
Кажется, один Лозовский трезво понимал, чем завершится этот закрытый процесс. Он не раз напоминал другим обвиняемым, перебиравшим в уме сроки, что речь идет не о сроках, а о жизни.
Но Соломон Лозовский заговорил не сразу, а пройдя многие круги отчаяния, подогреваемые ненавистью и сопровождаемые истерикой побои в четыре руки – полковника Комарова и подполковника Иванова. Так заговорил недавний член ЦК ВКП(б), расставшись с иллюзиями, не уповая больше на высшую справедливость Сталина, которого, мол, обманывают, за спиной которого орудуют палачи-антисоветчики.
Потом придет прозрение, и обер-палач Рюмин, лично принявшийся за Лозовского с января 1952 года, будет усердствовать напрасно.
Но в феврале-марте 1949 года Соломон Лозовский повторил общую судьбу. Неотступная мысль, что нужно дожить до суда, получить трибуну, пусть судебную, сказать правду – и ее услышит партия, услышит Сталин; свалившиеся вдруг горы лжи суетного, в сущности мало знакомого ему Фефера, с ловкостью факира превращающего Лозовского в главу чудовищного заговора только потому, что заговору нужен солидный, внушительный «вожак», а «вожаком» Михоэлсом пришлось пожертвовать; побои и унижения заставили и Лозовского в первые дни допросов оговаривать себя по «партитуре» Фефера.
«Да… да… Михоэлс и Фефер рассказали мне, что установили связь с лидером сионистского движения Вейцманом, нынешним президентом Израиля… с миллионером Розенбергом, с крупным домовладельцем Нью-Йорка Луи Левиным…
Да… по моему указанию Михоэлс и Фефер составили письмо на имя Советского правительства, в котором просили передать евреям Крым…
Да… Жемчужина во всех еврейских националистических делах играла немалую роль…»
Мысль о том, что он кощунственно оговорил Полину Жемчужину, будет мучить Лозовского, и в июле 1952 года, на суде, он наконец получит возможность публичного покаяния – скажет, что за все время следствия он оклеветал трех человек: себя и двух женщин.
«…Об этих двух женщинах я сказал неправду. Это о Лине Соломоновне Штерн и Полине Семеновне Молотовой.
Да… В середине 1944 года я санкционировал ЕАК командировать в Крым еврейского писателя-националиста Квитко… Вернувшись, он подтвердил, что имеется полная возможность возвращения евреев, эвакуированных на восток…»
Следователя не устроила такая трактовка, сводящая все к возвращению в родные дома бывших жителей Крыма.
«– Разве речь шла только об эвакуированных из Крыма? – насторожился он.
– Да… На первых порах… Закрепившись на земле, ранее находившейся под еврейскими колониями, мы думали начать практическое осуществление заданий американцев…
– Вам это удалось сделать?
– Да… Наша просьба была удовлетворена Бенедиктовым, и евреи начали переселяться в Крым… Окрыленные первым успехом, мы были уверены, что получим от Советского правительства и весь Крым… Вскоре нам стало известно, что наша просьба о передаче Крыма евреям Советским правительством отклонена…»
Так выглядит «портрет» Лозовского, писанный мастерами-«забойщиками» в первые недели допросов.
Так неожиданно затруднилось не только заселение Крыма еврейскими «массами», но даже и простое возвращение к родному порогу семей евреев – здешних аборигенов, которому теперь чинились всевозможные препятствия.
Уступка Лозовского тюремному насилию была горестна: именно эти показания легли в основу его «обобщенного протокола», он был отослан в Инстанцию, порадовал и утвердил Шкирятова и Маленкова, но прежде всего Сталина в старой истине, что волка как ни корми, а он все в лес смотрит; что еврей, даже и обласканный и вознесенный к вершинам власти, в душе – оппозиционер и антисоветчик. А Лозовскому пришлось еще 39 месяцев ждать возможности сказать правду, но, увы, не народу и не партии, как ему мечталось, а подсудимым и нескольким старшим офицерам военной коллегии Верховного суда СССР.
Достанет ли когда-нибудь у человечества милосердия, чтобы выслушать страдальцев, не спешить списывать их в общие со многими нулями списки потерпевших, в трагическую статистику, но все же статистику, без живых голосов?
Лозовский упрямо вел свое обличение в заседаниях суда, а у судьи Чепцова все реже возникало желание мешать ему, хотя и не сразу пропала к этому охота.
«Что могут сообщить о крымском плацдарме Гофштейн, Ватенберг-Островская или Зускин, а также целый ряд других почтенных людей? – не без сарказма спрашивал суд Лозовский. – Ну что могла сказать по этому поводу Штерн? Она ничего не понимает в этом, а между прочим, все они – и Маркиш и Зускин, решительно все стали в ходе следствия большими „специалистами-международниками“…»
Генерал-лейтенант Чепцов прервал Лозовского: его здравый смысл разрушал важную позицию обвинительного заключения.
Но Лозовский настойчив:
«Это – мое последнее слово, может быть, последнее в жизни! Мифотворчество о Крыме представляет собой нечто совершенно фантастическое, тут применимо выражение Помяловского, что „это фикция в мозговой субстракции“»[78]78
Судебное дело, т. 7, л. 72.
[Закрыть].
«Президиум ЕАК признан шпионским центром, это – вздор. Внутри президиума могли быть члены, которые занимаются шпионажем: если Фефер утверждает, что он занимался шпионажем, то это его дело, но чтобы этим занимался весь президиум – это политический нонсенс и это противоречит здравому смыслу. Как же все-таки получились эти 42 тома [на судейском столе громоздились 42 тускло-синих, объемистых следственных тома. – А.Б.], как получилось, что все 25 следователей шли по одной дорожке?.. Дело в том, что руководитель следствия, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам полковник Комаров, имел очень странную установку, о которой я уже говорил и хочу повторить. Он мне упрямо втолковывал, что евреи – это подлая нация, что евреи – жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что евреи хотят истребить всех русских.
Вот что говорил мне полковник Комаров. И естественно, имея такую установку, можно написать что хочешь. Вот из чего развилось древо в 42 тома, которые лежат перед вами и в которых нет ни слова правды обо мне»[79]79
Там же, л. 77.
[Закрыть].
Мог ли он, даже втайне, допустить мысль, что по-комаровски смотрит на еврейскую нацию и Сталин, давно убежденный в том, что вся история партии (история, которую сочинил Ярославский, а откорректировал «сам») была историей борьбы против евреев? Полагаю, что нет: такого внутреннего потрясения, такого разрушения всей своей долгой жизни, всего своего служения Лозовский не перенес бы.
К фигуре Комарова он возвращается неоднократно. Объясняя суду, при каких обстоятельствах довелось ему поставить подпись под признательным протоколом от 3 марта 1949 года, он рассказал, как Комаров в течение восьми ночных допросов изнурил и довел его до отупения, непрерывно твердя, что евреи – «подлый и грязный народ», что все они «негодная сволочь»; как обрушил на него изощренный, неслыханный, приправленный злобным антисемитизмом мат; как пообещал передать его своим «особым» следователям, сгноить в карцере, избивать резиновыми палками так, что нельзя будет ни стоять, ни сидеть.
«– Тогда я ему заявил, что лучше смерть, чем такие пытки, – сказал Лозовский, – на что он ответил мне, что мне не дадут умереть сразу, что я буду умирать медленно…
– А вы испугались? – спросил Чепцов.
– Нет, я не испугался. Далее Комаров стал спрашивать, у кого из ответственных работников в Москве жены еврейки. У нас в государстве, заявил он мне, никаких авторитетов нет, нужно было – мы арестовали Полину Семеновну Молотову… Он стал требовать, чтобы я дал показания о существующей якобы у меня связи с Кагановичем и Михоэлсом, хотя я ему десятки раз доказывал, что я с ними не встречался, у меня с ними никаких близких общений не было… Я на себя наговорил (в марте 1949-го), на себя, и ни на кого другого… На себя я имел право наговорить, я хотел дожить до суда и сообщить суду обо всем. Но на других наговаривать я считал морально недопустимым.
Человек который отрицает свою национальность, – сволочь».
Свою речь в суде Лозовский закончил фразой, которая и стала последним, обращенным к судьям и к совести каждого из нас словом:
«…Если у вас будет хотя бы пять процентов уверенности в том, что я на полпроцента изменил Родине, партии и правительству, я заслуживаю расстрела»[80]80
Там же, лл. 255–258.
[Закрыть].







