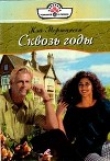Текст книги "Мерцание золота"
Автор книги: Александр Кожедуб
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
У меня в соседнем доме была комната в коммуналке, о которой не хотелось даже вспоминать. Любка, соседка справа, устроила у себя натуральный притон, и я теперь заходил в свою комнату с опаской. Но это случалось не чаще одного раза в месяц, все-таки жил я у жены на Ленинском проспекте.
– Квартира, – сказал Коржов.
– Комната, – возразил Егоров.
Оба были выпускники Бауманского, и оба ничего не знали наверняка.
– Как раскупаются книги? – сменил я тему разговора.
– Нормально, – пожал плечами Егоров.
– Хреново, – сказал Коржов.
Однажды мне позвонила Перетокина.
– Алесь, – сказала она, – мы ведь с вами земляки.
– Да ну?! – удивился я.
– Мой дед откуда-то из Белоруссии. И раз мы земляки, вы мне должны помочь.
– Охотно, – согласился я.
Нина Матвеевна очень редко слышала собеседника, но мне нравилось с ней говорить. Подкупали прямота и напористость.
– Меня пригласили на празднование трехсотлетия российского флота, и я сказала, что приду только со своим издателем. Вы ведь не откажетесь меня сопровождать?
– Никогда! – сказал я. – Я люблю бывать на юбилеях, пусть и не очень значительных.
– Но ведь там столько людей!
Я уловил в ее тоне нотку осуждения, смешанного с ужасом.
– А я никого к вам не подпущу, – пообещал я. – Вы ведь для этого меня берете с собой?
– Спасибо, дорогой! Я знала, что на вас можно положиться.
Голос Нины Матвеевны заметно повеселел.
– Белорусы – верные слуги, – сказал я.
Этих слов Перетокина не расслышала. Как я уже говорил, она слышала лишь то, что хотела.
– Значит, послезавтра у Красных ворот, – отчеканила она. – Там у них штаб.
– Гардемарины с Дружининой будут?
– Там будут все.
Я догадался, что при этих словах Нина Матвеевна поморщилась.
– Отобьемся, – сказал я. – В крайнем случае сбежим.
Этого она тоже не расслышала. Когда тебе за шестьдесят, бегать уже не хочется.
У штаба военно-морского флота я был в точно назначенное время. Нина Матвеевна тоже пришла вовремя.
– Из страха опоздать я сегодня почти не спала! – пожаловалась она. – А из Троицка еще доехать надо.
– Вы с Бочкаревым почти земляки, – утешил я ее. – У него дача в Ватутинках.
– Он тоже здесь будет?
– Нет, его не звали.
Я не стал уточнять почему. Перетокина на этом и не настаивала.
– Ну, как я выгляжу?
– Потрясающе.
Выглядела она действительно хорошо. Адмиралы, цугом проходящие мимо нас, как по команде сбивались с парадного шага. Один из них не только взял под козырек, но и поцеловал даме руку.
– Кто это? – испуганно спросила Нина Матвеевна.
– Кажется, адмирал Касатонов.
– Я в адмиралах ничего не понимаю, – взялась она пальцами рук за виски.
– Чем меньше звезд на погонах, тем выше звание, – объяснил я.
Нина Матвеевна непонимающе посмотрела на меня. Похоже, она была близка к истерике.
– Пойдемте куда-нибудь! – вдруг схватила она меня за руку. – Я не хочу с ней видеться.
– С Дружининой? – догадался я.
– Конечно. Уж лучше с адмиралами…
Она потащила меня в гущу военных. В глазах рябило от черных мундиров и золотых шевронов и звезд.
«Сколько же у нас адмиралов! – мелькнуло в голове. – Не одну войну можно выиграть».
Я увидел Харатьяна, который фотографировался с адмиралами.
– А с гардемаринами вы общаетесь? – спросил я.
– С каждым по отдельности, – сказала Нина Матвеевна. – Друг с другом они тоже не хотят видеться.
– Кино сложная штука, – согласился я. – Может быть, сложнее, чем литература.
– Писателей, к счастью, мало знают, – взяла меня под руку Перетокина. – У нас в Троицке их почти нет. Для общения мне хватает и вас.
Набежала толпа фотографов, и Нина Матвеевна тоже стала сниматься с адмиралами.
«Вот он, миг писательской славы, – подумал я. – «Гардемарины» Перетокиной для нынешних флотоводцев важнее «Войны и мира» Толстого».
Распахнулись двери зала, в котором были накрыты столы, и все устремились к ним. Я едва успевал за Ниной Матвеевной. Впрочем, в моих услугах она уже не нуждалась. Адмиралы обхаживали ее с пылом гардемаринов.
«А флотские небедно живут, – размышлял я, обозревая ломящиеся от снеди столы. – Но они и не должны бедно жить. Кто у России союзники? Флот и армия. В России бедно живет только народ».
Не знаю, был ли в этом чей-то умысел или все произошло случайно, но в какой-то момент Перетокина с Дружининой оказались рядом. Улыбаясь, они впились глазами друг в друга. Мне стало зябко. Я понял, что мужчины в сравнении с женщинами сущие дети.
– Гардемаринов сюда! – раздался чей-то зычный голос.
Гардемарины, конфузясь, окружили своих повелительниц. Ослушаться никто из них не посмел. Глядя на авторов фильма и исполнителей главных ролей, я не мог постичь глубины их неприязни друг к другу. Неужели именно в этом состоит непостижимость русской души?
– Вы гость? – услышал я вкрадчивый голос.
– Гость, – сказал я.
Человек, спрашивавший меня, на фоне импозантных адмиралов выглядел невзрачно.
«Всего лишь капитан первого ранга», – посмотрел я на его погоны.
– С ними? – показал пальцем на киношников человек.
– С одной из них.
Я не стал уточнять с которой.
– Хотите посмотреть на настоящее застолье?
Что-то в голосе этого человека заставило посмотреть на него внимательнее. Невысок, полноват, чернявый. Вполне заурядный субъект. А голос повелителя.
– Хочу, – сказал я.
– Пойдемте.
Мы направились к боковой лестнице, ведущей куда-то в подвал.
«Интересное кино, – думал я, вперясь глазами в спину поводыря. – По сравнению с ним даже я больше военный, не говоря уж о Харатьяне. Куда он меня ведет?»
В подвале мы остановились у одной из дверей.
– Сюда, – сказал каперанг и открыл дверь.
Я шагнул через порог и замер. Картина, открывшаяся моим глазам, ошеломляла. За большим овальным столом, развалясь, сидели каперанги. Среди них не было ни одного адмирала, и все они неуловимо походили друг на друга. Некоторые сбросили мундиры и сидели в белых рубашках. У двух-трех из них на коленях устроились смазливые барышни в коротких юбках. В каждой из барышень тоже проскальзывало что-то общее.
«Клоны, – подумал я и оглянулся на своего провожатого. – Или масоны, что в принципе одно и то же».
– Замы по тылу всех флотов, – улыбнулся тот. – Мы не любим пышных застолий и громких слов.
– Н-да… – крякнул я.
В этом застолье поражали даже не глубокие чаши с черной икрой, а то, что к ней никто не притрагивался. На челе каждого из сидящих за столом лежала печать усталости. Да, все они честно сделали свое дело и теперь отдыхали.
– За русский флот!
Мой провожатый наполнил рюмки из какой-то особенной бутылки. Мы выпили.
– Кто таков? – повернулся к нам один из каперангов.
– Писатель.
– Пусть выпьет, – разрешил каперанг. – Но не пишет.
Кто-то хохотнул.
«Если и напишу, никто не напечатает, – подумал я. – В новой России живем».
– Да, живем небогато, – согласился мой спутник, – но нам много и не надо. Еще рюмочку?
Я понял, что из подвала пора выметаться.
– Спасибо за доставленное удовольствие, – сказал я.
– Всегда рады писателям.
Провожатый улыбался, но глаза его были холодны.
«В древности правили жрецы, – думал я, поднимаясь в парадный зал, – потом масоны, а теперь, видимо, тыловые крысы. Конец, впрочем, всегда одинаков».
На столах, за которыми витийствовали адмиралы, черной икры, между прочим, не было.
– Героям икра не нужна, – сказал я Перетокиной, которая чокалась со всеми адмиралами подряд, – им и орденов хватает.
– Пойдемте домой, – поставила она на стол рюмку. – Столько я никогда не пила.
– Неужели больше двух рюмок? – удивился я.
– Не больше, но мне и одной нельзя. Где вы все это время были?
– У масонов в подвале, Нина Матвеевна. Это рядом.
К микрофону подошел Харатьян с гитарой, и это был самый удобный момент, чтобы незаметно скрыться.
7
Умер Эрнст Иванович Сафонов.
Несчастье случилось хмурым зимним утром. Как обычно, служебная машина приехала за главным редактором и остановилась у коттеджа. Эрнст Иванович вышел из квартиры, закрыл за собой дверь и стал спускаться по лестнице. Насколько хороши во Внукове лестничные пролеты в кирпичных коттеджах, настолько же они ужасны в деревянном.
«Здесь такую лестницу сделали для того, – думал я, карабкаясь по вечерам к Эрнсту Ивановичу, – чтобы писатели меньше пили. Лучше не допить рюмку, чем сверзиться и сломать шею».
Именно на этой лестнице Эрнст Иванович и упал. Я не знаю, инсульт случился до падения или после него, но шофер обнаружил главного редактора уже лежащим на лестнице. Сафонов умер в клинике, не приходя в сознание.
Прощались с Эрнстом Ивановичем в крематории Хованского кладбища. Все, кто присутствовал на церемонии, были угнетены. Уходили лучшие люди, и отчего это происходит, никто не понимал.
– Убили, – услышал я чей-то голос.
Конечно, это не было убийством в традиционном понимании этого слова. Да, без Ларисы Тиграновны Сафонову было тяжело, но ведь он работал, нянчился по выходным с внуками, ухаживал за домашними питомцами, которых в его доме всегда было полно.
Кстати, за несколько дней до несчастья из дома ушел Том. Он и до этого пропадал на неделю, «шел по бабам», по выражению Эрика, но в этот раз исчез раз и навсегда. За котами, насколько я знал, подобное водилось.
Обрушился мир, любовно выстроенный, выпестованный Эрнстом Ивановичем Сафоновым. Для меня эта потеря была сравнима со смертью самого близкого человека. А как для писателя он сделал для меня больше, чем кто бы то ни было. И даже не тем, что регулярно печатал в «Литературной России», а своим отношением к писательскому делу, к товарищам по цеху, к русскому слову.
– Сейчас для России самые худшие времена, – говорил он мне, – но убить ее все равно не удастся. Вот увидите.
И я ему верил.
Как мне представляется, он был образцом честности, порядочности, доброты – то есть таким, каким и должен быть русский человек. Может быть, излишне щепетилен, но кто из нас без недостатков?
На похоронах мне ни с кем не хотелось говорить. О чем? Что лучшие из нас долго не живут? Об том и так все знают. Радуются враги? Они и должны радоваться. Если у тебя нет врагов, стало быть, неправильно живешь.
Я положил в гроб цветы, проследил взглядом, как он уползает в чрево печи, и ушел.
Эрика уже не вернешь. А вот память о нем хотелось бы сохранить.
В Доме творчества «Внуково», чудом удержавшемся на плаву, начиналась новая жизнь. Многие из писателей старшего поколения ушли в мир иной. Файзилов, Михайлов и Костров переехали в Переделкино, пошли, так сказать, на повышение статуса.
Из старших товарищей чаще других я вспоминал Георгиева с его собаками, «Елисеича» Шундика, не расстававшегося с отваром зверобоя в термосе, «бабу Катю» Шевелеву, отменно собиравшую грибы. Изредка мы с ней встречались в лесу на просеке.
– Нашли? – спрашивала она меня.
– Пока нет, – отвечал я.
– А это что?
Она приподнимала палкой дубовый лист, под которым сидел боровик.
– Пишете? – продолжала допрос с пристрастием баба Катя.
– Стараюсь, – чесал я затылок.
– Пока можете держать в пальцах ручку, пишите.
Она медленно удалялась по просеке, изо всех сил стараясь держать прямо спину.
Один за другим покинули нас непримиримые соперники Константинов и Цыбин. Каждый из них командовал подразделением молодых поэтов, приблизительно равным по составу, поэтому победить в сражении не мог ни тот ни другой. Я с уважением относился к обоим мэтрам и от души радовался, что у них боевая ничья.
Любимцем Константинова был Коля Дмитриев.
– Пьет много, – сказал я как-то Старшине.
– А не пил бы, может, и не писал, – заступился за воспитанника Константинов. – Худшие из поэтов как раз те, которые никогда не пили.
Спорить с этим было трудно. Из большого числа поэтов, которых я встречал в редакциях, издательствах, на пленумах и собраниях, пьющие были далеко не худшими.
На место убывших писателей во Внуково заселялись их младшие товарищи: Юрий Кузнецов, Валентин Устинов, Владимир Карпов, Евгений Нефедов, Светлана Селиванова.
– Здорово, мужичок с ноготок! – окликнул меня как-то Кузнецов.
– Привет, памятник.
– Ну и как тут у вас? – обозрел окрестности Поликарпыч.
– Буфет закрыли, – вздохнул я. – А так все нормально.
– Строишься?
– Помаленьку.
– Я пока погожу.
Кузнецов, как и подобает памятнику, величественно направился в сторону станции.
Я действительно затеял строительство. Точнее, меня в него втянул сосед снизу Юрий Васильев, который вселился вместо Стекловского.
– У тебя деньги есть? – при первой же встрече спросил меня Юрий.
– Нет, – сказал я.
– Тогда начинаем стройку.
– Какую стройку? – оторопел я.
– А вон фундамент, – кивнул Васильев. – Раз есть фундамент, будет и пристройка.
Бобенко против этой стройки не возражал.
– Если делать нечего – стройтесь, – сказал он, подписывая заявление. – Все, что вы построите, по договору будет принадлежать Литфонду.
– Места мало, – попытался я оправдаться. – Там ведь комнатки маленькие.
– А зачем вам большие? – хмыкнул Бобенко. – Откуда, кстати, деньги? Издаешься много?
– Нет денег, – крякнул я.
– Тогда только строиться, – побарабанил пальцами по столу Бобенко. – Когда у государства нет денег, оно тоже начинает все подряд ломать.
Спокойная жизнь у меня закончилась. Я разгружал машины с кирпичом и листовым железом, вывозил на тачке мусор, ездил по строительным рынкам за вагонкой.
– Ничего, – подбадривал меня Васильев. – Я подгоню казаков из станицы, они нам отопление проведут.
Юрий Петрович в прошлом был начальником геолого-разведывательной партии в Якутии, и для него стройка была родной стихией. Точнее, бардак, царящий на стройке.
– Как-то мы тянули дорогу на прииск, – вспоминал он. – Все идет по плану: валим лес, ровняем, насыпаем. И вдруг речка. Как через нее переправиться?
– Построить мост, – пожал я плечами.
– Так у меня одних бульдозеров штук десять! – захохотал Юрий Петрович. – Засыпали речку и пошли дальше.
Мне подобные методы строительства не нравились.
– Вот потому у нас и разруха, – сказал я.
– Зато без денег, – похлопал он меня по плечу. – Знаешь, какие самые лучшие женщины?
– Француженки, – предположил я.
– Якутки! До сих пор снятся.
– А что там такого особенного? Разрез не вдоль, а поперек?
– Разрез у всех одинаковый, – сладко зажмурился Юрий Петрович. – Не ты ее гладишь, а она тебя. Облизывает, и в буквальном смысле слова. Все для тебя сделает.
Я якуток видел только по телевизору, поэтому промолчал.
– А знаешь, какие у меня были самые лучшие минуты в жизни?
– В чуме с якуткой, – усмехнулся я.
– С оленем.
Юрий Петрович подтянул штаны. Они у него всегда сползали, даже те, что с ремнем.
– Пошел я однажды со своим замом на охоту…
Рассказывая, Юрий Петрович всегда что-то делал. Сейчас он выгружал из «газели» книги, и я, чтобы ничего не пропустить, вынужден был сновать за ним, как нитка за иголкой.
– Взяли с собой пять литров спирта…
– Зачем так много? – перебил я его.
– А вдруг заблудимся? Взяли, значит, спирт, спальники и пошли. И возле речки завалили оленя.
– Дикого? – снова перебил я его.
– Там этих оленей!.. – махнул рукой Юрий Петрович. – И вот мы развели костер, легли рядом с оленем. И пока не выпили весь спирт и не съели оленя, не встали.
– Это сколько ж вы лежали? – поразился я.
– Дня три. А может, пять. Там ведь дни не считаешь.
– Почему?
– Вечная мерзлота, – посмотрел сквозь меня Васильев. – Какой-нибудь чукча проезжает, мы и его угостим.
– Якуток не было?
– Там они не нужны. Спирт, олень и закат. Или восход. Вечная жизнь в вечной мерзлоте!
«Настоящий сказочник, – посмотрел я в спину Юрию Петровичу. – Ни разу не сбился».
– А якутки там проезжали, – остановился Васильев. – Одна совсем старая. Села рядом, выпила, закурила. «Знаешь, – спрашивает, – почему нас медведь не трогает?» – «Почему?» – «Он подошел, я села и малицу на голову задрала. Медведь нюх-нюх. «Ф-фу!» – говорит и ушел».
Юрий Петрович расхохотался. Я тоже засмеялся.
– Они ведь не моются никогда, – сквозь смех объяснил Васильев. – Даже медведя заколдобило.
Параллельно с пристройкой рос и Егорка. Однажды он приехал во Внуково, набрал кучку камней и стал пулять во всех, кто проходил мимо.
– У тебя совесть есть? – пристыдил я его.
– У детей совести не бывает! – заявил Егор.
– А если ремнем по попе?
– Я пожалуюсь в трибунал по правам человека, – нахмурил бровки ребенок, – и тебя посадят в тюрьму!
Со сдвинутыми бровками он был очень похож на свою маму.
– За что? – удивился я.
– За то, что ты меня ударил.
Я понял, что парень пойдет далеко. Впрочем, в этом никто и не сомневался. В детском саду на утренниках и прочих праздниках Егор исполнял роли ученых котов и других начальников. Причем учить эти роли ему было не надо, он запоминал все с листа.
Часть третья Писатели и издатели
1
Штат издательства «Современный литератор» сокращался, как шагреневая кожа, и тем не менее хорошие книги в нем выходили.
Однажды на производственном совещании я увидел незнакомого человека. Большие залысины и умные глаза выдавали в нем ученого.
– Знакомьтесь, – представил его Вепсов, – главный специалист по рукописям в стране.
Это был заведующий отделом рукописей Ленинской библиотеки Виктор Иванович Лосев.
– Будем издавать дневник и письма Булгакова, – сказал директор. – Что скажете?
– После дневников Корнея Чуковского это может стать брендом нашего издательства, – сказал я.
Словечко только-только появилось в печати, и мне захотелось им щегольнуть.
– Вот и будешь редактором, – хмыкнул Вепсов.
Новояз он не любил. Я это знал, но ради красного словца, как говорится, в любой кузов полезешь.
– Сработаемся, – улыбнулся Лосев, вручая мне объемистую рукопись. – Здесь все вылизано.
В рукописи действительно почти не было опечаток, не говоря уж об ошибках, но проблема была отнюдь не в том.
– Наследники, – вздохнул Виктор Иванович, готовя меня и себя к грядущим неприятностям.
– Сколько их? – спросил я.
– Один Кисловский, но этого достаточно.
– Рвач?
– Не в этом дело. У Булгакова были две родные сестры, но в наследниках числится чужой человек.
– Как это?
– Внук последней жены Булгакова. У нее детей с Михаилом Афанасьевичем не было, но наследство оформлено на Кисловских. Все по закону.
– И что будем делать?
– Договариваться.
Теперь и я задумался. Несмотря на то что я был сыном бухгалтера, финансы никогда не были моей сильной стороной. Тем более в вопросах авторского права.
Договариваться с наследником Вепсов, конечно, отправил меня. Вернее, это был дуэт в лице Лосева и главного редактора.
– На бедность нажимай, – напутствовал меня директор. – Откуда, мол, у нас деньги? Коммерцией сейчас только бандиты занимаются.
Кисловский принял нас в своем офисе. Сторонних людей при разговоре не было: Кисловский, Лосев и я.
– Нет денег? – иронично вскинул брови наследник. – Тогда не надо издавать.
«А отчего ему не играть бровями? – подумал я. – Молод, уверен в себе. Хозяин!»
– Это, возможно, последняя моя книга, – пришел мне на помощь Лосев, – и я хочу, чтобы она вышла в «Современном литераторе». Даст Бог, к моменту выхода он снова станет советским.
– Что ж, – снова поиграл бровями Кисловский, но уже без прежнего молодечества, – вам я пойду навстречу. Моя сумма…
Цифра была больше той, на которую рассчитывал Вепсов, но меньше, чем она могла быть.
– Согласны, – неожиданно для себя сказал я. – Я, конечно, не уполномочен делать подобные заявления, но думаю, директор возражать не станет.
Я посмотрел на Лосева. Тот опустил глаза.
Что ж, никто ни на что не уполномочен. А дневники издать надо.
– Сколько?! – скривился Вепсов, услышав запрашиваемую сумму. – Да мы по миру пойдем, если будем платить каждому!..
– Он не каждый, – негромко сказал Лосев.
– Хуже, чем каждый! – не переставал кипятиться директор. – А ты что молчал?
Я пожал плечами.
– Мы не молчали, – встал, загораживая меня, Лосев. – В сложившихся обстоятельствах это единственно приемлемый вариант.
Псевдонаучные слова сделали свое дело. Директор сдался.
Во время работы над дневниками и письмами Михаила Булгакова я понял, отчего Маргарита с такой яростью лупила по окнам писательского дома в Лаврушке. Имена Исая Лежнёва и Захара Каганского должны были быть обнародованы.
Но особое умиление вызывали вот такие заявления Булгакова:
«Председателю Совета народных комиссаров литератора Михаила Афанасьевича Булгакова заявление. 7 мая с.г. представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер № 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответствующим занесением в протокол следующие мои, имеющие для меня громадную интимную ценность рукописи: повесть «Собачье сердце» в 2-х экземплярах и «Мой дневник» (3 тетради). Убедительно прошу о возвращении мне их.
Михаил Булгаков.
Адрес: Малый Левшинский, д. 4, кв. 1.
24 июня 1926 года».
«Имеющие громадную интимную ценность»… Сейчас так написать никто не мог.
Повесть «Собачье сердце» вскоре писателю была возвращена, а дневник остался в архивах ГПУ. И вот мы его издаем.
Кстати, женой Булгакова тогда была Белозерская, отнюдь не Елена Сергеевна, с потомками которой мы сейчас имели дело.
– Давайте включим в книгу автобиографическую прозу Булгакова, в том числе его устные рассказы, – предложил Лосев, когда рукопись уже была практически готова к печати.
Я не стал распространяться, что автобиографическая проза – наиболее чтимый мной жанр. Может быть, она меня и спасла, когда я после университета работал учителем в сельской школе. Я набирал в библиотеке книг, сколько мог унести, и читал долгими зимними вечерами. Автобиографическая проза отчего-то согревала лучше, чем любая другая.
Ну а устные рассказы – это черные жемчужины в ряду обычных. Булгаков рассказывал их только самым близким людям.
«Пишу, пишу пьесы, говорил он Сталину, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят…
Сталин. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.
Звонит по телефону.
Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише). Понимаешь, умер, когда сказали ему.
Миша тяжко вздыхает.
Ну, подожди, подожди, не вздыхай.
Звонит опять.
Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Михаила Булгакова пьеса… Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса… Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?)
Булгаков. Господи! Да хыть бы годика через три!
Сталин. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить… месяца через три… Что? Через три недели? Ну, что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?)
Булгаков. Тхх… да мне бы… ну хыть бы рубликов пятьсот!
Сталин. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо уплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну, что ж, платите, платите! (Мише.) Ну, вот видишь, а ты говорил…»
Булгаков эту историю рассказывал, во-первых, с сильным грузинским акцентом, когда имитировал Сталина, а во-вторых, в ней ничего нельзя было ни убавить, ни прибавить.
Я представлял, как хохотали слушатели. Но и на бумаге эти рассказы хороши, я в этом не сомневался.
Дневник и письма Булгакова вышли. По этому случаю в комнатке за сценой был накрыт стол.
– Ну, поздравляю! – поднял рюмку Вепсов. – Хлебнули мы с этой книгой, но она того стоит. За вас, Виктор Иванович!
«Чего ты такого хлебнул? – посмотрел я на свою рюмку. – На бумагу и полиграфию деньги дал Госкомиздат. С нас только гонорар наследнику. Лосеву крохи достались. О себе я вообще молчу. Хлебать у нас один директор умеет».
Лосев отсалютовал мне рюмкой и сделал вид, что пьет. Я глотнул не чинясь.
– А что это у вас рюмка полная? – сдвинул брови Вепсов. Он не любил, когда его тостами пренебрегали.
– Завтра к докторам на обследование, – вздохнул Лосев.
Только сейчас я увидел, что у него потухший взгляд.
– Тогда ты пей, – наполнил мою рюмку директор. – Не каждый день Булгакова издаем.
Я знал, что в издательстве полным ходом шла работа над романом Вепсова «Рок». Как и «Дусина гарь», этот роман до сих пор нигде не издавался.
«Для того и становятся директорами, чтобы издавать полное собрание собственных сочинений», – подумал я.
Впрочем, у меня тоже готовилась к печати книжица рассказов. Она была чем-то вроде молока, которое выдавалось на производстве за вредность.
Как-то Лосев зашел ко мне без звонка.
– Вот, – положил он на стол толстую папку, – неизданный Куприн. Я собрал рассказы и очерки Куприна в то время, когда он издавал газету в армии Юденича.
– Боюсь, Куприн у законодателей нынешней литературной моды не в чести, – хмыкнул я. – Они его не любят точно так же, как и большевистские комиссары.
– В любом случае пусть будет у вас, – придвинул папку ко мне Лосев. – Я завтра ложусь в больницу.
Я открыл рот, чтобы спросить о болезни, и слова застряли в горле. Я снова увидел пустые глаза Виктора Ивановича.
«Плохо дело», – подумал я.
Лосев резко повернулся и вышел из кабинета.
Я подготовил заявку в Госкомиздат, но, как и следовало ожидать, она не была удовлетворена.
«Не пришло еще время Куприна, – подумал я. – Во-первых, сейчас у власти те же комиссары, что и в семнадцатом, а во-вторых, иной писатель стал властителем дум. Сорокины да Пелевины правят бал, еще дамочки-детективистки. Подлое время…»
Впрочем, время было не подлее предыдущего. И неизвестно, каким будет последующее.
Я убрал рукопись Куприна в дальний угол книжного шкафа.
2
После долгих мытарств вышла книга о Мытищах, и Поронин пригласил писателей отметить это событие у себя дома.
– Новую квартиру получил, – сказал он мне по телефону. – Совместим новоселье с презентацией.
– Хорошее дело, – сказал я. – Кого позовете?
– Прежде всего директора и вас, – стал перечислять Поронин, – Бочкарева, Просвирина, Птичкина, Викторова… Цвет русской литературы!
«Бочкарева жена вряд ли отпустит, – подумал я, – а остальные вполне могут приехать. Поронин хлебосольный хозяин».
Я вспомнил, как Поронин принимал меня в банке. Его назначили управляющим крупнейшего в Мытищах коммерческого банка, и Михаил Викторович решил показать, как живут нынешние банкиры.
Здание из современных темно-синих пластиковых панелей возвышалось в самом центре города. Охранник у шлагбаума покосился на обшарпанную издательскую «волгу», но все же пропустил нас на стоянку. Мы встали между «мерседесом» и «ауди».
«Как изменчив мир! – огляделся я по сторонам. – Еще вчера Поронин тоже на «Волге» ездил».
Я поднялся на лифте на предпоследний этаж. В просторной приемной никого, кроме секретарши, разговаривающей по телефону, не было.
– Чай? Кофе? – положила она трубку.
– Водку! – рявкнул Поронин, появившийся неизвестно откуда. – Проходите в кабинет.
Книжные шкафы в стене бесшумно разъехались, и я увидел второе помещение. Стол в нем был заставлен бутылками и закусками.
– Вот это я понимаю! – сказал я.
Михаил Викторович засиял, как начищенный медный чайник. Истинный артист, он любил внешние эффекты.
Мы сели за стол. Как ни странно, финская водка, налитая в изящные рюмки, пилась хуже, чем из граненых стопок в столовой какого-то ПТУ. К трем часам у учащихся в нем уже заканчивался обед, и мы устраивались в уголке за фикусами. Обычно там подавали борщ и котлеты, и лучше закуски в России нет. И не будет.
В банке мы закусывали канапе и роллами, а также суши.
«Нет, долго здесь Михаил Викторович не протянет, – подумал я. – Формат не тот».
И оказался прав. Через полтора месяца мы снова обедали в столовой.
Но тем не менее свою задачу в банке Михаил Викторович выполнил. Просто так квартиры в элитных домах у нас не дают. А дом был элитный. Об этом говорили пандусы для подъезда, охраняемая подземная парковка, кирпичные стены здания. Это вам не панели, пусть и темно-синие.
На скоростном лифте мы поднялись на девятый этаж.
– Вот здесь у меня гостиная, – суетился Поронин, – это кабинет, там спальня. Сантехника итальянская. В зимний сад не хотите? Потом покажу.
Стол был накрыт на кухне, что тоже говорило о многом. В маленькой кухне цвет русской литературы не посадишь.
– Сколько, говорите, у вас метров? – спросил Просвирин.
Он сел в кресло и далеко вытянул длинные ноги.
– Сто пять! – гордо сказал Поронин.
– Маловата квартирка, – хмыкнул Петр Кузьмич.
Я удивленно посмотрел на него. Остряки среди крупных людей попадались мне редко. А Просвирин был крупный во всех смыслах: рост два метра, вес далеко за сто. При такой комплекции не до шуточек.
– А у вас сколько метров? – упавшим голосом спросил Поронин.
– Сто пятьдесят.
Из Поронина словно выпустили воздух. Стерлись веснушки с лица. Поблекла рыжина волос. Уменьшилось чрево. Он беспомощно посмотрел на меня.
– На двоих и ста пяти метров хватит, – сказал я.
Но Просвирин был безжалостен.
– Нас тоже двое, – сказал он.
Я проглотил смешок. Птичкин расхохотался. Вепсов сделал вид, что не знает русского языка.
– Может, уже пора за стол? – поднялся с кресла Просвирин.
В эту минуту он был похож на монумент.
«Везет же некоторым, – с завистью подумал я. – Мало того, что рост два метра, так еще и любимец миллионов. Герой труда опять же».
– А в войну служил в полиции, – сказал мне на ухо Вепсов.
– Как?! – опешил я.
– Обыкновенно, – пожал тот плечами. – Дали в руки винтовку, он и пошел в войну играть. Шестнадцать лет было пареньку.
– А когда наши пришли?
– Уехал на Дальний Восток. В деревне его не выдали, но слушок прошел.
– С русскими писателями не соскучишься, – покачал я головой.
– Это с лучшими, – поднял указательный палец Вепсов, он у него был короче, чем у других. – У бездарей все не так.
С этим трудно было не согласиться.
– Проходите, – вышла из кухни жена Поронина. – Руки можно помыть в ванной.
В ванную по очереди прошествовали Просвирин, Викторов, Птичкин. Замыкали процессию Вепсов и я.
«До цвета никак не дотягиваем, – посмотрел я на себя в зеркало. – Вепсов туда рвется, но кто ж его пустит? Даже Бочкарев становится косноязычным, когда говорит о его романах. А Вепсов Классику и гонорар, и машину, когда надо выехать с дачи. Сволочной народ писатели. Но такими они были всегда. А Поронину наука. Знай, с кем имеешь дело».
– Надо выходить в люди, – сказал Вепсов, когда я сел рядом с ним. – Пора на книжную ярмарку ехать.
– Во Франкфурт? – спросил я, накладывая на тарелку салат оливье.
– У кого острить учишься? – потянулся за рыбкой Вепсов.