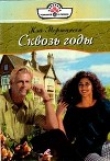Текст книги "Мерцание золота"
Автор книги: Александр Кожедуб
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Евгений Иванович снова начал героически сражаться с текстом на своих бумажках. Что-то, наверное, он знал по памяти, однако не цифры ежедневных надоев. И не центнеры собранного картофеля.
Товарищ из райкома, сидевший в президиуме, поднялся и постучал пишущей ручкой по графину с водой.
– В связи с непредвиденными обстоятельствами встреча с народным депутатом отменяется, – сказал он. – Вернее, переносится. О чем будет объявлено дополнительно.
В зале с воодушевлением зааплодировали. Это был настоящий подарок небес для жителей Островца.
Я двинулся к Максиму Танку, который с нескрываемым облегчением собирал в стопочку бумажки.
– Евгений Иванович, у нас только один выход – записать выступление в студии, – сказал я.
– А вы кто? – покосился на меня народный поэт.
– Вообще-то прозаик, но здесь редактор телевидения, – повесил я голову.
– Это ваши тут все повзрывали?
– Мои…
– У меня такого даже при белополяках не было, – оглянулся на товарища в президиуме Танк. – Начальство небось по головке не погладит?
– Выговор обеспечен, – согласился я.
– Ничего, я позвоню Геннадию. Когда, говорите, запись?
– Как только согласуем время, я сообщу.
Голос у меня дрогнул. Звонок Максима Танка председателю Комитета по телевидению и радиовещанию Геннадию Буравкину меня спасал.
– Если хотите, садитесь ко мне в машину, и поедем, – решил быть добрым волшебником до конца Танк.
– Спасибо, но я уж со своими архаровцами…
Мы пожали друг другу руки.
На сцене Танечка сматывала шнур микрофона. Осветители с ошалелыми лицами разглядывали взорвавшиеся приборы. Кинооператор наблюдал за ними через объектив камеры.
Вторая половина семидесятых медленно окутывалась завесой времени.
В начале же девяностых все происходило гораздо стремительнее.
Часть вторая Масоны и медальеры
1
– Ты в Ленинграде давно был? – как-то подошел ко мне во Внукове Иванченко.
– Никогда, – сказал я.
– Да ну?! – поразился Вячеслав Иванович. – Придется съездить.
– Зачем?
Я на шаг отодвинулся от него. Что-то мне подсказывало, что поездка в колыбель революции мне предлагается неспроста.
– А ты в Ревизионной комиссии, – сказал Иванченко. – У них в Ленинграде полный бардак.
«Всюду бардак, – подумал я. – Я здесь при чем?»
– Ситуация очень сложная, – нахмурил брови Вячеслав Иванович. – Ленинградская организация на грани раскола. На пятнадцатое назначено общее собрание. Представителями от Союза писателей поедете ты и Саша Возняков. Случайных людей мы послать не можем.
Он замолчал, предлагая мне проникнуться ответственностью момента.
Я проникся.
– Жить будете в гостинице «Октябрьская», это рядом с вокзалом. Что, ты и вправду никогда не был в Питере?
– После окончания Высших литературных курсов наши ездили туда на неделю. А у меня путевка в Пицунду.
– Понятно, – сказал Иванченко. – Я там на линкоре «Октябрьская революция» служил. Все подворотни на Петроградской стороне знал.
Он не уточнил, почему именно на Петроградской стороне, но я и так догадывался, в чем дело. Иванченко в молодости был «ходок» – только официальных жен три. Да и пил, говорят, крепко. А линкор, как мне представляется, был хорошим укрытием для «ходоков».
– Мои подворотни в Минске, – сказал я.
Мы засмеялись, но как-то невесело.
– В этот раз обойдемся без подворотен, – посерьезнел Иванченко. – Встретитесь с руководством, послушаете, что они скажут. Ленинград сложный город. Одни Зощенко с Ахматовой чего стоят.
– А Гумилёв? – сказал я.
– Того вообще расстреляли, – согласился Иванченко. – Есенин специально поехал туда вешаться, в Москве не захотел. Короче, сам все увидишь.
Я подумал, что повеситься можно где угодно, но спорить не стал. Действительно, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
Русскому человеку не побывать в Питере – это что в церковь не сходить.
И мы с Возняковым поехали в Питер.
Александр всю ночь в поезде кашлял, кутаясь в шарф. Выглядел он плохо.
– Надо было дома оставаться, – сказал я. – Подумаешь, раскол в организации.
– Ничего, – улыбнулся Возняков, – до завтра оклемаюсь.
Мы с ним встречались в Коктебеле. Александр играл в теннис, в то время как остальные писатели валялись на пляже. Теннисисты тогда были настоящей элитой в писательском сообществе. Они даже в столовую ходили с ракетками. Я подозревал, что некоторые из них ракетки держат исключительно для столовой, но доказательств у меня не было. Я не играл в теннис.
– На корте простудился? – спросил я Александра уже на вокзале.
– Сейчас не до тенниса, – вздохнул тот. – Сам видишь, что за времена наступили.
«Октябрьская» была старая гостиница в прямом смысле слова. Паркет в коридорах скрипел сильнее, чем в ялтинском Доме творчества. Мебель в номерах дышала на ладан. Буфетное меню было таким же скудным, как и в первые годы советской власти. Впрочем, тогда оно вполне могло быть богаче, ведь недобитые буржуи, коими и считались писатели, большевистские буфеты сравнивали с царскими. Даже я понимал, что это сравнение некорректно.
Первым, кого я встретил в гостинице, был публицист Ярослав Голованов. Он нес к себе в номер стакан кипятка.
«Если уж этот кипятком питается, что говорить об остальных?» – подумал я.
У меня в сумке лежала бутылка водки, но я в этом пока никому не признавался. К концу командировки станет ясно, с кем ее пить и нужно ли вообще это делать.
В Союзе писателей на Воинова нас принял председатель организации Владимир Арро. Я смотрел спектакль по его пьесе «Смотрите, кто пришел». Он мне понравился, но говорить об этом сейчас было не с руки. И сам Арро, и два его заместителя, и даже интересная дама, присланная из райкома партии оргсекретарем, сильно нервничали. Похоже, завтрашнее собрание было для всех большой неприятностью.
– Организация со старейшими традициями, – сказал, покашливая, Возняков. – Как ни относись к Тихонову с Прокофьевым, они большие поэты.
– А нобелевским лауреатом стал Бродский! – расхохотался Валерий Петров, один из замов.
– Тоже ваш, – хмыкнул Возняков.
– Да мы еще вчера с ним неделимых женщин делили, – скривился Петров.
Я понял, что лауреатство Бродскому в Ленинграде простили далеко не все.
– Идите лучше пообедайте, – посмотрел на Петрова Арро. – У нас в Доме хорошая кухня.
– Не хуже, чем у нас? – встрепенулся я.
– Нет, – хором сказали Арро и Петров.
Мы прошли в ресторан. Я с любопытством озирался по сторонам. Дворец Шереметева был совсем не похож на особняк Олсуфьева в Москве, и в то же время в них было что-то общее.
Один из посетителей ресторана шатался от стола к столу с явным намерением устроить скандал.
– Наш поэт, – сказал Петров. – Талантливый парень, но пьет.
– Не пьют одни бездари, – согласился Возняков.
– Позавчера в ЦДЛ подрались Уткин с Василевским, – сказал я.
– И у нас дерутся, – кивнул Петров. – Может, перестанем, если по разным организациям разойдемся?
– Это вряд ли, – почесал я затылок. – Хотя чаще всего дерутся друзья, а не враги.
Петров с Возняковым вынуждены были со мной согласиться.
Я продолжал смотреть по сторонам. На днях об особняке Олсуфьева мы говорили с парторгом московской писательской организации Иваном Ивановичем Козловым. Он был сопровождающим лицом дочки Олсуфьева, приезжавшей в Москву то ли из Берлина, то ли из Лондона.
– Ну и как, узнала особняк? – спросил я.
– Конечно, узнала, – сказал Козлов. – Говорит, вон там, на втором этаже, наша детская была. Им с сестрой иногда разрешали смотреть с антресолей на танцующих внизу гостей.
– Где была детская? – заинтересовался я.
– На антресолях в Дубовом зале. До сих пор считалось, что там проходили заседания масонской ложи. А на самом деле это детские комнаты. Их с сестрой перед сном выводили посмотреть на танцующих.
– В строгости воспитывали, – позавидовал я. – Значит, у нас в доме не было никаких масонов?
– Нет, только на балах гуляли, – сдвинул мохнатые брови Козлов. – Ну и догулялись. Но самое интересное не в этом. Бабуля про императора Александра III рассказала.
– Он тоже сюда захаживал?
– Да они с Олсуфьевым были ближайшие друзья! – Иван Иванович оглянулся по сторонам и понизил голос. – Гардеробную внизу знаешь?
– Конечно, – сказал я.
– Тогда это была каминная комната. Император приезжал, они с графом спускались вниз и запирались в каминной.
– Зачем?
– Пили вдвоем! Никого не впускали – ни гофмейстеров, ни шталмейстеров. Охрану, и ту на улицу выгоняли. Только за водкой в магазин денщиков гоняли.
– Наверное, денщика у государя не было, – подергал я себя за ухо. – Да и не водку пили, а шампанское. Но история занятная.
– Еще бы, – сказал Козлов. – Шампанского у меня нет, а водки выпьем. Закрой дверь.
Я безропотно повиновался. Традиции надо чтить, пусть они и восходят к Романовым.
– А в вашем дворце император бывал? – спросил я Петрова в ресторане шереметевского дворца.
– Наверное, – пожал тот плечами. – Кто только здесь не бывал.
– Странно, что ваш дом имени Маяковского, а не Блока или хотя бы Ахматовой.
– Так ведь в тридцатые годы давали имя.
Да, в тридцатые годы даже Пушкин не мог сравниться с Маяковским, не говоря уж о Блоке с Ахматовой.
– Предприниматели среди ваших писателей появились? – еще раз посмотрел я по сторонам.
– Я таковых не знаю, – сказал Петров.
– А у нас есть, – похвастался я. – Медальеры.
– Кто-кто?! – уставился на меня Петров.
– Медали из драгоценных металлов делают. Например, Белугин.
– Не знаю Белугина ни писателя, ни медальера, – сказал Петров. – Наши любят куда-нибудь за границу смыться. В крайнем случае выпить водки.
– Это все любят, – согласился я. – Даже масоны.
Масонов я упомянул, конечно, для красного словца.
Мы поужинали и разошлись. Собрание было назначено на завтра.
– Ну и что мы там будем делать? – спросил я Вознякова в гостинице.
– Ничего, – пожал тот плечами. – Послушаем, как они поносят друг друга, и разойдемся, как в море корабли. Ты не на флоте служил?
– Я вообще не служил, – раздраженно сказал я. – Офицер запаса после военной кафедры в университете. А ты небось подполковник?
– Полковник, – сказал Возняков, лег на кровать и укрылся одеялом с головой.
«Все они тут полковники, а я всего лишь старлей, – подумал я. – Какой с меня спрос?»
С этой сомнительной мыслью я лег в кровать и уснул.
На следующий день мы с Александром вошли в зал ровно в шестнадцать часов. Зал был полон. Председательствующий представил нас. Никто не захлопал.
– В президиум пойдем? – спросил Возняков.
– Лучше вот здесь, с краю, – сказал я.
Уже после первых выступлений стало ясно: подавляющее большинство в зале состоит из либералов. Так называемых патриотов здесь раз, два и обчелся, но сдаваться тем не менее они не собирались. На трибуну взошел писатель по фамилии Кутузов, и ядра в зале засвистели не хуже, чем при Бородине.
– Где здесь батарея Раевского? – наклонился я к уху Вознякова.
– Да это «Аврора» пальнула, – усмехнулся он. – Сейчас пойдем Зимний брать.
Но силы были явно неравны. Кучка патриотов едва сдерживала натиск превосходящих сил противника.
– Откуда здесь столько либералов? – спросил я Александра.
– Так это же Питер, – сказал Возняков. – Сначала революция, потом контрреволюция. Сегодня их день.
Собрание закончилось. Кутузов со товарищи пригласил нас в гости к Горбушину.
– У Глеба жена на дачу уехала, – сказал он. – Спокойно посидим, покумекаем.
Квартира Глеба Горбушина поражала не только своими размерами, но и полным отсутствием провианта.
– Зато выпивки много, – сказал Горбушин, вытаскивая из-под кровати ящик водки. – Не пропадем.
Мы с Возняковым переглянулись. В особняке Шереметева к представителям центра отношение было гуманнее.
– Может, сходить за хлебом? – предложил я.
– Да у нас закуски навалом! – сказал Горбушин.
Он достал из холодильника два помидора и плавленый сырок.
– Не в закуске дело, – вздохнул Кутузов. – Нужно, во-первых, отсудить половину Дома писателей, а во-вторых, хоть что-то оттяпать в Комарове. Народу у нас маловато.
– А мы область подтянем, – прогудел Горбушин, наливая в стаканы водку. – Главное, отделиться от исторических врагов. И в страшном сне не могло присниться, что Ленинград окажется в руках демократической сволочи.
– В чьих только руках он не был, – сказал Возняков. – Здесь сначала Распутина убили, потом Кирова. Короче, надо возвращать императора.
Он подтрунивал, и совершенно напрасно. У ленинградских писателей-патриотов положение на самом деле было аховое.
Но человек предполагает, а Господь, как говорится, располагает. Очень скоро яблоко раздора ленинградских писателей, которым был особняк Шереметева, исчезло. В Доме случился сильнейший пожар, и победители вкупе с побежденными оказались на улице. В чем-то мне этот факт представлялся символичным. В данный период общественного развития писателей выкинули с корабля современности. И сделали это не демократы с либералами, а некие высшие силы, я в этом был уверен.
Метаморфозы происходили не только во вселенском масштабе, но и в судьбах отдельных людей. В вагоне поезда, которым мы возвращались из Ленинграда в Москву, Возняков встретил одного из своих сослуживцев. Я мирно спал в купе, а Александр всю ночь беседовал со своим товарищем в тамбуре. Через полгода после этой поездки Возняков из перспективного теннисиста в одночасье превратился в банкира. Как мне рассказывали, он занимался финансированием наших войск на Украине. Одни части оттуда выводились, другие оставались на особых условиях, – там было чем заниматься. Как и Белугин, Александр теперь ездил на хорошей машине. При встрече он подавал руку, но было понятно, что в любой момент подобное панибратство может прекратиться. Слишком усталый у него был вид. А когда рядом с ним появился охранник, я и сам перестал его замечать. «Большому кораблю большое плавание, – думал я. – А писателю, появившемуся на свет в пинских болотах, трудно стать любимчиком Венеры или Аполлона, не говоря уж о Зевсе. Пощекочет своей бородой в застолье Бахус – и ладно».
Втайне я, конечно, рассчитывал на внимание какой-нибудь вакханки, которых во все времена полно рядом с Бахусом, но разве это можно считать улыбкой фортуны? Улыбки у Вознякова с Белугиным.
Страна погрузилась в пучину девяностых. Как и абсолютное большинство граждан, я выживал, а не жил, но это меня не пугало. Все-таки мне было чуть за сорок, а в этом возрасте человеку не свойственно впадать в уныние.
2
– Ну и куда мы теперь будем ездить? – спросил меня Иванченко, когда я столкнулся с ним во Внукове.
– А что такое?
– Домов творчества не осталось. Ялта, Коктебель, Пицунда и Дубулты уже заграница.
– Действительно, – почесал я затылок. – В России, кроме «Малеевки», больше ничего нет.
– Переделкино. Но зачем оно, если у нас Внуково?
Это была чистая правда. Домов творчества во всех перечисленных местах было жалко, но меня больше беспокоило Внуково. Оно тоже загибалось, и так же стремительно, как и СССР.
Сначала закрылся буфет, затем отключили котельную, и прошлую зиму наш поселок пережил только благодаря Шиму. Он велел, во-первых, не отключать электронагревательные приборы, а во-вторых, в сильные морозы постоянно сливать воду из бачков в туалете.
– Главное, чтобы не замерзла вода в стояках, – сказал он. – Выживем только в том случае, если сохраним систему отопления.
– Но ведь это не последняя зима, – сказал я. – Какие у нас перспективы?
– Я договорился, чтобы к нашим коттеджам подвели газ.
– Откуда здесь газ?
– Миллионеры тянут к себе на участки трубу. Через наш поселок сделать это гораздо дешевле, чем в обход. Я говорю: прокладывайте через нас, но ответвление к каждому коттеджу. Они согласны.
– А что Литфонд? – спросил я.
Это был ключевой вопрос. Судьба писательского поселка была полностью в руках руководства Литфонда.
– Бобенко хочет нас продать.
– Как продать? – поразился я.
– Целиком, – пожал плечами Шим. – Размораживается отопление, мы отсюда выезжаем, и он втихаря продает поселок какому-нибудь «Лукойлу». Сейчас все так делают.
Это было похоже на правду. Общественную собственность сейчас не продавал только ленивый. А Бобенко на ленивого похож не был.
В писательское сообщество он попал по разнарядке. Бобенко работал инструктором райкома партии. Однажды его вызвало начальство и велело отправляться на службу в Московское отделение Союза писателей.
– Какой из меня писатель? – стал отнекиваться Виктор Иванович. – Я и книг-то не читал.
– А вам и не надо читать, – сказало начальство. – В школе небось Толстого проходили?
– Проходил, – потупил глаза Бобенко.
– Этого достаточно. В Союзе писателей будете распределять квартиры, машины и прочее по мелочам. А главное – выдерживать линию партии.
– Может, меня все же к артистам? – в последний раз попытался отказаться Бобенко. – Я петь люблю.
– С писателями тоже кому-то работать надо, – одернуло его начальство.
И Виктор Иванович пошел на постылую службу. Очень скоро он стал писателей не только презирать, но и ненавидеть. Народ был пустой и вздорный, каждый старался урвать себе кусок побольше, а некоторые и вовсе оказались хамами. Изредка в застолье Виктор Иванович затягивал украинскую песню, но все это были тоскливые причитания. «Ой ты, доля, моя доля, доля несчастливая…»
В первые годы ельцинского правления Виктор Иванович успел продать изрядную часть литфондовского имущества, но с поселком во Внукове случилась промашка. Бобенко поехал на охоту с товарищами, и на каком-то там километре Минского шоссе «Волга» с пятью пассажирами лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Не выжил никто.
Таким образом, на какое-то время Внуково осталось без присмотра. Тут же был организован Совет арендаторов, который возглавил, конечно, Шим. Мне в нем предложили пост казначея.
– Но я ведь не бухгалтер, – запротестовал я. – Я сын бухгалтера!
– А кого ставить? – спросил меня Иванченко. – У Файзилова, например, отец владел кирпичным заводом. Ты считаешь, он будет лучше казначей, чем ты?
Я стал собирать деньги на ремонт рушащегося хозяйства. Некоторые писатели, глядя на все это, стали сдавать квартиры. А Стекловского, жившего под нами, выселили в принудительном порядке.
– Может, и нам уехать? – спросил я жену.
– Успеем, – сказала Алена. – Стекловского выселили за многолетнюю неуплату, а у нас Егор.
У Егора во Внукове было полно друзей из писательских внуков, и мысль о выселении я выбросил из головы. Вид детей, гоняющих по поселку с листьями лопухов на головах вместо панам, настраивал на оптимистический лад.
Из тех, кто уехал из Внукова, больше других мне было жалко Файзиловых. Но им дали дачу как раз в Переделкине.
– Ближе к небожителям? – спросил я Татьяну Михайловну при расставании.
– Там квартира и участок больше, – сказала она. – Обустроимся, приезжайте в гости.
– Обязательно, – кивнул я. – А вы к нам по грибы.
Однажды при въезде в поселок меня встретил Георгиев. Он стоял в воротах, широко раскинув руки.
– Сторожем нанялся? – выглянул я из машины.
– Посторонним въезд запрещен! – строго сказал Жора. – Частная собственность, охраняемая законом!
По его глазам я понял, что он меня не узнает.
– По грибы сегодня ходил? – спросил я.
– Какие грибы? – растерялся Жора. – Грибы в лесу.
Он отступил в сторону, давая мне проехать.
– Что с Жорой? – спросил я Иванченко.
– С головой что-то, – сказал Вячеслав Иванович. – Я Лене говорю, чтобы она отправила мужа на обследование, а она не хочет. В больнице, мол, и здорового уморят. Он уже давно заговаривается, своих не узнаёт.
– Голова у писателя самое слабое место, – согласился я.
– У кого голова, у кого сердце, – вздохнул Вячеслав Иванович.
Через какое-то время Георгиева увезла «скорая», и из больницы он уже не вышел.
– Слишком близко к сердцу принял происходящее в стране, – сказал мне Иванченко.
– Переживал, что Союз развалился?
– Наоборот, очень уж радовался. Поддерживал подписантов, которые требовали раздавить гадину. Жора всегда был демократом.
– Они вроде от переживаний не умирают, – сказал я.
– А твой Адамович?
Действительно, Алесь Адамович умер прямо на заседании суда, когда рассматривалось дело о разделении собственности Союза писателей СССР.
– Ему стало плохо, – рассказывал Вепсов, – спасать надо, а никого из подельников рядом нет. Разбежались, как тараканы! Пришлось нам с Бочкаревым его таскать.
Несмотря на то что Адамович выступал в суде на стороне врагов, мне его было жалко. Я Александра Михайловича знал еще со студенческих времен.
В начале семидесятых Адамович подписал письмо в защиту Даниэля, его выгнали из Института литературы в Москве, и он уехал в Минск и стал преподавать на филфаке университета. Лично у меня он вел спецкурсы по Толстому и Достоевскому.
Расхаживая по аудитории от стены к стене, Александр Михайлович вводил нас в большую литературу. Чувствовалось, что с нами говорит писатель, а не университетский лектор. К тому же именно в этом году в журнале «Маладосць» вышла его «Хатынская повесть».
– Кто-нибудь из вас читал эту повесть? – спросил на лекции по русской литературе девятнадцатого века профессор Кулешов.
Как раз он был типичным университетским профессором. Сухой, язвительный, даже вредный, Кулешов ненавидел прогульщиков и разгильдяев, которыми на филфаке чаще всего оказывались парни. Девушки, во-первых, были старательнее, а во-вторых, лучше маскировались.
Саня Рисин на экзамен к Кулешову явился с длинным хвостом из прогулов и самодовольной улыбкой на наглой роже.
– Вы где в школе учились? – спросил профессор, беря в руки зачетку.
– В Сочи, – ухмыльнулся Рисин.
– Нашли где учиться! – рассвирепел Кулешов и швырнул в угол зачетку. – Вон отсюда!
«Трояк» Саня получил с пятого или шестого захода, да и то лишь после того, как с Кулешовым на повышенных тонах поговорили в деканате. Отчислять там не любили даже таких, как Рисин.
Так вот, неожиданно для всех Кулешов спросил на лекции, читал ли кто-нибудь «Хатынскую повесть» Адамовича.
– Читали, – сказал я.
– Это новое слово в белорусской литературе, – взглянул на меня Кулешов. – А может быть, и европейской. Очень талантливая вещь.
Кулешов уловил главное: Адамович был истинным первопроходцем, как сказал бы Лев Гумилёв – пассионарием. Вместе с белорусскими писателями Брылём и Колесником Адамович побывал в сожженных немцами деревнях. Втроем они написали книгу «Я из огненной деревни». С ленинградским писателем Даниилом Граниным он выпустил «Блокадную книгу» – такую же страшную, как и предыдущая. Уже на следующий день после чернобыльской аварии Адамович толкался в приемной ЦК партии, пытаясь прорваться к первому секретарю. Он сразу понял масштаб трагедии, обрушившейся на страну.
Мы с Аленой во время аварии были в Гродно. Я давно хотел показать жене этот город. Для меня он был не просто областным центром, а градом Китежем, восставшим из глубины веков. Да, я кончал школу в Новогрудке, летописной столице Великого княжества Литовского. Но что в нем осталось от этого самого княжества? Руины замка, фарный костел да холм, который насыпали в честь Адама Мицкевича. В остальном же это был обычный провинциальный городок с кривыми улицами, вымощенными булыжником, на которых стояли покосившиеся деревянные дома.
В Гродно, раскинувшемся на высоком берегу Немана, кроме замка Стефана Батория, было полно костелов и церквей, а также домов, сохранившихся с девятнадцатого века. Для Белоруссии это была большая редкость.
– Почему? – спросила Алена, когда я ей сказал об этом.
– В войну здесь практически все было уничтожено. Отступали, наступали, и в Минске, например, осталось не больше десятка зданий. А Гродно каким-то чудом уцелел.
Я созвонился с Игорем Жуком, с которым учился в университете, он через своего родственника в облисполкоме заказал нам гостиницу, и мы приехали в Гродно.
– Паспорт, – сказала дежурная в гостинице, оформлявшая документы.
– Я не взяла, – растерянно посмотрела на меня Алена.
– Это же приграничный город! – оскорбилась дежурная.
– У меня есть удостоверение издательства, – принялась рыться в сумочке жена.
– Какое еще удостоверение! – вернула мне мой паспорт дежурная. – Не положено.
Я снова позвонил Игорю. Начались сложные телефонные переговоры. Часа через два дежурная с каменным лицом выдала мне два бланка.
– Заполняйте, – сказала она.
Чувствовалось, ей трудно было даже смотреть на нас, не то что говорить.
– Пришлось подключать обком, – сказал Игорь при встрече. – По-моему, это первый случай, когда человек сюда приехал без паспорта.
Алена даже не повела бровью. Я пожал плечами и ничего не сказал.
На следующий день мы отправились гулять по городу и попали под дождь. Капли этого дождя походили на градины, и одна из них смачно шлепнула меня по плечу.
– Смотри, на рубашке остался след, – показала мне вечером рубашку жена.
– Поляки весь день трубят о радиоактивном облаке, идущем со стороны Союза, – сказала дежурная по этажу. – А вы вправду писатель?
– Писатель, – кивнул я.
– Наш?
– Из Москвы.
– А я с женой Быкова в школе работала, – посмотрела она на меня. – Знаете такого?
– Еще бы! – сказал я.
Я не стал говорить, что Василь Быков был председателем объединения прозаиков, когда меня принимали в Союз писателей.
– После того как он ее бросил, она заболела и умерла, – сказала дежурная. – Сын остался. А Быков со своей новой женой уехал то ли в Минск, то ли к вам в Москву.
– А кто была эта его новая? – спросил я.
– В газете работала, – пожала плечами дежурная. – Писателям все можно.
Я не стал обсуждать с ней эту скользкую тему.
С Быковым я встретился во Франкфурте-на-Майне гораздо позже. Сейчас мне было жалко Адамовича, умершего прямо во время заседания в суде.
3
В издательстве стал часто появляться знаменитый писатель Юрий Владимирович Бочкарев. Вепсов его называл Классиком или просто Ювэ. Они были знакомы еще с тех времен, когда Ювэ работал в Союзе писателей России, а Вепсов служил в «Советской России» завотделом культуры.
Гена Петров из издательства уволился, и поневоле я стал правой рукой директора. Никаких привилегий это положение не давало, кроме одной – мне дозволялось бывать в комнате за сценой, точнее, за директорским столом. Каждый посетитель издательства знал, что именно в этой комнатке решалась судьба книг.
Меня пригласили за стол, накрытый не пышно, но и не бедно: сёмужка, мясцо, картошечка с укропом, ну и, само собой, водочка.
– Кто ваш любимый писатель? – осведомился Ювэ, беря со стола стопочку.
– Бунин, – сказал я.
На самом деле больше других мне нравился Куприн, но для Ювэ надо было назвать Бунина. И я был допущен в круг избранных.
– Ювэ, расскажите, как вы работали с Соболевым, – попросил как-то Вепсов.
– А откуда вы знаете? – поднял одну бровь Ювэ.
– Да уж знаю, – хмыкнул Вепсов. – Над его дворником весь Союз писателей хохотал.
– Что за дворник? – спросил я.
Мне, как самому юному за столом, разрешалось задавать нелепые вопросы.
– Про дворника действительно все знают, – махнул рукой Ювэ, – а вот о том, как я его навещал во время болезни…
– Молодежь не знает, – остановил Классика Вепсов. – Давайте сначала про дворника.
– Дворник как дворник, – пожал плечами Ювэ, – за участком смотрел. Зимой дорожки расчищал, чтобы можно было гулять. Вот он пришел рано утром, глядь…
– Ночью оттепель случилась, – вставил Вепсов.
– Ну да, оттепель, иначе как бы все растаяло? Василий, не перебивайте. Дворник смотрит – из сугроба чекушка водки торчит. Что ж, спасибо, конечно. Дворник выпил чекушку, зажевал снежком. А в следующем сугробе еще одна чекушка. Он и ее выпил. В общем, Леонид Сергеевич выходит утром на крыльцо, а на нем спит пьяный дворник.
Все засмеялись. Не смеялся один я.
– Леонид Сергеевич, гуляя по дорожкам, прятал в них водку, – объяснил Вепсов. – Жена не разрешала ему пить, так ведь, Юрий Владимирович?
– Она не только не разрешала, но и руководила вместо него Союзом, – кивнул Классик. – Очень решительная женщина.
– Но все испортила оттепель, – стал разливать по рюмкам водку директор. – Заначка Соболева вытаяла и досталась дворнику. Он небось думал, что это дар божий.
– Думать, конечно, можно, – сказал Классик, – но если бы не напился, не выгнали бы. Мне, думаешь, просто было выполнить его приказ?
– Досматривала? – хихикнул Вепсов.
– Еще как! Леонид Сергеевич позвонил и попросил приехать в Переделкино. Он уже почти не выходил на службу. «Как хочешь, но принеси», – велел он. А как я принесу? Супруга у него хуже цербера.
– И куда вы засунули фляжку? – спросил Вепсов.
– В трусы, – смутился Классик. – Не станет же она там лапать.
– А если бы стала?
– Тогда между людьми были другие отношения, – строго сказал Классик. – Я достал фляжку с коньяком. «Из чего будем пить?» – спрашиваю. Соболев подошел к окну и выдернул из горшка цветок. «Вот, – говорит, – прекрасная посуда».
Теперь засмеялся и я.
– А ведь Соболев был беспартийный, – заметил Вепсов.
– И даже дворянин, – согласился Классик. – О том, что он застрелился, официально не сообщалось.
– А он застрелился? – удивился я.
– Узнал, что у него рак, и достал из тумбочки именной пистолет.
– У вас пистолет тоже имеется? – спросил Вепсов.
– Вам это знать не обязательно.
Классик встал и медленно выпил свою рюмку до дна. Мы последовали его примеру.
– У меня доктора хорошие, – сказал, не глядя на Вепсова, Классик.
– Я не это имел в виду, – примирительно произнес Вепсов. – Лично я не возражал бы, если бы меня наградили именным оружием.
– От нынешней власти я ничего не приму! – презрительно поморщился Классик.
Совсем недавно Ювэ отказался от ордена, которым его наградил Ельцин. Писатели-патриоты одобрили этот поступок. Демократы, конечно, единодушно его осудили. Интеллигенция была разделена практически поровну. Я понимал, что это большая проблема для страны. Вопрос в том, понимала ли это власть.
– Как ваш роман? – поинтересовался директор, наполняя рюмки.
– Выйдет в следующем номере в журнале «Молодая гвардия». Я уже над новым работаю.
Несколько дней назад о работе Классика над своими романами мне рассказывал Сергей Михалков.
Я сидел в своем кабинете и размышлял, куда идти: домой или в буфет Дома литераторов.
Дверь отворилась, и предо мной предстала величественная фигура Сергея Владимировича Михалкова. Только поэт такого роста и такой осанки мог написать гимн, достойный сначала Союза Советских Социалистических Республик, а затем высвободившейся из-под обломков этого Союза свободной России.
– С-сидишь? – спросил Сергей Владимирович.
– Сижу, – кивнул я.
– З-зашел з-за гонораром, – объяснил свое присутствие здесь Михалков.
– Получили?
– Да.
Михалков сел на стул для посетителей и обозрел убогий антураж моего кабинета.
– Б-бывало и хуже, – вынес он свой вердикт. – Г-где фюрер?
– Куда-то отъехал.
Я выглянул в окно. Машины директора на месте не было.