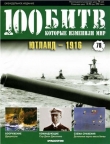Текст книги "Благими намерениями"
Автор книги: Александр Клочков
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– А вы пока что выведены в распоряжение штаба, так что зайдите часа через два, и я точно скажу вашу дальнейшую судьбу и даже предписание вручу.
Озадаченный Владимир пошёл к выходу, задержался у двери.
– Вы не подскажете, где можно ознакомиться с приказом об изменении формы одежды?
Капитан второго ранга, снова уже погрузившийся в чтение документов, не глядя на Владимира, вынул из выдвижного ящика копию приказа, положил на стол, прихлопнул сверху.
– Приятного чтения.
Владимир быстро пробежал по тексту глазами. Помимо погон также отменялось ношение шарфа; вензельное изображение на оружии, кокарду на фуражке следовало перекрасить в красный цвет; далее подробно описывались виды и форма нарукавного галуна для различных чинов и служб флота.
Выйдя на улицу, Владимир решил зайти в какое-нибудь заведение, чтобы перекусить и скоротать время. Спускаясь по узкой мощёной улице, обрамлённой аккуратными деревцами, он остановил свой выбор на небольшой кофейне, вошёл в неё и, присев за ближайший столик, сделал заказ. Через пару минут хозяин вынес его кофе и яблочный штрудель. Владимир отрезал первый, ещё хранивший тепло печи кусочек рулета.
Штрудель был хорош, кофе ароматен, но мысли о недавно читаном приказе, о стычке с матросами отвлекали, не давали насладиться едой. Владимир размышлял, какие фортели ещё выкинут управленцы из Центробалта, а также о глупости создавшегося теперь на флоте положения двоевластия: штаба флота, с одной стороны, и Центробалта – с другой. Из которых второй, на девяносто процентов состоял из людей совершенно далёких от флота.
Покончив с едой и расплатившись, Владимир решил раздобыть галун, чтобы привести форму в соответствие с новым приказом, помня, что лавка с мелкой военной атрибутикой была неподалёку. После этого не спеша направился в сторону бухты, но спускаться к ней не стал. Постоял некоторое время, с удовольствием подставляя лицо тёплому, пропитанному солёным запахом моря ветру, разглядывая открывшийся вид побережья, строгий уступ аккуратных, светлых домов с красно-коричневыми черепичными крышами.
Взглянув на часы, выделил себе ещё полчаса, чтобы не пришлось ждать в штабе, и отправился в обратный путь.
– Командирован в Гельсингфорс? – удивлённо взглянул на кадровика Владимир, прочитав предписание.
– Точно так. Там, в штабе, получите дальнейшее конкретное назначение. У нас здесь – комплект, во-первых. Во-вторых, у вас ещё несколько суток восстановительного отпуска, судя по выписному эпикризу. В общем, в любом случае, держать вас здесь, ещё не выздоровевшего окончательно, смысла нет.
Владимир молчал.
– Ближайшее посыльное судно пойдёт в Гельсингфорс через трое суток. С ним можете и отправиться, а пока отдыхайте, наслаждайтесь свободой. Квартиру-то здесь снимаете?
– Нет, не было необходимости.
– Ну, на такой случай тут гостиниц хватает. Только поищите такую, где хозяева лояльны к русским, а то некоторые из местных, в предвкушении приближения армий кайзера, начинают вести себя дерзко и зачастую подло. Думают, идут их освободители от оккупантов. Дураки… – добавил кавторанг раздражённо и посмотрел на Владимира. – У вас остались ещё ко мне вопросы?
– Никак нет.
– Тогда не задерживаю.
Владимир вышел, но, отойдя от кабинета на несколько шагов, снова вернулся.
– Господин капитан второго ранга, я подумал, раз уж мне всё равно ждать оказии нужно, так, может быть, я своим ходом доберусь?
– Как?
– Поездом через Петроград.
– В принципе, дело ваше: хотите кружить – пожалуйста. Только в назначенную дату непременно быть на месте. – Прикинув в уме, офицер добавил: – У вас свободного времени выйдет всего-то около суток… Какой резон? Или вы петербуржец? – Владимир утвердительно кивнул. – Ну, что ж, валяйте, если не терпится.
Прямо из штаба Владимир направился на вокзал, купил билет и вечерним поездом ехал в Петроград.
Вагон был полупустой. В купе же Владимир был и вовсе один, никто его не беспокоил, один раз только заглянул проводник и предложил чаю. Наблюдая в окно плавно проплывающие поля и полустанки, Владимир скоро уснул.
Проснулся от того, что кто-то легко толкнул его в колено. Открыв глаза, Владимир увидел перед собой священника, усаживающегося на противоположный диван. Священник был невысок, и ряса его казалась не по размеру большой.
– Прошу прощения, – сказал он, увидев, что разбудил попутчика.
Глаза, сидевшие несколько глубоко в худом лице, смотрели изучающе, неприятно остро, будто кололи. Вместе с тем, в глубине их, светилось что-то сильное, притягивающее, отчего тяжело было оторваться. Вообще весь он, какой-то сухонький, твёрдый, производил впечатление не располагающее.
Владимир, хмурый спросонья, ничего не ответил, морщась, размял затёкшие от сидячего сна ноги, взявшиеся «иголками», посмотрел в окно. В мутной, ненастной темени виднелись только неясные очертания мелькающих тёмных деревьев и вдалеке, почти того же тона, то ли море, то ли небо на горизонте.
– Где мы? – спросил Владимир.
– Бронка была только что, – ответил священник и тоже глянул в окно.
«Значит, Финский залив виден», – заключил Владимир и посмотрел на часы – был второй час ночи; дороги оставалось час-полтора.
Священник, строго нахмурив брови, смотрел в окно, скрестив на груди руки.
– С какого корабля будете? – спросил он Владимира вдруг.
– С «Лихого».
– Не слыхал… – сказал священнослужитель раздумчиво, как бы припоминая.
– Можете не сомневаться, «Лихой» своё имя оправдывает полностью и в делах участвовал не однажды, – сказал Владимир, почувствовав злость на это пренебрежительное, на его взгляд, замечание.
Священник мягко улыбнулся в бороду вспыльчивости попутчика.
– В этом я не сомневаюсь, – ответил он спокойно. – Я о другом говорю: не слыхал в смысле ужасов, которые у нас в Кронштадте происходили в ночь революции и после. А это очень даже хорошо – значит, у вас всё более или менее спокойно прошло. Прав я?
– Правы, наверное. Мне сравнить не с чем.
– То-то. А мне есть с чем…
Священник рассказал, что первый удар волны слепой матросской ненависти в Кронштадте принял главный командир и военный губернатор города, адмирал Вирен, которого ночью вырвали из дома, избитого и заплёванного волоком протащили по улицам, припоминая все мытарства, и, наконец, заколи штыками на Якорной площади. Тело сбросили в ров тут же у площади, два дня не давая возможности родным забрать его.
Нескольких офицеров живьём спустили в проруби Кронштадтского льда, и первым из таких стал командир учебного судна «Африка», старший лейтенант Ивков. Выходило, что самыми «счастливыми» были офицеры, принявшие смерть от пули, – скорую.
Владимир слушал рассказ с широко раскрытыми глазами – он не мог поверить в то, что слышал и сейчас сам почувствовал себя в шкуре тех отгороженных от жизни матросов из госпиталя, что интересовались у него новостями. Какое сатанинское помешательство случилось с людьми?!..
Но что более всего не укладывалось в голове – никто не понёс никакой ответственности за свершённые убийства офицеров.
Да, адмирал Вирен был человеком жёстким и даже жестоким, горячим на слово и дело, но со всеми, и с офицерами в том числе. Почти каждая встреча с ним в городе для моряков заканчивалась отправкой на гарнизонную гауптвахту: то строевая выучка неудовлетворительная, то внешний вид никуда не годный… Наряду со всеми заслуженные капитаны первого ранга предпочитали лишний раз не попадаться ему на глаза, чтобы не испытывать судьбу.
Но заслуживал ли Вирен такой зверской расправы? Ведь даже со всей своей гипертрофированной властностью он, тем не менее, – герой русско-японской войны на море, храбрый командир «Баяна», спасший погибавших товарищей с истерзанного неприятельским огнём и затонувшего на глазах спасавших миноносца «Страшный». На полном ходу «Баян» под командованием Вирена рвался к месту побоища, чтобы прикрыть тело «Страшного», но всё, что он смог, – только поднять к себе на борт уже плавающих в холодных волнах, оставшихся в живых моряков. Смогли бы они отстоять своего спасителя теперь? Вспомнили бы его заслуги, будь они здесь?..
Впервые сознание Владимира пронзила мысль о том, что он преступно легковерно, не углубляясь в суть происходящего, принял сторону революции.
Но так поступил почти весь офицерский корпус, с поруки командующего флотом, почти по приказу. И введённый в заблуждение адмирал, и офицеры были практически уверены, что монарх уступил власть добровольно.
Священник замолчал. Владимир его тоже больше ни о чём не спрашивал, снова глядя в окно, обдумывал услышанное.
Оставшуюся часть пути проехали молча, и, только выйдя из вагона на Балтийском вокзале, сдержанно попрощались.
***
Дожди заливали Петроград уже несколько дней. Ночные улицы были пусты и безмолвны. Сонную тишину Гороховой нарушил шум пролётки, нанятой Владимиром. Доехав, он быстро сунул в мокрую руку угрюмого извозчика деньги и легко взбежал по ступеням знакомого крыльца.
Звонок не работал, и Владимир громко постучал в дверь квартиры, но никаких признаков жизни за ней не уловил. Наконец, где-то в глубине квартиры послышался короткий кашель и, уже почти у двери, ворчание.
– Кто там? – донесся из-за двери настороженный вопрос.
– Свои, Евсеич. Владимир.
Дверные замки суетно защёлкали, и в широко распахнувшейся двери, со старинным, на три свечи (правда, вставлена была только одна), канделябром в руках, в одетом поверх пижамы сюртуке показался Дмитрий Евсеевич. Он выше приподнял канделябр, и дрогнувшее пламя свечи осветило улыбающееся лицо гостя.
– Господи! Владимир Алексеевич, – выдохнул слуга. – Родненький, счастье-то какое! – Он поставил на этажерку канделябр и приветственно протянул руки навстречу.
– Здравствуй, Евсеич, здравствуй, – Владимир приобнял неуклюже ткнувшегося ему в грудь старика. – Ну, как вы тут поживаете? – спросил он, когда Дмитрий Евсеевич снова закрыл дверь.
– Слава Богу, Владимир Алексеевич, слава Богу. За вас вот душа покоя не знает: только и гадаем – живы ли?
– Жив вашими молитвами, – улыбнулся Владимир.
– Давайте накидочку-то, давайте, – беспокоился Евсеич, помогая Владимиру освободиться от одежды.
– Где родители, почему не встречают? Или, самый острый слух у самого пожилого человека в доме? – усмехнулся Владимир.
– Алексей Алексеевич вместе с маменькой вашей уехали на жительство в Москву по служебной необходимости Алексея Алексеевича.
– Вот как… – растерянно оглянулся на старика Владимир.
– Как же это вы, на ночь глядючи, решились? Люди точно из ума выжили, нынче и на улицу-то выйти страшно…
– Поезд так прибывал, да и непогода на руку, сам ведь говоришь: беспорядки кругом, а мокнуть без надобности – желающих мало и среди беспокойных натур. – Владимир прошёл в глубину квартиры. – Антон дома?
– Дома, – буркнул в ответ Дмитрий Евсеевич, и Владимир уловил в его голосе ноту раздражения. – Спит братец ваш.
– Пьян, что ли?
– В стельку-с.
– Ясно, – нахмурился на секунду Владимир. При последнем их расставании Антон тоже был нетрезв. – Что со светом?
– Так электричество теперь редко бывает.
– А с водой как?
– Также. Но мы про запас набираем. Правда, вам свезло: и вода есть, и напор неплохой, можно попробовать колонку зажечь.
– Будь добр.
Дмитрий Евсеевич ушёл, унеся свечу, и Владимир, оставшись один в тёмной гостиной, присел в кресло, дожидаясь его возвращения. Он отчётливо почувствовал знакомый запах родного дома, ощутил под ладонями знакомую шершавость подлокотников кресла, улыбнулся, прислушиваясь к своим ощущениям.
Минут через пятнадцать старик вернулся.
– Готово, Владимир Алексеевич.
– Спасибо. – Владимир встал, раскрыл свой чемоданчик, вынул часть вещей. – Я помоюсь пока, а ты, пожалуйста, распорядись, чтобы Алевтина мне поесть собрала чего-нибудь и постель приготовила. Да скажи, чтоб долго с едой не возилась – горячего не надо, – крикнул Владимир уже из ванной.
Старик засеменил в сторону кухни.
Когда Владимир пришёл в столовую, стол уже был накрыт.
– Здравствуй, Алевтина, – Владимир сел за стол.
– Здравствуйте, Владимир Алексеевич! С приездом вас.
– Спасибо.
– Чаю желаете или вина? – спросила Алевтина, подвигая Владимиру тарелки с закусками.
– Чаю.
Дмитрий Евсеевич, ожидая распоряжений, сидел тут же в столовой, на стуле, в правом ближнем от входа углу.
– Спасибо, Алевтина. Отдыхай, – сказал Владимир, когда она принесла чай. – И ты, Евсеич, тоже иди спать. Нечего меня как драгоценность рассматривать, – усмехнулся он. – Спасибо, и уж извините, что сон ваш потревожил.
Евсеич ещё с минуту посидел, раздумывая.
– Что же, коли распоряжений не будет более, тогда спокойной ночи вам, – сказал он, вставая, наконец.
Поев, Владимир отправился в свою комнату. Разделся, форму аккуратно повесил на спинку стула, потушил свечу и, лёгши в постель, почти мгновенно уснул.
Утром, ещё не открыв глаза, он различил разнообразные мелкие звуки, доносившиеся сквозь закрытую дверь: Евсеевич и Алевтина уже беспокоились по хозяйству. Владимир понимал, что главной причиной этой суеты был он и улыбнулся милой заботливости прислуги. Приведя себя в порядок, он заглянул в комнату старшего брата.
Антон спал на размётанной простыне, спиной к двери, зябко свернувшись калачиком: одеяло сползло на пол и лежало рядом с кроватью.
Владимир тронул плечо брата. Тот отреагировал на удивление чутко, резко повернув голову, уставился на него непонимающим взглядом. Владимир рассмеялся.
– Доброе утро!
– Владимир! Ты как здесь? – Антон развернулся, сел на кровати, сонно растирая лицо, потом обнял себя руками.
– Нечаянный отпуск вышел, – ответил Владимир, с улыбкой глядя на брата, силившегося держать открытыми неумолимо слипающиеся глаза. – Ладно, ты вставай, умывайся, а я тебя в столовой подожду. Там и поговорим.
Владимир вышел из комнаты.
Антон вошёл в столовую через двадцать минут, одетый в светло-коричневый домашний костюм, гладко причёсанный, чисто выбритый. Тонкие пижонские усики резко чернели на бледной коже. Весь он излучал свежесть, но лицо было слегка отёчно, и глаза блестели стеклянно: вчерашний бурный вечер напоминал о себе, да и не только вчерашний, видимо.
Антон подошёл к вставшему ему навстречу Владимиру. Они крепко обнялись.
– Ну, здравствуй, дорогой, – сказал Антон, обдавая брата ароматом одеколона. – Дай хоть посмотрю на тебя, – он слегка отстранился, – а то вваливаешься в комнату, как снег на голову.
Владимир улыбнулся, и они сели за стол.
– Алевтина! – крикнул Антон. – Подавай завтрак!
Дмитрий Евсеевич помогал Алевтине внести тарелки.
– Это что за ящик, Евсеич? – спросил Антон, указывая глазами на стоявший в дальнем углу столовой деревянный короб.
– Так дружки ваши вчера вместе с вами, беспамятным, доставили. Сказали, «кузаня» какая-то.
– «Мукузани», – рассмеялся Антон, встал, подошёл к коробу и вынул из него одну из обложенных сеном бутылок. – Алевтина, принеси-ка нам бокалы! Ну, князь, ай да молодец! – продолжал усмехаться Антон. – Не обманул всё-таки.
– Что ещё за князь? – спросил Владимир.
– Грузинский князь Мачабели.
Алевтина принесла бокалы, и Антон налил в них играющее на свету рубиновое вино.
– Ну, с приездом, братец, – протянул свой бокал Антон и, чокнувшись, сделал глоток. – Ах, хорошо винцо, хорошо! Я этому вину сейчас, если признаться, Володя, больше чем тебе рад, – сказал Антон после очередного глотка и снова рассмеялся. – Головушка моя страдает. Так какими судьбами? – он взглянул на брата.
– Оказия, – улыбнулся Владимир. – Следую к новому месту службы, в Гельсингфорс.
– Чего так?
– В дозоре с противником встретились. Ну, постреляли друг по другу, как полагается. Не скажу, что серьёзно, но народ у нас немного посекло; меня вот тоже по руке зацепило.
Антону только сейчас стало ясно то, что сразу бросилось в глаза, но чему он как-то не придал значения: Владимир все манипуляции, требующие участия рук, в основном, совершал левой рукой, хотя был правшой.
– Людей много потеряли?
– Да все живы остались. Когда к нам помощь подоспела, германец уже ушёл. Так что нас на буксире в базу вернули, правда, я этого не помню: в себя пришёл уже в госпитале. Пока лечился, корабль отремонтировался и снова ушёл в море – время сейчас напряжённое – соответственно, вместо меня другой офицер был назначен.
– Понятно…
– А как давно родители в Москве? И почему им вообще там быть понадобилось?
– Тут, Володенька, после отречения царя весь город на ушах стоял, а уж про политические бурления и говорить нечего. Главный кадет, Милюков, теперь-то во Временном правительстве министром, а значит, и партия его играет нынче одну из ведущих ролей. Вот отцу и привалила работёнка, взлетел он по партийной линии, – многозначительно приподнял брови Антон, – приглашён на работу в Московский отдел центрального комитета партии. А маму он решил взять с собой, как только узнал, что уезжает не на короткий срок. И, скажу тебе, уезжал он к новому месту работы в очень даже хорошем расположении духа.
Братья ненадолго замолчали, приступив к еде.
– По какому поводу торжество вчерашнее было? – спросил Владимир
– Некий господин Нестрембженский устраивал дома музыкальный вечер. Дочурками своими хвастался: одна – арфистка, другая – за роялем. Засиделись в девках, вот и устраивает папаша званые ужины и прочие мероприятия…
– Что-то я не припомню, чтобы на музыкальных вечерах до чёртиков упивались.
– Это позже случилось. А на вечере том я с вышеупомянутым князем Мачабели повздорил малость: пошутил о его притязаниях на старшую дочку, он вспылил – грузины они такие, знаешь, горячие, – а у этого ещё и с чувством юмора туговато оказалось. К тому же, возраст уже за сорок, брюшко, состоятельность – всё, что полагается солидному мужчине, а тут какой-то молодой нахал над ним шутить вздумал. Я-то ничего такого не хотел, только князя понесло уже, но ведь и я отступать не привык, вот и вышло… Князь, видимо, решил меня сначала испугом взять, криками, – улыбался Антон, – ну, а когда дело нешуточный оборот приняло, ему кто-то про моё прошлое шепнул, и он задумался немного, поостыл. В конце концов, всё мировой закончилось, ну и, как водится, отметить это событие решили, закатили в ресторацию. А прощаясь, князь обещал меня лучшим своим вином угостить в знак дружбы и симпатии – и не обманул, как видишь.
– Мне думалось, светские мероприятия теперь прекратили свое существование, – сказал Владимир.
– В общем-то, да, но по старой памяти некоторое подобие иногда бывает. Правда, тихо так, скромненько, чтоб не привлекать внимания – народ на эти дела косо смотрит нынче, праведно гневается. У тебя-то как дела? – спросил Антон. – Пошаливают матросики ваши, наверное? Почувствовали силу после того, что в Гельсингфорсе и Кронштадте натворили?
– Пошаливают, – хмуро подтвердил Владимир, вспомнив недавний разговор со священником в поезде. – И на офицеров всё волками смотрят… Революцию сделали, теперь расхлёбывают то, за что боролись. Чёрт их разберёт, чего им надо! Новую власть мы, офицеры, признали, так теперь другая свистопляска началась: поговаривают, будто большевики с Временным правительством сладить не могут, а у нас на флоте большая часть матросов – большевики, как выяснилось.
– Ты ещё не знаешь, какая в Петрограде подковёрная грызня идёт… Большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, монархисты, левые, правые, трудовики, кадеты… голова от них кругом идёт, и каждый на себя одеяло тянет! То ли ещё будет. У нас на заводе тоже ухари находятся, народ баламутят. Но спасибо Поликарпу Максимовичу, управляющему, он руку на пульсе держит, сразу таких убирает от греха. И с рабочими профилактические беседы ведёт, убеждает, что они вполне нормально живут и трудятся при нашем заводе.
– А нормально ли?
– Ну, знаешь, курорта им никто и не обещал. Но я, по крайней мере, жалованье всегда исправно платил, и поболее, чем некоторые другие дельцы. Неизвестно только, что дальше наше Отечество многострадальное ждёт. Не покидает меня ощущение, будто лавина эта революционная на полпути задержалась, зависла…
Владимир молчал, разглядывая бокал.
– Сам-то куда примкнуть думаешь? – спросил Антон. – Попомни моё слово, скоро этот вопрос станет ребром, и всех сомневающихся сметут.
– А я, по-твоему, сомневающийся?
– Это я так, к слову…
– Не знаю, – поморщился Владимир: он очень не любил касаться вопросов политики, даже в досужих разговорах среди офицеров, тем более – политики внутренней. Он в ней ничего не понимал.
Во внешней политике для него всё было ясно: есть друг, и есть враг, и место военных, то есть его место, в этой политике тоже предельно понятное. А вот внутренние государственные распри были для него тёмными дебрями. Да офицерам, в общем-то, до недавнего времени, до переворота, и уставом запрещено было участвовать в политической жизни страны.
Иногда Владимир задумывался над тем, что революционные настроения в народных массах, представителями которых для него являлись матросы, послужившие в итоге главным детонатором государственного переворота, могли быть небезосновательны. В какой-то мере он им даже сочувствовал, но никогда и ни с кем из сослуживцев об этом не говорил – не поймут, засмеют. Ведь с первых дней учёбы в корпусе мысль о том, что матрос – инструмент, автомат, разновидность корабельного механизма и прислуга его бога – офицера методичным и само собой разумеющимся наставлением пронизывало всю жизнь гардемаринов, в чём они ежегодно убеждались, отбывая корабельную практику. Даже на практике, где они находились в ранге матросов и также, как матросы команды корабля, подчинялись унтер-офицерам и привлекались к авралам и работам, всё равно ощущался невидимый, не озвучиваемый привилегированный социальный раздел хотя бы в том, что работами грязными гардемарины не занимались, никто на них не кричал, не материл. Вдобавок перед глазами всегда был наглядный пример офицеров экипажа – людей из мира, навсегда недоступного матросам. Этот отдельный мир внутри мира корабля, блестящий, чистый, прочно закрытый для них, вселял страх и злобу. А гардемарины стремились в него всей душой.
Как бы там ни было, но, даже толкаясь в поисках золотой середины между голосом совести и вековым укладом службы, сторонником революции Владимир себя не ощущал. Всё же брали своё верноподданнические традиции воспитания, заложенные с молодых лет – и в семье, и в Морском корпусе.
К тому же, когда доводилось слышать что-либо о народных волнениях, отчего-то он воспринимал это так, будто речь шла не о России, а о каком-то другом государстве, далёком, неведомом. «Там – да, там может быть, а у нас – никогда».
Однако Владимир всё же внимательнее в такие минуты присматривался к матросам. И вроде бы снова видел их привычную покорность, исполнительность, беспрекословную подчинённость, но за всем этим почитание офицеров находил совсем неискренним. За ним просматривалась затаённая ненависть – ненависть человека на пять лет насильственно оторванного от всего дорогого его сердцу и принужденного под страхом сурового наказания или зуботычины младшего командира исполнять тяжёлую, выматывающую службу. Проскальзывала мысль, что матросы – такие же люди, что они также кого-то любят, о ком-то скучают, переживают о своём оставленном хозяйстве и доме. «А с чего, собственно, они должны радоваться? – спрашивал тогда себя Владимир. – С чего должны любить своих офицеров, олицетворяющих эту могущественную силу, безжалостно ломавшую их жизнь, ни о чём не спрашивая?»
И, не находя ответа, вновь он гнал от себя эти мысли. Даже допуская, что слухи могли быть реальностью, он надеялся, что всё происходящее наилучшим образом разрешится само собой, в душе ясно понимая, что позиция эта его – детская и к взрослым играм неприменимая, что и подтвердилось уже. И теперь долгую память в истории обретут кровавые дни февраля…
… Владимир задумчиво вздохнул, оторвавшись от своих мыслей, спросил Антона:
– А ты что мыслишь по этому поводу?
– Пока что изображаю заинтересованность в судьбе своих пролетариев, кажется, так они себя называют, а дальше видно будет…
– То есть взглядов их ты не разделяешь?
– Да я взглядов-то их и не знаю толком. У них одно на уме: «Долой буржуазию!»
Антон замолчал, придвинул ближе поднос с чашками и кофейником, налил кофе себе и Владимиру.
– Ты как добирался до дома?
– Из Ревеля поездом, от вокзала – на извозчике. Едва нашёл: они сейчас, видимо, тоже не очень-то хотят рисковать – возить лишний раз непонятных пассажиров. Но с этим договорился всё-таки, правда, плату в три раза дороже взял с меня, чем всегда было.
Владимир отпил кофе, как бы между делом спросил:
– Листатниковы в Петербурге, не знаешь?
– Плохо себя чувствуешь? – спросил, улыбнувшись, Антон: – Понадобилась личная консультация профессора?
Владимир промолчал, кротко улыбнувшись уголками губ.
– Здесь они, – сказал Антон, – дня три тому назад видел случайно Петра Сергеевича, издалека, правда. Когда пойдёшь?
– Да вот после завтрака и пойду.
– А как же нормы приличия, молодой человек?! Ходить в гости без приглашения в первой половине дня, да ещё и в дом, где имеются незамужние молодые особы… Ай-яй-яй… – Антон деланно качнул головой.
– К чему теперь эти условности.
– О! Речь не мальчика, но – революционера! – воскликнул Антон и уже серьёзнее сказал: – Только не нужно в форме по улицам щеголять. Надень что-нибудь гражданское, нечего судьбу испытывать без необходимости.
– Не всё ли равно теперь: погон не носим… – усмехнулся Владимир.
– И всё же, не стоит, – оставался твёрд Антон. – Тебе когда на вокзал нужно?
– Часов в пять выехать собираюсь: вроде бы, шестичасовой поезд должен быть. По крайней мере, так мне сказали на вокзале.
– Хорошо. Я к этому времени отряжу автомобиль.
– Ты автомобилем обзавёлся? – удивился Владимир.
– Надо, Володенька, статус поддерживать. Автомобиль не новый, но… подремонтировали, подкрасили, намыли – так что выглядит вполне прилично, да и достался мне не дорого, по знакомству.
Антон встал из-за стола, стряхнул с лацкана крошку.
– Кстати, один мой приятель по фамилии Бальтон сегодня вечером собирает у себя на вист. Не желаешь присоединиться?
– Посмотрим.
– Ну, смотри, смотри. Я пока на завод скатаюсь, вечером увидимся.
Антон ушёл.
Поразмыслив, Владимир внял его совету: после завтрака вернувшись в свою комнату, выбрал в шкафу один из немногочисленных своих костюмов и сорочку, которые уже даже не мог вспомнить, когда в последний раз одевал. Он отнёс одежду Алевтине, чтобы она приготовила её к выходу, и через полчаса был облачён в отглаженный костюм и рассматривал своё отражение в зеркале, чувствуя себя этом одеянии так, будто снял его с чужого плеча. Костюм, к удивлению, оказался несколько свободным. Выходило, за минувшие годы Владимир похудел.
Он взял на всякий случай зонт, причудливо отделанную коробку с печеньем и серебряный кулон, которые вёз из Ревеля, – подарки для Оли – и вышел.
Придя к Листатниковым, позвонил в дверь. На лестнице послышались шаги: неспешно поднявшись на площадку, к соседней квартире направлялась маленькая пожилая дама. Она внимательным, изучающим взглядом посмотрела на Владимира. Он поздоровался, посторонился, давая ей дорогу, снова тронул звонок Листатниковых. Дама не спешила входить в свою квартиру, задержавшись у двери, открыто продолжала смотреть на Владимира. Владимир чувствовал это, но не смотрел на неё, про себя гадая, что бы это могло значить.
Наконец дверь открылась. На пороге стоял Пётр Сергеевич. Он неподдельно обрадовался:
– Володя! Здравствуйте, здравствуйте! – Заметив соседку, поздоровался и с ней: – Здравствуйте, Агнесса Ивановна.
– Здравствуйте, Пётр Сергеевич, – кивнула женщина и теперь только вошла к себе, щёлкнула замком.
– Проходите, – посторонился профессор, шире открывая дверь и пропуская гостя, тут же крикнул в глубину квартиры: – Оля! Оленька! Посмотри, кто пришёл!
Уже от послышавшегося шороха платья сердце Владимира забилось так, словно он встал у края обрыва: ещё мгновение – и он увидит её! Мгновение – и всё разрешится окончательно. Письма письмами, в них не выскажешь всего, что есть на душе, оттого они выходили у него сдержанно-вежливыми, робкими. Начиная писать очередное письмо, Владимир думал, что Оля всё равно чувствует его истинные мысли, которыми была пропитана каждая строчка, верилось, что тонкая связь между ним и Олей подспудно вяжется всё крепче и крепче, плетётся сама собой, единственно верным и надёжным, неподвластным воле человека плетением. Так мало-помалу он вновь уносился в соблазнительный мир иллюзий, позабыв о своих зароках, и теперь, стоя в квартире Листатниковых, в равной мере распираемый и счастьем, и страхом, ощущая себя от этих чувств странно невесомым, он мысленно готовился прочесть на лице Оли свой приговор.
Оля вышла из комнаты и, встретившись взглядом с Владимиром, на мгновение замерла, будто споткнулась. Секунды хватило Владимиру, чтобы понять: она его ждала. В карих глазах её не было и тени привычной дерзкой насмешки, они смотрели широко, тревожно и жадно, и вдруг через край наполнились невыразимым теплом…
– Здравствуй, Оля, – улыбнулся Владимир.
– Здравствуй… – зардела Оля, приблизившись, смущённо взглянула на отца.
Владимир протянул ей коробку с печеньем.
– Пойду чаем займусь, – сообщил профессор.
Пётр Сергеевич ушёл на кухню, и только теперь молодые люди обнялись, и Владимир, сам удивляясь своей смелости, словно во хмелю, расцеловал Олю. При последней их встрече они расстались, всего лишь пожав на прощание руки, и позже Владимир часто вспоминал этот миг, воскрешал в памяти ощущение тёплой, худенькой ладони Оли.
Теперь же, после того, как уже несколько раз его жизнь подвергалась риску, когда весь привычный уклад жизни встал с ног на голову, условности, царившие в их обществе, казались ему нелепыми на фоне происходящих исторических потрясений. Где-то глубоко внутри себя он понял вдруг, что перед лицом времени, войны и революции всё это было шелухой, и теперь, словно стараясь наверстать упущенное, всё самое важное в своей жизни выводил на первый план, а этого главного было не так уж и много, если разобраться.
Слушая милый голос возлюбленной, Владимиру не хотелось отвечать. Он лишь улыбался, заглядывая в её глаза.
– Чай готов! – крикнул Пётр Сергеевич, не выходя из кухни, чтобы не ставить молодых людей в неловкое положение.
– Совсем забыл, – Владимир достал из внутреннего кармана пиджака футляр с кулоном. – Это тоже тебе.
Оля улыбнулась, обняла Владимира.
Они перешли на кухню, сели за стол, Оля принялась наливать чай.
– Что же, Володя, как обстоят дела? – спросил Пётр Сергеевич. – Давит немец?
– Давит. Но и ему не сладко приходится.
– Думаю, на войне никому сладко не приходится… Надолго вы?