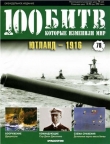Текст книги "Благими намерениями"
Автор книги: Александр Клочков
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
В кабинете он открыл форточку, обошёл стол, тяжело опустился в кресло, задумался. Через несколько минут Алевтина принесла кофе, стараясь не шуметь, боязливо поглядывая на Алексея Алексеевича, быстро освободила поднос и вышла.
«…Что это – глупость или измена?..» – не выходили из головы Алексея Алексеевича слова, которыми заканчивал свою недавнюю речь Милюков, – вопрос, обращённый к массам, после предложенных им обвинений действующего правительства и царской семьи в преступном и пагубном правлении государством.
Да уж, в эффектности Милюкову не откажешь… Вот только обвинения свои он подтверждал информацией, взятой из норвежской, шведской и немецкой прессы, которую изучил в недавнем вояже по Европе, а разве это доказательства?! У них своя пропаганда, как водится… Но есть прописная истина адвокатуры: обвинения без стойкой доказательной базы называются просто – клевета. И, выходит, она имеет место здесь быть…
Речь Милюкова не могла остаться без последствий, Алексей Алексеевич это прекрасно понимал. После таких слов, произнесённых с трибуны, общественное напряжение достигнет своего предела – это почти гарантированно: кто будет разбираться в подробностях и тонкостях происходящих дел? Фразу «…Что это – глупость или измена?…», мгновенно ставшую крылатой, Алексей Алексеевич за прошедшие после заседания Думы два дня услышал уже, наверное, раз десять, от разных людей, в разных местах.
Ему виделось только два возможных пути решения наступившего кризиса: или Милюков публично признает, что был неправ в своём выступлении (чего, конечно же, не случится), или царь пойдёт на требуемые от него уступки, которых он тоже совершать не намерен. Конфликт между Думой и правительством становится открытым, а значит остаётся единственное его решение… Нет!
Разволновавшись, Алексей Алексеевич встал, прошёлся по кабинету, снова сел, возвращаясь к страшной мысли. Неужели всё закончится вооружённым столкновением?! Ведь он вступал в партию потому, что реализация её программы предусматривалась именно мирным путём, а не революцией. Доколе же все чаяния народа будут разрешаться огнём и мечом?! Не для того он избирал своей стезёй юриспруденцию, не к тому стремился с молодых лет. Понятие «права человека» должно, наконец, перестать быть пустым звуком, должно иметь место в реальной жизни! – вот, что было его целью, и именно в программе кадетов он видел близкую себе доктрину. Выходит, обманулся?..
Отвращение от наблюдения происходящих событий и ясное понимание нечестной политической игры не покидало теперь Алексея Алексеевича. Но стрела выпущена, и кто-то должен быть ею сражён. Таков закон…
Алексею Алексеевичу горько и стыдно было теперь за свою наивность.
Лёгкий стук в дверь прервал его размышления, вошёл Антон. Тихо притворив за собой дверь, он на секунду задержался у неё, – привычка из детства: оттуда, от двери, они с Владимиром определяли, стоит ли отвлекать отца от работы.
Алексей Алексеевич не обратил на него внимания, лицо его сохраняло выражение глубокой задумчивости.
– Здравствуй, папа, – сказал Антон (они уже дня три не виделись, притом, что пересекались периодически дома: кто-то из них двоих спал, в то время как другой бодрствовал).
Только теперь Алексей Алексеевич взглянул на сына и не сразу, молча кивнул в ответ. Антон прошёл к дивану и сел.
– У нас всё хорошо? – вкрадчиво спросил он.
– В каком смысле?
– В том смысле, что мама почти не выходит из своей комнаты… Ты, Алевтина сказала, несколько дней подряд ужинаешь кофе, вон, уже и щёки ввалились… Да и, вообще, какой-то мрачный покой царит в нашем доме, как в замке Гамлета, – усмехнулся Антон, но Алексей Алексеевич сегодня явно не разделял весёлого настроя сына.
Видя это, Антон согнал с лица улыбку. Посидев несколько минут в тишине, он решил подтолкнуть отца к разговору, решил первым начать говорить предметно:
– Пожалуй, с мамой мне всё понятно, но с тобой-то что? Я так понимаю, партийные дела душу мотают?
– Правильно понимаешь… – нехотя, видимо, желая отделаться от нежданного собеседника, подтвердил Алексей Алексеевич.
– И что же тебя так потрясло? – Антон снисходительно улыбался уголками губ.
Алексей Алексеевич долго не отвечал, размышляя. Было слышно, как Дмитрий Евсеевич прошаркал куда-то за дверью, привычно покашляв, Алевтина уронила на кухне что-то из посуды.
– Против царя готовится заговор… – сказал Алексей Алексеевич, наконец. – Теперь для меня это очевидно.
Антон на секунду опешил, но быстро взял себя в руки, подумав, что отец, со свойственным ему максимализмом, преувеличивает реальное положение дел. В кратком смятении он встал, подошёл к окну и закрыл форточку, в которую ветер, будто озорничая, забросил уже несколько горстей мелких, холодных дождевых капель. Улица онемела за закрытой форточкой, в кабинете стало совсем тихо, только дождь россыпью зерна стучался иногда в стекло.
Антон поправил штору, повернулся к отцу.
– Ну, удивил! – улыбнулся он. – Заговоры против царей готовятся всю дорогу, сколько они, эти самые цари, а также короли и прочие власть предержащие, существуют.
Алексей Алексеевич снова молчал, он как будто и не для Антона сказал то, что сказал, а для себя; сказал, решив вопрос окончательно.
Необычно тревожный вид отца, всё же, обеспокоил Антона, и он спросил уже серьёзнее:
– И разве не смены царя, в том числе и ваша партия добивается?
– Но не таким путём, и не сейчас! Ведь война идёт! – сдавленно воскликнул Алексей Алексеевич, резко повернувшись к сыну, безотчётно раздражаясь тем, что Антон не знает и не понимает всего того, что он обдумал за последние несколько дней. Алексей Алексеевич со свойственной ему в таких ситуациях сдерживаемой строгостью, как с очередным своим непонятливым клиентом, продолжил говорить: – Со вступлением России в войну, наша партия временно отказалась от оппозиции царскому правительству: каждому здравомыслящему человеку ясно, что в такое время нужно все усилия направлять на усиление обороноспособности страны, а не на внутренние препирательства. Такова моя позиция! Да только те, кто разделяет моё мнение, в меньшинстве, как выяснилось…
– Ненадолго же вашего отказа от оппозиции хватило, – зло усмехнулся Антон. – Напомни: через год после начала войны, не с подачи ли партии кадетов в Думе создан межпартийный, и давай прямо говорить, антиправительственный «Прогрессивный блок»?..
Алексей Алексеевич молча принял «укол» сына. Он и сам давно мучился озвученным им фактом, но, уже втянутый в игру, должен был играть её по правилам, не им установленным. Он почти шёпотом, быстро заговорил, сокрушённо покачивая головой:
– Никто не слушает моих доводов… Рано, рано… не время… нельзя!
Антон нахмурился, глядя на причитающего отца.
– Всё обойдётся, папа, успокойся.
Алексей Алексеевич остановил взгляд на сыне, зловещим тоном известил:
– Ты просто в неведении… Ты не понимаешь, чем всё может обернуться…
– За что боролись – на то и напоролись! – парировал Антон и тут же спохватился, сообразив, что мог и обидеть отца своим цинизмом в этот момент откровения. – Прости… Папа, прошу тебя, успокойся, не то ты своим видом маму до удара доведёшь, она и без того себе уже глупостей всяких о Володьке навыдумывала.
Антон подошёл к отцу, положил руку ему на плечо.
– Завтра утром ты посмотришь на происходящее другими глазами, и оно уже не покажется тебе таким уж страшным… Не зря говорится: «Утро вечера мудренее».
Алексей Алексеевич не ответил, раздражённо поболтал в кофейной чашке ложкой, одним глотком выпил давно остывший напиток, со звоном поставил чашку на блюдце, порывисто отодвинул его от себя и откинулся на спинку кресла, стал смотреть в окно, явно давая понять, что не хочет продолжать разговор.
Антон вышел.
ГЛАВА 2
1
Русский февраль 1917 года «взорвал» мир вестью о свершившейся революции. Брожения в Петрограде не утихали несколько дней, будто не государственный переворот произошёл, а народное гулянье случилось, – весёлое, по-русски широкое, бесшабашное…
Встречались на улицах лежащие, навсегда обездвиженные тела, в военной форме и гражданском платье, и ни до тех, ни до других никому не было дела. Растерзанные обезумевшей толпой, лежали трупы не успевших скрыться городовых, затоптанные и оплёванные, в изодранной форме.
Здание полицейского участка на Выборгской стороне было разгромлено, из выбитых его окон выходил негустой чёрный дым, в котором, где-то в глубине кабинетов и коридоров, иногда показывался оранжевый цветок огня. Прямо на ступеньках крыльца, так и не оставив своего поста, лежал дежурный полицейский. Недалеко от входа в здание, вверх дном, кособоко торчал из сугроба выброшенный на улицу с верхнего этажа, взломанный сейф. Содержимое его: бумаги, папки и фотокарточки, – носило ветром окрест.
Подобная участь постигла многие отделения полицейского и жандармского управления Петрограда, но некоторые из них, всё же, сумели оперативно организовать оборону и ещё держались, находясь в осадном положении.
У раскуроченного полицейского сейфа остановился мужчина в сером потёртом пальто, не по сезону лёгком. Плотнее заправив поднятый воротник, чтобы прикрыть и замёрзшие, побледневшие уши, он спрятал в него худое лицо с редкой клочковатой бородой, присел на корточки и начал разглядывать валявшиеся на грязном истоптанном снегу документы, достал из сейфа ещё стопку бумаг. Услышав где-то вдалеке позади себя крики, он резко обернулся, вглядываясь в темную предрассветную даль улицы, и лицо его с отвратительным шрамом на лбу, переходящим на правую бровь, – ещё по молодости в драке перепало обрезком арматуры, и проломленная кость так и срослась уродливой и жуткой вмятиной, – замерло в волчьей внимательности. Шумная, видимо, пьяная группа людей миновала переулок, голоса стали удаляться. Мужчина, быстро просмотрев вынутые из сейфа папки, задержался на одной из них, вынул из неё паспорт, положил его во внутренний карман пальто, остальное же содержимое папки бросил в огонь догорающей тесной комнатки-будки дежурного. С минуту он смотрел, как огонь медленно пожирает новую пищу, и быстро пошёл прочь.
Именем революции всем пострадавшим от притеснений царского режима великодушно даровалось свобода. Из вскрытых тюрем, как из нарыва гной, на улицы города хлынула волна уголовников, мелких хулиганов и политических преступников, растворяясь в нём, утекая в подвалы, трактиры, притоны, конспиративные квартиры.
Жители, не принимавшие активного участия в случившемся государственном потрясении, в страхе забились в свои квартиры, изредка выглядывали в окна. Многие, опасаясь непрошеных гостей, баррикадировали входные двери домашней мебелью.
Долго ещё в разных районах города была слышна шальная стрельба и крики, на фоне которых в то же самое время происходило образование нового аппарата государственной власти.
Фактически в стране создалось положение двоевластия и одна его сторона – Временный комитет Государственной думы – видела путь России капиталистическим и верным своим обязательствам перед англо-французскими союзниками, а вторая – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов – требовала всей полноты народной власти.
Петросовет обрёл силу и поддержку народа совершенно неожиданно для представителей буржуазной элиты и генералитета из Временного комитета Государственной думы, устраивавших и готовивших заговор против царя. Это побочное явление переворота, непредвиденно возникшая сила, мешало теперь закулисным кукловодам все карты. И, как бы то ни было, на данном этапе развития событий приходилось с этой силой, – как оказалось, горячо поддерживаемой рабочими, солдатами и матросами, – считаться.
В создавшихся условиях, по обоюдному соглашению сторон, родилось Временное правительство, включившее в свой состав представителей от каждого претендующего на единоличную власть лагеря.
На первом же заседании Временного правительства для окончательного избрания желаемой народом власти (посредством тайного голосования) было решено провести Учредительное собрание. Назначено оно было на сентябрь текущего года.
2
Антон не узнавал Алексея Алексеевича – так воодушевлён и деятелен был его отец теперь. А воодушевиться было отчего: Милюков и ещё несколько представителей партии кадетов вошли в состав Временного правительства. Милюков занял пост министра иностранных дел. За несколько дней общими усилиями кадетам удалось протолкнуть в программу Временного правительства многие пункты своей партийной программы.
Есть всё же иная воля над людьми, внявшая чаяниям Алексея Алексеевича. Да, крови не удалось избежать, но ведь могло быть и хуже! Теперь не время ныть. В конечном итоге всё как будто вырисовалось не в таком уж страшном виде – а значит, не всё потеряно, и нужно, повыше закатав рукава, браться за дело! Перво-наперво не дать разрастись беспорядкам и преступлениям, а потом и вовсе их прекратить, сделать процесс перерождения общества управляемым, и главное: сообща, вкладывая все силы, строить новое государство!
Был обновлён и Центральный комитет партии, пересмотрена её программа и устав. Появились новые партийные блоки в других городах, популярность кадетов росла, число людей, желавших стать членами партии, тоже.
Внутрипартийные перемещения не обошли стороной и Алексея Алексеевича, он был назначен на одну из ответственных должностей в отделе пропаганды и был рад этому назначению. Должность была близка ему. Здесь он на своём месте, сможет в полной мере претворять в жизнь исповедуемые им идеалы, ведь всё начинается с воспитания, оно – основа социальных преобразований! И Алексей Алексеевич теперь причастен к нему так близко, как немногие иные.
Работу в своей конторе Алексей Алексеевич временно оставил, передав дела помощнику, но свободного времени у него, тем не менее, не прибавилось. Дома он стал появляться ещё реже. Пропагандистская деятельность партии была развёрнута масштабно. Огромными тиражами издавались брошюры и воззвания, требовавшие редактуры и грамотных, максимально понятных выдержек из программы – приходилось лично контролировать процесс на вверенных участках. На фронты и в госпитали командировались подготовленные представители партии для чтения лекций о политической ситуации в стране, а для этого их самих предварительно нужно было готовить и инструктировать: как следует общаться с малограмотной людской массой, чего говорить не стоит, на что делать акцент; проводились регулярные длительные дискуссии с представителями других партий, на которых нельзя было ударить в грязь лицом – только так можно было привлечь на свою сторону большинство.
Марии Александровне устремления мужа были безразличны. Она не общалась с ним на эти темы, никак не оценивала происходящих событий, но в молчаливом взгляде её он чувствовал укор, и – в своём лице – всем, подобным ему, сошедшим вдруг с ума. Бывая на улице, Мария Александровна смотрела на этих людей испуганно и брезгливо. Так ребёнок смотрит на нищего, прозябающего у заплёванного входа в трактир или на обочине тротуара с протянутой рукой, и детским своим умом не может понять: как и почему этот человек – такой же с виду, как любой другой, – мог докатиться до такой жизни.
Алексей Алексеевич не выдержал однажды этого взгляда, готовясь утром к выходу из дома, застёгивая пиджак перед зеркалом. Подошёл к сидящей на диване Марии Александровне, присел рядом, нежно взял её руки в свои, подумал, что теперь он сможет оправдаться перед ней:
– Машенька, я стараюсь не ради своего развлечения. Именно так, в конечном счёте, я в максимальной степени могу помочь Володе. Поверь мне, всё будет хорошо…
Мария Александровна ничего не ответила. Выждав ещё несколько секунд, Алексей Алексеевич, сокрушённо вздохнул, поцеловал её в щёку и вышел – опаздывал уже.
К концу марта партийное руководство единогласно решило направить Алексея Алексеевича в Москву для оказания помощи в организации дела пропаганды там – он прекрасно зарекомендовал себя в Петрограде, за короткое время наладив и поставив на верные рельсы этот процесс, «да и необходимость карьерного роста никто не отменял», – шутливо похлопал его по плечу один из товарищей после заседания, поздравляя с повышением и оказанной честью.
Алексей Алексеевич сдержанно улыбнулся, кивнул: он не знал, не мог пока понять, радоваться ему этой новости или нет. Она была ему приятна, тешила самолюбие, но радость нового назначения затмевал предстоящий разговор с супругой.
Мария Александровна восприняла весть о новом назначении мужа снова с невозмутимым лицом и, к удивлению Алексея Алексеевича, не отказалась ехать с ним, а он-то уже заготовил несколько доводов для уговоров. Но теперь поспешил перевести разговор в другое русло, на бытовые женские темы:
– В Москве нас уже ждут, обещали и для тебя найти занятие. Если захочешь, будешь работать со мной, а нет – сама решишь, как проводить время… Обещали нам хорошую уютную квартиру, – Алексей Алексеевич поморщился, одёрнув себя: «Это было лишнее, опять скажет: только о себе думаешь, когда сын…» Он решил не испытывать судьбу больше. – В общем, Машенька, тебе понравится, я думаю… Тем более, наш отъезд временный.
Два дня Алексею Алексеевичу выделили на сборы, и в назначенный час Антон провожал его и Марию Александровну на перроне, помогал с чемоданами, шутил, подбадривал мать. Алексей Алексеевич не раз благодарно взглядывал на сына, Антон понимающе подмигнул ему.
Наконец, через царившую на перроне сутолоку прорвались к поезду, к своему вагону, с трудом протиснулись сквозь облепившую его людскую стену, чтобы попасть внутрь, в зарезервированное для них купе.
– Вот паршивцы, две пуговицы оторвали! – усмехнулся Антон, оглядев своё пальто. – Хорошо, хоть рукава на месте, а то швы уже трещали.
С улицы, приглушённый окном, звучал разнобой голосов: крики, ругань, смех, детский плач. Кто-то, прямо под окном, надрывным прокуренным басом завернул такое выражение, что даже у Антона и Алексея Алексеевича лица приняли виноватый вид, а Мария Александровна, прикрыв глаза, плотнее сжала челюсти, побледнела.
Там, за стеклом, бурлила жизнь в своей борьбе, и спокойствие и тишина купе казались неестественными. Нанятые на вокзале носильщики, оттёртые толпой, ещё доносили вещи Алексея Алексеевича и Марии Александровны, и когда Алексей Алексеевич, наконец, расплатился с ними, Антон, весело взглянув на родителей, сказал:
– Что ж, пишите письма, как говорится. И желательно радостные. – Он расцеловался с Алексеем Алексеевичем, затем с Марией Александровной. Она всплакнула коротко. – Ну, вот ещё, – улыбнулся Антон, прижимая её к себе, – это совсем ни к чему.
Постояв некоторое время с Марией Александровной в объятьях, он сказал:
– Ладно, дорогие-любимые, счастливого пути! А мне ещё обратно продираться, – Антон глянул в окно. – И куда их всех несёт, куда всем вдруг понадобилось ехать, спрашивается?!
Выбравшись на перрон, Антон махнул родителям и, усиленно и грубо работая локтями, нагло усмехаясь на злобные выкрики себе вдогонку, направился к выходу из вокзала.
Алексей Алексеевич видел, как теряется в толпе фигура сына, он заворожено засмотрелся на галдящее вокзальное сонмище, оно вдруг представилось ему зеркалом, отражавшим лицо наступившего времени, – хаос. И ещё более жуткая пришла в голову мысль: не так ли выглядит людское скопище у ворот ада? Озлобленная, мрачная толпа, где каждый сам за себя…
В очередной раз он подумал, что сделал правильный выбор, согласившись на поездку в Москву. Ещё не все его политические надежды и мечты раздавлены, он может ещё их сделать реальностью. Его работа будет полезной.
3
Кода Оля вернулась из магазина, Пётр Сергеевич уже был дома. Это удивило Олю: профессор всегда возвращался домой гораздо позднее неё. Оля подосадовала о том, что поймана с поличным.
– Папа, здравствуй! – громко сказала она с порога, приготовившись к тому, что отец снова начнёт читать ей нотации о «вопиющем легкомыслии»: он строго запрещал Оле выходить на работу в последние несколько дней.
Мариинская больница, в которой работал Пётр Сергеевич, и без того была полна ранеными на фронтах, теперь к ним прибавились ещё и пострадавшие в недавних уличных столкновениях горожане. Сначала они поступали со всех концов города нескончаемым потоком, и врачи скопом едва успевали оказывать им первую помощь. Через сутки стало заметно легче: лишь время от времени довозили какого-нибудь бедолагу, либо же таковой добредал до больницы самостоятельно, убедившись по прошествии некоторого времени, что полученное увечье само по себе «не заживёт, не рассосётся». Зато теперь, как первый итог недавних событий, также организованно начало поступать пополнение для морга. Допоздна задерживаясь в больнице, Пётр Сергеевич вдоволь насмотрелся последствий изъявления народной воли, и потому очень боялся за дочь.
Но Оля упорно поступала по-своему. Во-первых, физически не могла целый день сидеть дома; во-вторых, хотелось своими глазами «посмотреть революцию», манило щекотливое чувство опасности и запрета. Правда, революция представала перед ней, в основном, в лице людей разбойной наружности, при виде которых непроизвольно ускорялся шаг, и тянуло почаще оглядываться; либо – шумными группами солдат или матросов, часто нетрезвых, вызывавших, в общем-то, те же желания, что и первые.
Пётр Сергеевич не отвечал, и Оля прошла в его кабинет. Профессор сидел за столом при свете настольной лампы, перед ним лежала стопка газет, несколько их валялось на полу рядом со столом, явно читанные. Склонившись над газетой, придерживая рукой пенсне, Пётр Сергеевич внимательно просматривал страницы.
– Папа, здравствуй, – поздоровалась Оля ещё раз, и Пётр Сергеевич, на секунду подняв на неё глаза, не меняя озадаченного выражения лица, рассеянно ответил:
– Здравствуй.
Оля, несколько удивлённая отсутствием выговора, тоже подошла к столу, заглянула в газету, посмотрела на отца.
– Что с тобой, папа? Ты ужинал?
Профессор снова промолчал, пристально рассматривая текст.
– Папа, что происходит?!
Пётр Сергеевич посмотрел на Олю, но осознанность в его глазах появилась лишь спустя несколько мгновений, как у только что проснувшегося, но ещё не вырвавшегося из липких рук сна человека.
– Когда мы получали последнее письмо от Николая? – спросил он. – И откуда?
– Полтора месяца назад, откуда-то из Беларуси, кажется… Точно не помню. Что случилось? Что-то с Николаем?! Ты меня пугаешь!
– Пока не знаю… – Пётр Сергеевич небрежно отбросил только что прочитанную газету на пол, встал и подошёл к окну.
– Что это значит?
Профессор в задумчивости снова помедлил с ответом, не поворачиваясь, произнёс:
– Огромное количество офицеров подверглось солдатскому самосуду в эти несколько минувших после государственного переворота дней. Я об этом узнал сегодня в больнице…
Оля побледнела, потерянно присела на край небольшого затёртого кожаного дивана.
– И что об этом пишут в газетах? Есть какие-нибудь сведения? – тихо спросила она.
– Ничего там не пишут – там всё замечательно, призывают поддержать революцию и обещают прекрасную жизнь.
– Так, может быть, вести о самосудах всего лишь слухи? – попыталась ухватиться за надежду Оля, ясно сознавая при этом, что слухи не рождаются на пустом месте, сами по себе.
– Хотел бы я поверить, что это слухи, да не смогу: своими глазами видел трёх раненых офицеров, доставленных к нам из-под Царского Села, – немногие из тех счастливчиков, которых просто избили и не стали добивать. Им удалось бежать. Уж не знаю, какими начальниками они были своим солдатам, но то, что они рассказывали про ночь революции, – это ужас…
Оля, ошеломлённая, молчала.
– Что же это происходит, господи… – проговорил тихо Пётр Сергеевич, медленно, но яростно потирая лоб. – И что за манера – не писать письма! – в сердцах поругал он сына неуправляемо взвизгнувшим голосом, как это случается с людьми, не практикующими общения на повышенных тонах, и тон этот, совершенно ему не свойственный, вселил ещё большую тревогу в Олю.
Пётр Сергеевич вернулся к столу, сел в кресло.
Оля немного отошла от потрясения, взяла себя в руки, решила ни в коем случае не поддаваться панике. Она подошла к отцу, обняла его.
– Папа, пока что мы ничего не знаем о Николае достоверно. А значит, нет оснований думать о плохом и, тем более, справлять тризну, и это – совершенно точно.
Пётр Сергеевич кивнул согласно, но как-то отстранённо, себе на уме.
4
О смене государственной власти командующий Балтийским флотом контр-адмирал Непенин вверенному ему флоту сообщил днём позже, после официального извещения Временного правительства.
Командир эсминца «Лихой», получив радиограмму об этом, несколько секунд смотрел на неё так, будто не умел читать, потом приказал вахтенному офицеру собрать офицеров в кают-компании.
– Господа офицеры, вчера, 2-го марта 1917 года, государь император Николай II отрёкся от престола. В управление государством вступило Временное правительство, – без предисловий сообщил командир, когда офицеры расселись за пустым, непокрытым, лакировано блестящим столом.
Офицеры замерли, изумлённо глядя на командира. В наступившей тишине мерное, басовитое гудение корабельной вентиляции, на которое в повседневной жизни никто не обращает внимания, стало вдруг особенно слышным, выпуклым.
– В моих руках радиограмма, полученная из штаба флота, – закончил командир.
– Как же это понимать? – растерянно спросил старший офицер.
– Можете меня ни о чём не расспрашивать: всё, что мне известно, я вам сообщил. Теперь, то же самое я обязан сообщить и команде. Не имею права не сообщить – посчитают укрывательством; к тому же, уверен: радист уже пустил трёп в кубриках. Вам же я сообщил заранее, чтобы избежать эксцессов. Будьте благоразумны. Думается, теперь революционная брага, до сих пор бродившая на флоте, выйдет из котлов, и сдержать её будет очень непросто…
Через несколько минут экипаж эсминца построился на юте по сигналу «Большой сбор», требовавшему присутствия всего личного состава за исключением вахтенных. В тишине, возникшей после торопливого топота многочисленных ног по железу трапов и палубы, и грозных окриков унтер-офицеров, десятки матросских глаз сверлили прохаживающегося перед строем, озадаченно глядящего себе под ноги командира корабля. На ветру, покрепчавшем к вечеру, редкими хлопками полоскался Андреевский флаг; кружа над эсминцем, то плачуще – тонко и длинно, – то, как будто смеясь, отрывисто и часто, вскрикивали чайки.
Наконец, командир остановился против середины строя, высоким, звонким голосом крикнул:
– Экипаж! Довожу до вашего сведения обращение командующего Балтийским флотом: 2 марта сего года государь император Николай II отрёкся от престола. В управление государством вступило Временное правительство.
Матросы стояли всё так же, не шевелясь, только боцман воровато покосился на офицерский строй, да часовой у флага, застывший, будто неживой, очнувшись, как от тяжёлого удара по темени, оторопело округлил глаза, метнул взгляд на товарищей.
– Что это значит для нас? – продолжал выкрикивать командир. – Это значит, что именно теперь мы должны сплотиться ещё более, стать едиными, как пальцы, сжатые в кулак. Мы в ответе за боеготовность флота, несмотря ни на какие внутренние волнения в государстве! В это непростое для Родины время будьте надёжны и добросовестны. Я прошу и требую этого! Защита Отечества и война до победного конца – наш святой долг!
Командир замолчал, обдумывая, что бы ещё следовало сказать, но, поникшим вдруг голосом, закончил свой призыв:
– Разойдись.
– Разойдись! – громко репетовал команду старший офицер.
Часа через полтора после получения радиограммы рулевыми сигнальщиками флажным семафором по кораблям стал передаваться призыв к митингу, который должен был состояться на городской площади Ревеля. Матросы «Лихого» заволновались, начали собираться у сходни. Старший офицер пытался их удерживать, стараясь не обострять ситуацию, как предупреждал командир.
– Братцы! – кричал он. – Оставайтесь-ка, от греха подальше, на корабле. Нечего вам там делать. Всё, что нужно, вы и здесь узнаете!
Но матросы галдели всё громче и дружнее. Командир, наблюдая за происходящим с мостика, вызвал старшего офицера.
«Старший» поднялся на мостик, оставив за себя боцмана в качестве заслона у трапа, и боцман, нутром почуявший вдруг всю серьёзность наступивших перемен, непривычно дружелюбно пробасил:
– Не шуми, братва! Чичас всё решим, сохраняй дисциплину!
Через минуту старший офицер с мостика махнул рукой боцману, давая «добро» на сход.
Гомоня, матросы сбегали по сходне на берег и, на ходу собираясь в неровный строй, шумно удалялись в сторону центра города.
– Надо было удержать их… – глядя им вслед, проговорил «старший».
– Не надо, – командир тоже смотрел на матросскую толпу. – Штаб указал не препятствовать, и я с этим согласен. Пар нужно стравливать постепенно и своевременно, – пояснил он и добавил: – Гораздо важнее, какими они вернутся…
Ненадолго задумавшись, он повернулся к «старшему».
– Я буду у себя. По возвращении команды сразу же сообщите мне.
– Слушаюсь!
По непривычно опустевшему и тихому кораблю, не зная, чем себя занять без подчинённых, потерянно бродили унтер-офицеры – связующее звено между офицерами и матросами. Не на кого было им прикрикнуть, не о чем было распорядиться. Мысли, бегавшие по привычным дорожкам их закостенелого флотского ума, проторенным долгими годами службы, однообразными действиями, примитивные и однозначные, нацеленные только на бесперебойную работу механизма под названием «команда», впервые начали сбоить, натыкаясь в сознании на новые стены, тревожась, пытаясь осветить будущее.
Примерно в том же состоянии в кают-компании заседали офицеры и молчали, думая каждый о своём.
Матросы вернулись на корабль через два часа и, хоть и несколько возбуждённые, продолжили заниматься корабельными работами.
На «Лихом» и, как выяснилось немногим позже, на других кораблях, базирующихся на Ревель, известие о государственном перевороте не вызвало каких-либо происшествий, которых так опасался командир. Раздухарившихся было некоторых своих товарищей матросы сами же и успокоили. Вот только унтерам не посчастливилось, и в первые же часы они на себе вполне прочувствовали последствия изменения верховной власти в стране: со всей накопившейся ненавистью матросская братия припомнила им долгие годы муштры и «жандармства», раскровенила многим лица.
***
4-го марта другая новость потрясла офицеров: в Гельсингфорсе, следуя на митинг, выстрелом был убит командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин.
Кому и зачем понадобилось убивать его?! Слухи о страшных расправах над офицерами, случившимися в ночь революции в Кронштадте и Гельсингфорсе, начали достигать Ревеля. Но им пока не особенно верили: уж больно жуткие передавались рассказы.