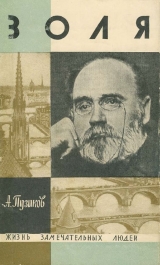
Текст книги "Золя"
Автор книги: Александр Пузиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
К концу семидесятых годов энтузиазм Золя несколько поостыл. Материальное положение его улучшилось, Стасюлевич же не всегда проявлял нужную чуткость к интересам писателя. Так, по его вине не состоялась многообещавшая работа Золя в передовом русском журнале «Отечественные записки», которые в то время редактировал М. Е. Салтыков-Щедрин. Попривыкнув к Золя, Стасюлевич позволял делать в его статьях произвольные сокращения, допускал искажения в тексте. Золя начинало это раздражать, тем более что за последние пять лет положение его во Франции изменилось к лучшему.
С 1880 года «Парижские письма» Золя в «Вестнике Европы» больше не появлялись.
Глава шестнадцатая
Писатель живет не в безвоздушном пространстве. Жизнь настигает его повсюду, заставляя искать соратников и друзей. Флобер мечтал укрыться в башне из слоновой кости, Золя говорил, что он работает, «как купец за конторкой», Эдмон Гонкур гордился своим затворничеством в Отейле.
У каждого из них были свои причины ценить одиночество. Флобер ненавидел мир мещанства и утверждал, что только ненависть к этому миру связывает его с жизнью. Золя ценил одиночество за то, что оно давало ему возможность творить почти безостановочно. Гонкур считал себя аристократом духа, презирал все буржуазное, а заодно чернь, толпу, плебеев.
Но у каждого из этих трех художников была идея, ради которой они покидали свои «башни», квартиры-музеи, уютные кабинеты и вступали в схватку с буржуазной алчностью, обывательским тупоумием, продажностью критики. Они страдали от своего отшельничества и потому искали соратников и единомышленников, способных поддержать их в трудную минуту, они искали друг друга и в конце концов находили. Эдмон Гонкур нашел Флобера, который был старше его всего лишь на один год (это случилось еще при жизни Жюля). Золя познакомился сначала с Гонкурами, которых он считал своими учителями, а затем с Флобером, который был для него почти тем же, что и Бальзак. Одновременно с Золя потянулся к этим корифеям и Альфонс Доде, на творческом знамени которого было написано слово «реализм». Все вместе они нашли Тургенева. С Флобером Тургенева свела Жорж Санд. Гонкуры впервые увидели русского писателя в конце февраля 1863 года на одном из обедов у Маньи. Доде встретил его у Флобера. Флоберу же был обязан и Золя, для которого Тургенев оказался добрым гением. Дружба этих пяти выдающихся писателей сыграла значительную роль не только во французской, но и в европейской литературе.
Встречи писателей, художников, критиков, ученых были популярны во Франции с давних пор. Во времена Второй империи они происходили в многочисленных литературных салонах, а также в кафе и ресторанах. Особенно прославились обеды у Маньи, на которых регулярно встречались Гонкуры, Гаварни, Сент-Бев, Тэн, Поль де Сен-Виктор, Готье, Флобер, Ренан, Тургенев, химик Бертело. Иногда здесь появлялась и Жорж Санд. Начало этих обедов относится к 1862 году. В ту пору Золя было всего двадцать два года, и он мог следить за ними только по хроникальным заметкам в газетах. Состав завсегдатаев обедов постепенно менялся. Первым прекратил бывать на них художник Гаварни, по инициативе которого и возникли эти обеды. После франко-прусской войны черная кошка пробежала между Тэном и Эд. Гонкуром. Последний не мог простить Тэну симпатии к пруссакам. Обеды у Маньи начинали изживать себя.
Вскоре Париж узнал о новых, еще более узких собраниях писателей. 14 апреля 1874 года в кафе «Риш», которое Золя описал в романе «Добыча», сошлись пообедать и потолковать о жизни и о литературе пять именитых авторов. Об этом событии Эд. Гонкур записал в своем «Дневнике»: «Обед у Риша с Флобером, Золя, Тургеневым и Альфонсом Доде. Обед талантливых людей, уважающих друг друга, – в следующую и во все будущие зимы мы намерены повторять его ежемесячно».
Кафе «Риш» находилось на углу улицы Ле Пелетье. Что бы пройти на антресоли, где размещались отдельные кабинеты, надо было подняться по широкой лестнице, устланной ковром. От ковра пахло пылью, и этот неприятный запах перемешивался с легким ароматом жареной рыбы и дичи. Посетителей встречал метрдотель, провожавший гостей в общий зал или отдельный кабинет. Обычно такие кабинеты использовались для интимных встреч с женщинами, но они годились и для веселой мужской компании. Именно в кафе «Риш» жена Саккара Рене отдалась Максиму.
В одном из таких кабинетов этого заведения и начались «обеды пяти». Их называли еще «обедами Флобера», «обедами освистанных», «обществом пяти». Первое время участникам встреч особенно нравилось называть себя «освистанными авторами»: каждого из них постигла неудача на драматургическом поприще. Публика освистала «Генриетту Марешаль» Гонкуров, «Кандидата» Флобера, «Наследников Рабурдена» Золя, «Арлезианку» Доде. «Что касается Тургенева, – вспоминал Доде, – то он дал нам слово, что был освистан в России, но, так как это очень далеко, мы не стали проверять».
Чаще всего встречались у Флобера. У него была вполне приличная квартира на улице Мурильо. Стены кокетливых комнат хозяин отделал пестрой тканью – «алжиркой». Из окон открывался вид на парк Монсо. Сквозь зелень листвы, которая заменяла занавески, виднелся аккуратно разделанный сад. Подстриженные, веселые, всегда политые газоны радовали глаз. По вечерам черные ветви высоких деревьев качались от внезапно налетавшего ветра, и их «широкие колебания напоминали прилив и отлив, а шелест сухих листьев казался рокотом волн». Золя часто любовался парком Монсо, который открывался ему из окон квартиры Флобера, и описал его.
Иногда обедали в ресторанах у Адольфа, у Пеле, у Вуазена… Когда начались встречи, самым старшим участникам уже перевалило за пятьдесят. Тургеневу стукнуло пятьдесят шесть, Флоберу – пятьдесят три, Эдмону Гонкуру – пятьдесят два. В таком возрасте еще многое можно себе позволить, несмотря на одышку (Флобер), подагру (Тургенев), плохой желудок (Гонкур). Самым молодым только что исполнилось по тридцать четыре года. Они тоже любили охать и вздыхать по поводу своих болезней, но оба являли необыкновенный пример выносливости и работали по двенадцати часов в сутки.
Представим себе один из таких обедов. Друзьям захотелось полакомиться, и они отправились к Вуазену, который был в состоянии удовлетворить любые притязания, утолить любые аппетиты. Два лакея, прислуживающие за столом, долго не могут сообразить, что же нужно этим развеселившимся господам. Потрафить им нелегко. Флобер громовым голосом требует, чтобы не забыли тушеных руанских уток, Золя деловито скандирует: «Морские ежи и устрицы, морские ежи и устрицы». Гонкур заказывает имбирное варенье, Тургенев напоминает о черной икре. Когда лакеи уходят, Флобер и Золя сбрасывают сюртуки, Тургенев укладывается на диван, шум стоит невообразимый, и только голос Флобера выделяется в этом многоголосом хоре:
– Ставлю перед вами задачу, господа! Кто возьмется определить особенности литературы, издаваемой людьми с хроническими запорами или поносами?..
Тема подхвачена. Под общий хохот развертывается веселая дискуссия, а между тем стол начинает со сказочной быстротой уставляться яствами. Глядя на них, Золя вдруг вспоминает свою тяжелую юность, когда он вынужден был довольствоваться воробьями, зажаренными на вертеле, или хлебом, пропитанным прованским маслом. При одном воспоминании об этом аппетит его удваивается. Он просто млеет, наслаждаясь вкусной пищей…
– Золя, неужели вы гурман? – спрашивает Гонкур.
– Да, это мой единственный порок; когда на столе нет ничего вкусного, я чувствую себя несчастным. Больше мне ничего не надо – другие удовольствия для меня не существуют. Разве вы не знаете, какая у меня жизнь?..
Но его прерывают.
– Удивительное дело, – замечает Тургенев, – один мой друг, русский человек большого ума, говорил, что тип Жан-Жака Руссо – тип исключительно французский.
Но Золя не обращает внимания на этот намек. Раз уж он начал исповедоваться перед друзьями, его не остановить. Не спеша говорит он о том, как много приходится ему работать и с каким удивительным упорством критика не желает его признавать…
– Вы скажете, что это ребячество? Тем хуже! Мне никогда не получить ордена, никогда не стать членом академии.
Слово «академия» вызывает у присутствующих взрыв негодования. Что может быть ничтожнее этого учреждения, напичканного бездарностями! Все обрушиваются на Золя:
– Полноте, дорогой Золя, неужели вы жаждете этих жалких регалий? И вообще, как можно жаловаться на жизнь, когда тебе тридцать пять лет!
Золя не поняли. По его лицу пробежала тень обиды. Все-таки какая пропасть отделяет человека, живущего на ренту, от такого, как он, плебея, который вынужден с напряжением чернорабочего изо дня в день тянуть свою лямку!
Неожиданное облачко, опустившееся над обеденным столом, однако, быстро рассеивается. Разговор на минуту смолкает. Сейчас все заняты едой, и только отдельные реплики, остроумные и озорные, прерывают обеденный ритуал.
Обед начался в семь, а сейчас еще нет и девяти. После вкусных яств и выпитого вина настроение у всех благодушное. Сейчас начинается, собственно, самое главное. Сюда не приходят с пустыми руками. Каждый делится своими планами, читает отрывки из еще не опубликованных произведений. Флобер рассказывает о замысле «Бювара и Пекюше», у Золя в кармане глава из романа «Его превосходительство Эжен Ругон».
На столе остались только вино и фрукты. Пятеро друзей, как пять заговорщиков, сели поближе друг к другу. Тургенев, подперев седую голову рукой, облокотился на стул. В непринужденной позе застыл Доде. Сосредоточенно молчат Флобер и Гонкур. Они слушают Золя, и в этом внимании уже присутствуют похвала и одобрение. Но у Золя есть свой расчет. Ему обязательно нужно посоветоваться с друзьями. Ведь и Гонкур, и Флобер, и Доде отлично знали жизнь высшего общества времен империи. Сейчас его мучает описание пиршества в Компьене: сколько люстр освещало обеденный стол, шумно ли вели себя приглашенные, что говорил император? На все эти вопросы берется ответить Флобер. И можно только заслушаться этого руанца – так точны и остроумны его пояснения.
Время придвинулось к полуночи, а никто еще не собирается уходить. Теперь заговорили о любви. Золя, который завел этот разговор, утверждает, что любовь – это не какое-то особенное чувство, что она вовсе не захватывает человека столь сильно, как об этом принято думать, что все проявления любви встречаются и в дружбе, и в патриотизме, и так далее… и что большую напряженность этому чувству придает только надежда на плотскую близость.
Тургенев возражает. Он уверяет, что любовь – чувство совершенно особой окраски, заполняющее сердце совершенно необыкновенным ощущением. И он рассказывает о встрече с юной дочкой мельника. «Что тебе подарить?» – спрашивал он ее постоянно. И та, краснея, отвечала: «Привези мне мыла из города – я надушу им руки, а ты будешь целовать их, как целуешь барыням». В устах человека, написавшего «Записки охотника», этот рассказ звучит лирически-грустно. Перед слушателями встает образ русского крестьянина, сохранившего нежную душу, несмотря на вековое рабство, образ дочери мельника, любовь которой к богатому барину была омрачена немыслимым по своим масштабам неравенством.
Время подходит к двум часам ночи. Наконец пора и расходиться. И каждый думает о том, что через месяц он вновь сможет отвести душу среди этих талантливых, умных людей, таких разных и вместе с тем таких близких.
О чем только не говорилось на этих встречах – о литературе, о живописи, о музыке, о написанных и только что замышляемых произведениях; вспоминали времена Второй империи, обсуждали злободневные вопросы политики, вторгались в область науки, делились опытом творчества, рассуждали о галлюцинациях, о смерти. Тургенев рассказывал о России, но мог с таким же знанием дела говорить о французском языке и немецких писателях. Однажды, вспоминает Доде, речь зашла о Гёте, и Тургенев сказал: «Вы его не знаете». В следующее воскресенье он принес с собой «Прометея» и «Сатира», вольтерианскую сказку, «мятежную, нечестивую, расширенную до размеров драматической поэмы». Тургенев переводил экспромтом с немецкого на французский. «И мы четверо, – говорит Доде, – Гонкур, Флобер, Золя и я, упоенные этой грандиозной импровизацией, внимали гению в переводе гения. Этот человек, который, дрожа, стоял перед нами с пером в руке, передавал все дерзания поэта. То не был ремесленный перевод, искажающий и обесцвечивающий, – сам Гёте говорил с нами».
«Обеды пяти» бесконечно обогащали их участников, оттачивали мысль, наталкивали на новые сюжеты. «Беседовали чистосердечно, без лести, без преступного сообщничества для взаимного восхваления» (Доде).
Иногда они не соглашались друг с другом, испытывали чувство охлаждения и разочарования к кому-либо из этой пятерки, но обеды продолжались.
В 1880 году умер Флобер. Пройдут месяцы и месяцы, прежде чем Тургенев вновь попытается возобновить традиционные обеды. Место Флобера оставалось незанятым. Он как бы незримо присутствовал здесь. Но его не хватало, и каждый с грустью вспоминал «густой голос и гулкий смех» великого руанца.
«Флобер был одним из тех, кого я любил больше всех на свете, – говорил Тургенев. – Это не только огромный талант, который ушел от нас, это исключительная натура, центр притяжений для всех нас».
Вскоре болезнь уложила в постель и Тургенева. Он пережил своего друга всего на три года. С его смертью «обеды пяти» навсегда прекратились.
Глава семнадцатая
Главные события в жизни Золя – это новые книги и новые замыслы. Мы знаем немало примеров авторского трудолюбия, но Золя, пожалуй, единственный из писателей, заранее составивший для себя программу действий на десятилетия. Нужна была необыкновенная собранность, воля и вера, чтобы изо дня в день идти к намеченной цели. Трудности, обиды, разочарования не останавливали его. Строчка за строчкой, глава за главой, роман за романом строил он пирамиду «Ругон-Маккаров». Нельзя не удивляться его подвижничеству. Он жил скромно, монотонное его существование, заполненное трудом, прерывалось лишь встречами с друзьями, поездками на отдых, творческими экскурсиями, маленькими радостями и огорчениями семейной жизни И вместе с тем какие только страсти и мысли не обуревали его в тиши кабинета, как учащенно билось его сердце, как напряженно работал мозг в долгие часы творчества!
Современники не сразу оценили этот подвиг, и только немногие друзья – свидетели этой титанической работы – склоняли головы перед его творческим упорством.
Но одного усердия было недостаточно, чтобы сделать то, что он сделал. Золя умел удивительно организовывать свой труд. Он не работал наскоками, рывками, не вдохновение владело им, а он вдохновением. Четыре страницы в день, четыре страницы обычной школьной бумаги, разрезанной пополам. На каждой такой странице не более тридцати линеек, без полей. Он писал почти без помарок. «Одна за другой ложились фразы, законченные, правильные, поразительные по силе логики и ясности. Чувствуешь, как эта проза течет слог за слогом, непрерывно. Это немного – четыре страницы, но это каждый день, каждый день. Это как капля, падающая в одно место и пробивающая в конце концов дыру в тяжелом камне» (Алексис).
Сохранилось немало свидетельств о том, как работал Золя. Они не всегда совпадают в деталях, но вместе дают яркое представление о дисциплинированности писателя, о его целеустремленности.
«Золя поражает всех своей невероятной трудоспособностью, – говорит Мопассан. – Он встает рано и работает не отрываясь до половины второго, после чего завтракает. Около трех часов он снова садится за письменный стол и работает до восьми, а частенько еще и поздно вечером. Работая таким образом, он мог в течение нескольких лет выпускать по два романа в год, давать статьи в «Семафор Марселя», писать каждую неделю хронику для большой парижской газеты и раз в месяц обширный обзор для крупного русского журнала».
Вспомним письмо Тургенева Стасюлевичу: «Надо Вам знать, что Золя, работая с утра до вечера и живя очень скромно и даже бедно, едва сводит концы с концами». Письмо Тургенева относится к 1875 году, Мопассан писал статью о Золя в 1883 году. За это время материальные дела писателя пошли в гору, но успех не вскружил ему голову, и он не изменил своим привычкам. Раз установившийся распорядок дня оставался для него законом на протяжении всей жизни.
Как-то Эдмон Гонкур записал в «Дневнике»: Золя «продолжает рассказывать нам о своей работе, о ежедневном уроке в сто строк, который он заставляет себя выполнять, о своем монашеском образе жизни, о своем домоседстве; единственное его развлечение по вечерам – несколько партий в домино с женой и визиты земляков».
Эта запись сделана 25 февраля 1875 года, а в 1877 году сам Золя рассказал о себе:
«Работаю я самым буржуазным способом. У меня есть положенные часы: утром я сажусь к столу, точно купец в конторке, пишу потихоньку, средним числом страницы по три в день, не переписывая: представьте себе женщину, вышивающую шерстями стежок за стежком; делаю, конечно, ошибки, иногда вычеркиваю, но кладу на бумагу мою фразу только тогда, когда она совершенно сложится в голове. Как видите, все это чрезвычайно ординарно… Но дело-то в том, что все настоящие работники в нашу эпоху должны быть по необходимости людьми тихими, чуждыми всякой рисовки и жить семейно, как какой-нибудь нотариус маленького городка» (письмо Боборыкину, опубликованное в «Отечественных записках» за 1877 год).
Золя верил, что успех в работе писателя на пятьдесят процентов зависит от правильной организации труда. Да и как ему было не верить в это, когда все подтверждалось его собственным опытом. Только труд, размеренный, напряженный труд, труд каждодневный, не зависящий от настроения и внешних обстоятельств, может дать хорошие результаты. Он не делает из этого тайны и только удивляется, что многие не постигли такую простую истину. В статье «Жаба» Золя обращается к молодым литераторам, которые хотели бы достигнуть успеха: «Работайте много, по возможности регулярно, каждое утро, одинаковое количество часов».
Итак, труд, целенаправленный и постоянный, аскетизм в личной жизни, преданность идее, творчеству – вот одно из условий, которое, по мнению Золя, помогает писателю своротить горы.
Но и этого все же недостаточно. В труде должна быть система, у каждого своя, и у него тоже. Еще в юности Золя убедился в том, какое значение имеет предварительная подготовка к работе. Впервые ему пришлось окунуться в хаос событий, документов, фактов, когда он задумал написать «Марсельские тайны». Изучая судебные отчеты, газетную хронику, Золя понял, сколько замечательных тем и сюжетов можно извлечь из всего этого. С тех пор всякая его работа начиналась с собирания материалов и их осмысления. От общей идеи он шел к конкретному, к разнообразнейшему и богатейшему содержанию живой действительности. С самого начала работы над «Ругон-Маккарами» эта система окончательно определилась. Он начинал с «Набросков» – размышлений над замыслом будущего романа. Здесь формулировалась основная идея произведения. Затем он составлял характеристики действующих лиц. В его архивах сохранились черновые бумаги с надписью «Персонажи». После этого следовал «Краткий план», содержащий фабулу будущего произведения, потом «Аналитический план», в котором все произведение дробилось на главы. Тут уже можно найти готовые страницы, переходившие почти целиком, без значительных исправлений в роман. Ко всем этим материалам прибавлялись зарисовки с натуры, вплоть до точных планов местности, где должны были развернуться события романа, а также вырезки из газет и выписки из книг и других документов.
Такая система родилась у Золя из мысли о близости творчества писателя к труду ученого. И хотя это механическое отожествление двух разных профессий вызвало впоследствии немало нареканий, нельзя не признать, что опыт Золя был подхвачен многими писателями и что сейчас почти немыслимо создание крупного социального произведения без использования элементов подобной системы.
Создавая роман «Добыча», Золя дотошно изучает все детали быта светских людей, жизнь финансистов и политических деятелей. Чтобы описать экипажи того времени, он обращается к нескольким каретникам, с натуры рисует известный отель Меньера, в котором, по его замыслу, должен жить Саккар. Для описания оранжереи Рене писатель посещает зимний ботанический сад, изучает редкостные растения, их форму и цвет, в старых газетах черпает сведения о дамских туалетах, какие носили современницы Рене; использует книжные источники и, в частности, книгу Ферри и Лейстера «Картины нового Парижа»; погружается в материалы, характеризующие деятельность городской ратуши во времена перестройки Парижа. Наконец, встречается с самим Ферри, выпустившим в свое время памфлет «Фантастические счета Оссмана», думая получить у него дополнительные сведения о земельных спекуляциях. Не удовлетворенный этой беседой, Золя разыскивает некоего подрядчика, живого свидетеля перелицовки парижских улиц и площадей.
В «Добыче» Золя рассказывает о людях, которых видел издалека, о зданиях, которые созерцал только снаружи, о светских приемах, на которых никогда не бывал. Ему приходилось очень трудно, потому он, не доверяя одному воображению, накапливал груду подготовительных материалов. Следующий роман, «Чрево Парижа», казалось бы, не требовал такой подготовки. Центральный рынок был открыт для всех, торговцев и торговок он знал не хуже других. И тем не менее система труда требовала самого серьезного изучения разных сторон жизни этого своеобразного мирка. Мы уже говорили о том, что Золя задумал описать Центральный рынок с помощью новых приемов творчества, заимствованных у художников-импрессионистов, и посещал его в различные часы дня и ночи, в любую погоду. Он толкается на рынке в часы торговли, но ему нужно присутствовать на нем и в часы разгрузки и сортировки продуктов. Подолгу ходит Золя по прилегающему к рынку кварталу и составляет план окрестных улиц и переулков. Особенно заботит его неосведомленность в административной механике рынка. В библиотеке ему могли предложить только книгу Максима дю Кана «Париж, его жизнь и его организация». Этого совершенно недостаточно. Там нет ничего об инспекторах, о полиции, о правилах торговли. Неутомимый исследователь отправляется в префектуру. Как и в наши дни, его отсылают от одного чиновника к другому, пока, наконец, Золя не находит человека, который с готовностью берется посвятить его во все тайны торгового мира. В итоге у Золя копия всех полицейских правил, впечатления о подвалах, где хранятся запасы продуктов, бесконечные ряды винных бочек.
Затем нужно подумать о персонажах. Золя вглядывается в генеалогическое древо семьи: «У меня будет честная женщина в ветви Маккаров. Честная – нужно условиться. Я хочу наделить свою героиню честностью ее класса и показать, какая бездна трусости и жестокости скрывается в спокойной плоти буржуазной женщины…» Все это Золя заносит в «Наброски», «Списки персонажей». Яснее и яснее становятся сюжет, фабула, основные и второстепенные персонажи.
Рассуждения с самим собой, поражающие порой глубиной и меткостью, останутся в черновых бумагах, в роман войдут ясные, колоритные описания, психологические характеристики, с предельной четкостью раскрывающие идейный замысел писателя.
Такую же кропотливую работу проделывает Золя, прежде чем усесться за роман «Проступок аббата Муре». Он изучает религиозные книги, руководство по отправлению церковной службы, знакомится с одним отлученным священником, который рассказывает ему о нравах духовной семинарии, слушает мессу в небольшой церквушке «Сен-Мари», в Батиньоле. Фантастическое «Параду» он описывает по впечатлениям, какие сохранила его память об одном заброшенном имении около Экса. Буйное царство цветов он изучает не по каталогам, а на выставке садоводства.
Когда приходит время составить список персонажей, у Золя уже готовы портреты главных действующих лиц. Вот, например, брат Арканжиас, который играет такую важную роль в общем замысле этого антиклерикального произведения: «Брат Арканжиас, сорока пяти лет, из конгрегации христианского просвещения. Неотесанный, невежественный, грязный крестьянин, упрямый, как скотина: весь охвачен католическим фанатизмом. Он учит детей грамоте. Он представляет в романе бога карающего, бога ревнивого и страшного… Не придавать этой фигуре ничего возвышенного. Подчеркивать отвратительные и вульгарные стороны. Реальность, разящая вонью, грязь безбрачия, отвратительность евнуха, пахнущего козлом, который не может себя удовлетворить».
Ни одно слово из этой меткой характеристики не войдет в роман, но весь облик Арканжиаса будет именно таким, каким он обрисован в этих немногих словах.
Особенно трудной оказалась работа по собиранию материалов к роману «Его превосходительство Эжен Ругон». Золя вторгался в область, совершенно ему не известную. Он еще мог представить себе жизнь выскочки Саккара, но как описать министров, Наполеона? Этого он не знал и страшно боялся наделать ошибок. Правда, после некоторых разысканий ему попалась любопытная книга – «Воспоминания одного слуги». Но Золя боялся, что такой источник может его подвести, и тогда, как уже говорилось, он обратился к Флоберу и Доде, имевшим возможность наблюдать жизнь двора Наполеона III. Для создания сцены крещения принца Золя перерыл хроникальные заметки в газете «Монитер». Под рубрикой «Политические силуэты» в черновых заметках Золя можно найти сведения о реальных исторических деятелях, министрах Наполеона – Руэ, Марни, Эм. Оливье. Некоторые черты этих деятелей Золя использовал при созданий образа Эжена Ругона, де Марси, Делестана. Среди рукописных материалов к роману обнаружены чертежи зала Законодательного корпуса, наброски описаний Компьена.
Лаконичные записи Золя всегда очень выразительны и полны глубокого смысла. Чего, например, стоит его заметка о Луи Бонапарте: «Самый заурядный ум своего времени, что и послужило причиной его успеха».
Подготовительные материалы к романам, сохранившиеся в архиве писателя, составляют порой внушительный том объемом в несколько сот страниц. Трудно переоценить значение этой работы в творчестве Золя. Сам он относился к ней с величайшей серьезностью и, отвечая на вопросы о том, как создаются его романы, неизменно подчеркивал роль предварительно собранных материалов. Так, по словам итальянского писателя де Амичиса, Золя говорил:
«Вот как делается роман. Я, собственно говоря, его не делаю, а даю ему возможность сделаться самому. Я не умею изобретать факты: этот вид воображения совершенно у меня отсутствует. Если я сажусь за стол, чтобы найти интригу, канву какого-нибудь романа, то три дня терзаю свой мозг, сжав голову руками… Я начинаю работать над романом, не зная, какие события в нем развернутся, с чего начнутся и чем закончатся».
Но роман все-таки не делался сам собой. После того как были собраны материалы, вступали в действие главные силы художника – его талант, его писательский темперамент, его мировоззрение, его творческое воображение. Лучше всего об этой последней фазе работы над романом свидетельствуют признания Золя в романе «Творчество». Именно здесь мы находим ответ на вопрос о том, как в действительности протекал творческий процесс создания того или иного произведения. Это была мучительная, временами драматическая схватка с хаосом эмпирического материала, который постепенно заполнял папки предварительных набросков и планов. Надо было в буквальном смысле слова выстрадать каждый эпизод, каждую сцену, каждый образ романа. И Золя это делал с полной отдачей всех своих духовных и физических сил. Вот почему отрывок из романа «Творчество» – самое правдивое и красноречивое свидетельство о муках писателя:
«…Работа отняла у меня жизнь. Мало-помалу она похитила у меня мать, жену, все, что я люблю. Этот микроб, занесенный в череп, пожирает мозг, завладевает всем телом, всеми органами, грызет его. Утром, едва я вскакиваю с постели, работа захватывает меня, пригвождает к столу, не дает мне глотнуть свежего воздуха; она преследует меня за завтраком; вместе с куском хлеба я незаметно пережевываю фразы для своих книг; она сопровождает меня, когда я выхожу, сидит в моей тарелке, когда я обедаю, ложится вечером рядом со мной на подушку, она так безжалостна, что я ни на минуту не могу расстаться с начатым произведением, которое зреет во мне, даже когда я сплю. Я больше не живу вне работы. Я захожу поцеловать мать, но я настолько рассеян, что спустя десять минут не помню, поздоровался я с ней или нет. У моей бедной жены больше нет мужа, я далек от нее, даже когда наши руки соприкасаются. Иногда меня пронизывает острое сознание, что я порчу жизнь, – ведь залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости, и тогда я терзаюсь угрызениями совести. Но чудовище цепко держит меня. Снова наступают часы творческого ясновидения, и, поглощенный навязчивой идеей, я сразу становлюсь безразличным и угрюмым…»
Постигая искусство романиста, Золя обнаружил, что, «роме трудолюбия, системы в работе, таланта, мастерства и преданности любимому делу, требуется еще одно качество – это мужество, умение сносить обиды, несправедливые упреки, клевету, наветы. Правда, почти с самого начала творческого пути нашлись люди, которых Золя бесконечно уважал и которые поддерживали его добрым словом. То были Гонкуры, Тэн, Флобер и Тургенев, друзья из Экса, Шарпантье, молодые художники, проторяющие новые пути в искусстве. Но пресса! Какие только помои не выливала она на него, какие оскорбления не швыряла по его адресу! То была систематическая, длившаяся долгие годы травля. Порою им овладевало почти отчаяние, ибо писал он свои произведения не для кучки избранных, пусть и великих ценителей искусства, а для широкого читателя, для народа Франции.
Золя устоял, не свернул с избранного пути. В статье «Жаба» он не без горечи писал: «Вот уже тридцать лет я каждое утро, прежде чем приступить к работе, проглатываю по жабе, просматривая семь-восемь газет… Грубые нападки, клеветнические выдумки, полные глупости и лжи, – жабу всегда найдешь если не в одной, то в другой газете. И я снисходительно проглатываю ее». Об этом же он поведал и в романе «Творчество»: «Я уже не говорю о куче оскорблений, которые выпадают на твою долю. Меня они не беспокоят, а скорее подхлестывают, но я знаю и таких, кого нападки сшибают с ног, кто малодушно стремится снискать благосклонность читателей».







