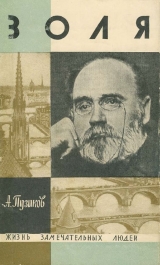
Текст книги "Золя"
Автор книги: Александр Пузиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава двадцатая
Успех «Западни» позволил Золя вздохнуть более свободно и впервые почувствовать независимость от издателей. Сразу же после выхода романа он отправился в Эстак и провел там пять месяцев. Работать можно было и вдали от Парижа, но возить каждый раз больную мать в Сент-Обен, Сен-Назар, Эстак становилось все труднее и труднее. Нужно было подыскать постоянную дачу где-то под боком, и потому, вернувшись из Эстака, Золя предпринял путешествие по окрестностям Парижа. Он обследовал Пуасси, Вилэн, Триель и, наконец, набрел на Медаи – маленькую деревушку в Пуасси.
В представлении Золя его будущая загородная резиденция должна была состоять из очень небольшого и очень недорогого домика и маленького, очень скромного садика. Хотелось, чтобы поблизости была какая-нибудь вода – река или озеро, все равно. Непременным условием он ставил при этом уединенность местности или хотя бы жилища, удобное сообщение. Одним словом, он хотел бы иметь под Парижем кусочек Прованса, где можно было бы легко дышать и работать.
И вот, наконец, в Медане Золя увидел то, что ему было нужно. На левом берегу Сены расположилась живописная деревушка, и около нее, рядом с большим строением, стоял дом с объявлением: «Продается». Золя внимательно осмотрел крепкие запоры, прошелся по крохотному садику, спустился к реке. Кругом было тихо, и только изредка его слух тревожили стук колес и пыхтение паровоза. Рядом пролегала железная дорога.
В Париже Золя навел справки: местность считалась красивой и полезной для здоровья. Когда-то она носила название Мастовок. Лингвисты уверяли, что в основе нынешнего слова «Медан» два кельтских корня – Мая и Дан, которые означали гору и равнину. В это можно было поверить, ибо деревушка была расположена на обширном плато, из которого вырастал внушительных размеров холм.
Золя разыскал хозяина и начал с ним переговоры.
– Я хотел бы снять этот домик на будущее лето.
– Да, но он не сдается. Я ищу покупателя.
– Не покупать же мне дом на одно лето!
– Как вам будет угодно.
Золя оказался в затруднительном положении, но неожиданно возникшее препятствие только больше разожгло его желание поселиться в Медане. После некоторых колебаний и сложных денежных подсчетов он, наконец, решился. Дело было сделано. Впервые Золя становился собственником. В конце мая 1878 года со всеми формальностями было покончено, и Золя вступил в свои владения. Событие было настолько значительным, что Золя счел нужным рассказать о нем своим друзьям, даже тем, которые были в это время в отлучке. Теперь ему казалось, что поступил он очень и очень разумно, и говорил о своей покупке с гордостью и даже восхищением. Первым был уведомлен Поль Алексис. Золя писал ему, что дом утопает в зелени, обособлен от других строений, называл его гнездышком, упоминал о чудесной аллее. В августе он уведомил о своей покупке Флобера, но проявил большую сдержанность в описании: «Я купил дом, кроличью хижину между Пуасси и Триелем, в очаровательной норе на берегу Сены. 9000 франков. Я говорю о цене, чтобы вы не отнеслись с излишне большим почтением к моему приобретению».
Быть собственником оказалось нелегко, потребовалось еще много-много денег и времени, чтобы устроиться в этом «гнездышке» уютно и не ударить лицом в грязь перед друзьями.
Золя прожил в Медане до самой своей смерти, почти четверть века. И сейчас стоит этот домик – одно из памятных литературных мест Франции. Кроме праздных туристов, сюда ежегодно в первое воскресенье октября съезжаются паломники – почитатели творчества Золя.
Дом в Медане запечатлен на многих фотографиях и описан многими писателями. Эдмон Гонкур, например, записал в своем дневнике (24/VI 1881 г.): «Его дом – это безрассудное, нелепое изобретение; сейчас Золя уже вложил в него свыше двухсот тысяч франков, а он все еще выглядит на семь тысяч франков – его покупную цену…
Рабочий кабинет хорош, ничего не скажешь, – просторен, с высоким потолком; однако впечатление портит нелепое убранство: много всякой романтической дребедени, фигур в доспехах; на камине, что посреди комнаты, начертан девиз Бальзака: «Nulla dies sine linea» («Ни одного дня без строчки»), а в углу стоит орган-мелодиум нежнейшего тембра, на котором автор «Западни» любит играть вечерами.
Сад – всего лишь две маленькие, уединенные полоски земли, одна из которых возвышается над другой футов на десять, они уходят к полю, туда, где пролегает железная дорога; за путями еще несколько клочков земли, тоже, если не ошибаюсь, принадлежащие Золя, так же и островок площадью в пятьдесят арпанов, расположенный на реке, замыкающий горизонт».
На Гонкура и сопровождавшего его Доде «этот пустой сад, без деревьев, этот пустой дом, без детей» навеял лишь чувство грусти и меланхолии. Но Гонкур был стар и брюзглив. К счастью для Золя, его домик посещали молодые оптимисты, которые не разучились еще видеть все в розовом свете. Среди них был и Ги де Мопассан, тогда еще Ги де Вальмон.
В мае – августе 1880 года, то есть за год до того, как Эдмон Гонкур сделал свою грустно-ироническую запись, газета «Голуа» напечатала цикл рассказов Мопассана, посвященных приключениям незадачливого чиновника Патиссо. Весь цикл назывался «Воскресные прогулки парижского буржуа», и среди прочих рассказов там можно найти рассказ «Две знаменитости» – великолепную зарисовку с натуры, объектом которой оказались и дом Золя в Медане и сам хозяин.
«Прежде чем войти, они оглядели здание. Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне, крошечный домик, притулившийся у подножья. Этот домик – первоначальное жилище – был построен владельцем. Башню же воздвигнул Золя.
Они вошли в новое здание, и Патиссо, задыхаясь от волнения, стал подниматься по старомодной лестнице во второй этаж… Дверь открывалась в необъятную высокую комнату, освещенную огромным, во всю стену окном, выходившим на равнину. Старинные вышивки покрывали стену; слева был монументальный камин с человеческими фигурами по бокам, в котором за день можно было бы сжечь столетний дуб; низкий стол, заваленный книгами, бумагами, газетами, занимал середину этого помещения, настолько просторного и грандиозного, что оно сразу останавливало на себе внимание, и лишь потом замечали человека, лежащего на высоком диване, на котором могло бы уместиться двадцать человек».
Из окна Патиссо увидел беспредельный горизонт, который просматривался во все стороны до высоты Отри, затем он осмотрел другие помещения, и его поразила «щегольская кухня», где стены и даже потолок были выложены фаянсовыми изразцами. На Патиссо дом Золя произвел вполне хорошее впечатление, и уходил он из него без той грусти, о которой вспоминал в своем «Дневнике» Эд. Гонкур.
Золя в это время было сорок лет. В сущности, он мало изменился. По-прежнему он вел затворнический образ жизни, изредка принимал гостей из Парижа, был все так же застенчив в обыденной жизни, хотя и умел постоять за себя. В рассказе о Патиссо Мопассан сообщает живые подробности о внешнем виде писателя: «Он был среднего роста, довольно плотный, добродушный на вид. Голова его (очень похожая на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века), будучи красивой, отличалась характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос, как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной густыми черными усами; подбородок скрывала короткая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был проницателен, чувствовалось, что за ним работает неутомимая мысль, разгадывая людей, истолковывая их слова, анализируя жесты, обнажая сердца».
Через три года Мопассан еще раз вернется к портрету Золя в очерке об авторе «Ругон-Маккаров», напечатанном в «Ревю бле» (10 марта 1883 г.) Он почти слово в слово повторит свою характеристику, добавив лишь такую черту, как упрямство, проглядывавшее из-за всего его добродушного облика, упомянет он и о глазах, которые пронизывают вас насквозь, и об улыбке, порой злой, и о морщинке, забавно приподнимавшей верхнюю губу и придававшей лицу насмешливое выражение.
Годом раньше портрет Золя нарисовал Поль Алексис в своей книге «Эмиль Золя. Заметки друга». Он отметит полноту в поясе, матовость лица, изящество рук, темно-русый цвет волос, несколько редковатых, маленькую лысину на макушке, характерный лоб, похожий, по выражению Поля Бурже, «на башню», глаза, в которых много нежности и мысли.
Таков Золя в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов, в пору своей зрелости и расцвета творческой силы.
Золя охотно принимал гостей, особенно тогда, когда они сообщали ему о своем приезде заранее. В этом случае он выезжал на станцию Пуасси и самолично встречал приехавших. После завтрака обычно отправлялись на остров (пятьдесят арпанов), где Золя построил красивое шале (деревянный домик в швейцарском вкусе). Внутренность этого летнего помещения производила впечатление своей изящной простотой и монументальной изразцовой печью. Здесь подолгу беседовали, читали рукописи, обменивались планами на будущее. Затем на лодках возвращались домой к обеду. Золя сохранил вкус к обильной и изысканной пище, и по этой причине трапеза надолго затягивалась. Сам хозяин, по словам Мопассана, «был способен есть за трех обыкновенных романистов». После обеда время проводили в дружеских беседах о литературе, о последних событиях в политической жизни, о театральных постановках. Вечером катались на лодке, на борту которой было начертано: «Нана». Вместе с гостями в лодку иногда садилась Габриэль, а порою веселую и довольную компанию сопровождал пес Бертран.
Когда приезжала молодежь, Золя вел друзей посмотреть ближайшие окрестности. Он прихватывал ружье и стрелял в пучки травы, принимая их за вспорхнувшую дичь. Убедившись, что его выстрел был напрасен, Золя огорчался, а присутствующие до слез потешались над его близорукостью.
Среди гостей Золя следует назвать Шарпантье, Гонкура, Доде, Мопассана, Алексиса, Сеара, Энника, Гюисманса. Побывал в Медане и Жюль Валлес, и наш русский писатель Боборыкин, и много-много других людей, желавших поближе узнать знаменитого писателя.
В Медане работалось хорошо, и стены маленького домика были свидетелями многих замечательных замыслов и свершений.
С Меданом связано одно важное событие, известное в литературе как «Меданские вечера». Под таким названием в 1880 году вышел сборник рассказов, в котором приняли участие, кроме Золя, писатели П. Алексис, М. Гюисманс, Г. Мопассан, Л. Энник, А. Сеар.
После выхода «Западни» и первого шквала резко критических отзывов, оказалось, что у Золя есть верные ученики и последователи.
16 апреля 1877 года пять молодых писателей, уже упомянутых в связи со сборником «Меданские вечера», а также Октав Мирбо, устроили в ресторане Траппа обед в честь Золя, Эд. Гонкура и Флобера. Обед этот готовился заранее, и о нем узнала пресса. За три дня до встречи газета парнасцев «Ла репюблик де Леттр» поместила заметку, написанную в дружелюбно-шутливом тоне: «В ресторане, который станет знаменитым, в ресторане Траппа в окрестностях вокзала Сен-Лазар шесть молодых натуралистов-энтузиастов, которые тоже будут знаменитостями: Поль Алексис, Анри Сеар, Леон Энник, М. Гюисманс, Октав Мирбо и Ги де Вальмон – будут чествовать своих учителей: Гюстава Флобера, Эдмона Гонкура и Эмиля Золя. Один из сотрудников сообщил нам меню: суп Бовари, форель а-ля Элиза, пулярдка с трюфелями а-ля Сент-Антуан, артишоки а-ля Простое сердце, мороженое натуралистическое, вино Купо, ликер «Западни». Гюстав Флобер, который имеет «других учеников, указал на отсутствие угрей по-коринфски и голубей а-ля Саламбо».
Поздно вечером после состоявшегося обеда Эд. Гонкур отметил это событие в «Дневнике»: «Нас провозглашали во всеуслышание, провозглашали нас троих крупнейшими мастерами и учителями нашего времени. Итак, нам на смену выходит новый отряд писателей».
Но героем обеда был все же Золя. Именно к нему тянулись молодые авторы, устроившие этот обед.
Они познакомились в разное время. Самым давним знакомым Золя среди них был Поль Алексис. И о том, как произошла встреча между ними, мы уже знаем. Вторым был Сеар. Молодому писателю не сразу удалось установить свои отношения со знаменитым романистом. Попытка встретиться у Шарпантье окончилась неудачей, а дома Золя никого не принимал, всячески оберегая часы работы и досуга от докучливых посетителей. Сеару пришлось прибегнуть к не совсем обычному способу завязывать знакомство. Узнав адрес писателя (ул. Сен-Жорж), он подкараулил его на улице и вручил свою визитную карточку. После короткого объяснения Сеар был принят в число знакомых. Сеар хорошо знал Гюисманса, который в то время был служащим в министерстве внутренних дел. Через несколько недель после встречи с Золя Сеар пришел на улицу Сен-Жорж не один. Его сопровождал Гюисманс. Вскоре Поль Алексис, бывавший часто в редакции «Ла репюблик де Леттр», встретил там Энника. Во время одного из представлений «Западни» Алексис отрекомендовал своего нового приятеля Эмилю, и, таким образом, еще один молодой литератор вошел в круг знакомых автора «Ругон-Маккаров». Все четверо перезнакомились между собой, а вскоре к ним присоединился и де Вальмон, которому покровительствовал Флобер. Дружба молодых писателей была закреплена сначала на квартире у Золя, а потом на обеде у Траппа.
Париж заговорил о новой литературной школе, и брань, которая до этого сыпалась на голову одного Золя, посыпалась теперь и на головы его последователей.
Так, бульварная газета «Ле клош де Пари» по-своему оценила обед у Траппа: «Их было полдюжины у Траппа. Их всего полдюжины, этих хулителей нашей современной литературы, которые пытаются толкнуть нас на новые пути и «возродить» нас. Можно лопнуть со смеха. Их нужно бить наотмашь, эту полдюжину, ибо они угрожают отравить все. А что, если они народят подобных себе?»
После того как дача в Медане была приведена в порядок, пять молодых литераторов стали частыми гостями Золя. Там-то и зародилась мысль об издании коллективного сборника рассказов. О том, как это произошло, поведал Мопассан, поместивший в «Голуа» 17 апреля 1880 года письмо издателю.
Письмо это преследовало рекламные цели и должно было возбудить интерес читателей к только что опубликованному сборнику.
Как-то ночью, в полнолуние, друзья наслаждались чудесным воздухом Медана и говорили о знаменитых рассказчиках. Вспомнили Мериме, стали перечислять и согласились с тем, что самым изумительным из всех им известных остается великий русский – Тургенев. Поль Алексис заметил, что очень трудно написать хороший рассказ. Сеар, глядя на луну, пробормотал: «Вот прекрасная романтическая декорация, надо бы ею воспользоваться», – а Гюисманс заключил: «Рассказывая чувствительные истории». Тут Золя заявил, что это удачная мысль и что каждый из присутствующих должен рассказать какую-нибудь историю. Все выразили восторг от такого предложения. И, еще более осложняя задачу, решили, что обстановка, которую выберет первый рассказчик, будет сохранена остальными. Все приключения должны разыгрываться на одном и том же фоне.
«Мы уселись, – говорит Мопассан, – и среди глубокого покоя уснувших полей, при ослепительном свете луны Золя рассказал нам ужасный эпизод из мрачной истории войны, который назывался «Осада мельницы».
Когда он кончил, мы все воскликнули:
– Это надо скорее записать!
Он засмеялся и ответил:
– Уже сделано».
На другой день была очередь Мопассана, и он рассказал свою неподражаемую «Пышку». Фон оставался тот же – война.
Еще через день Гюисманс поведал историю злоключений рядового, лишенного всякого боевого духа. В сборнике этот рассказ получил название «С мешком за плечами». Следующим был Сеар, выбравший темой своего повествования осаду Парижа. Рассказ назвали «Кровопускание». Энник остановился на потешной и вместе с тем печальной истории осады публичного дома и избиении проституток («Дело большой семерки»). На очереди оставался Поль Алексис, но дело у него не ладилось. «Сначала он хотел рассказать нам о пруссаках, осквернявших трупы. Наше возмущение остановило его, и вскоре он выдумал забавный анекдот о знатной даме, отправившейся на поле боя, чтобы подобрать там своего убитого мужа, и не устоявшей перед «трогательным» видом одного бедного раненого солдата, который затем оказался священником» («После боя»).
Все это было записано, отработано и составило «Меданские вечера». Открывался сборник рассказом Золя «Осада мельницы».
«Меданцы» не представляли какой-либо литературной школы, и по образу своих мыслей и по таланту они были очень не похожи друг на друга. С рассказа «Пышка» началась феерическая карьера Мопассана. Немногим более десяти лет продолжался его творческий путь. В «учениках» ему довелось ходить недолго, и в дальнейшем его связи с Золя ослабели. Своим путем пошел и талантливый Гюисманс. К сожалению, на его творчестве сказались нездоровые веяния конца века, и он зашагал по совсем другой дороге. Верным последователем Золя оставался Алексис – обаятельный человек со скромным литературным дарованием. Не оправдали надежд Сеар и Энник.
Даже в пору, когда создавался сборник «Меданские вечера», «меданцы» не претендовали на то, чтобы составить ядро нового литературного направления, о чем и заявил Мопассан в своем письме к издателю «Голуа»:
«Мы отнюдь не претендуем на то, чтобы считаться литературной школой. Мы просто несколько друзей; благодаря общему нашему восхищению Эмилем Золя мы стали встречаться у него и затем в силу сходства темпераментов, общности взглядов и одного и того же философского направления стали сближаться все больше и больше».
И тем не менее «Меданские вечера» – заметная страница в истории французской литературы, хотя бы уже потому, что они родили «Пышку», родили такой талант, как Мопассан.
Глава двадцать первая
Буржуазный читатель в общем принял и «Западню» и «Нана». Он был даже доволен. «Пороки» народа и пороки «высшего света» ничуть его не касались. Ведь речь шла не о «среднем классе», а о тех, кто населял окраины Парижа и от безысходной бедности катился вниз, речь шла о министрах, депутатах, дамах полусвета, всякой театральной шушере… Средний буржуа даже вырастал в собственных глазах, ибо любил кичиться своей добропорядочностью и добродетельностью.
И Золя решил: наступила пора показать нравы этой респектабельной буржуазии, живущей в «приличных» домах, чинно прогуливающей своих жен в часы, свободные от дел, готовящей своим дочерям приданое, а сыновьям карьеру. Как это лучше сделать? Да очень просто! Вот он возьмет один такой респектабельный дом, которых полно в Париже, и покажет всю подноготную его обитателей. И Золя рассказал о таком доме на улице Шуазель. Это был дом, типичный во всех отношениях. Недавно построенный, он внушал почтение всем, кто проходил мимо: массивные двери, разделанные под красное дерево, широчайшая парадная лестница, ковровые дорожки, протянувшиеся от одного этажа к другому, солидный привратник. Тишина. Порядок.
Кто же населял этот дом, эту крепость современных рыцарей наживы? В одной из квартир разместился домовладелец Вабр, в другой – его зять, советник Дюверди, в следующих – архитектор Кампардон, семья чиновника Жюссерана… «Мы пускаем в наш дом только порядочных людей», – говорит Кампардон. «Нет ничего лучше добродетели!» – восклицает советник Дюверди.
Но вот на улице Шуазель появляется молодой человек Октав Муре, приехавший в Париж из провинции. И чем ближе знакомится он с «порядочными» людьми этого дома, тем больше убеждается, что здесь нет ни одного честного человека. Только материальный расчет соединяет супругов, отцов и детей. Преследуя друг друга, они идут на открытые подлости, измены, предательства. Моральная нечистоплотность, пошлый адюльтер, подмена любви животной чувственностью составляют содержание всей их интимной жизни. Советник Дюверди проводит вечера у любовницы. Теофилю Вабру изменяет его жена. Архитектор Кампардон на глазах у супруги сожительствует с ее сестрой.
Золя ставит своих персонажей в различные жизненные ситуации. Мы видим их за разговором в гостиных и в оплаченных квартирах своих любовниц, при рождении ребенка и у смертного одра, на свадьбе и на похоронах, во время интимных семейных бесед за закрытой дверью и в увеселительных местах, за прилавком и в постели. И везде они верны себе. Удел их жизни – эгоизм, тупость, мелкие интриги и такие же ничтожные страсти.
Они вовсе не безобидны. Они черствы и жестокосердны. Вабр выгоняет из своего дома рабочего, живущего на чердаке, лишь за то, что к нему иногда приходит жена. Это безнравственно! Такая же участь постигает и беременную женщину, у которой нет мужа. Это аморально! Бедняков не щадят, с ними творят расправу в суде, и все это во имя нравственности.
Пустые, трусливые, пошлые люди, враги друг другу, они сходятся во взглядах лишь тогда, когда речь заходит о революции. Память о революционном терроре 1793 года возбуждала в них «ненависть к новым идеям, страх перед народом, который потребует своей доли». Подобный дом не исключение, как бы говорит Золя. Все, что творится здесь, происходит и в других таких же домах, составляющих вместе мир буржуазного класса.
Золя попал в цель. Роман «Накипь» еще печатался в газете «Голуа», когда его автора вызвали в суд. Некий Дюверди, оказавшийся (как и герой Золя) советником суда, «узнал» себя и потребовал, чтобы имя персонажа было изменено. Напрасно Золя доказывал абсурдность этого требования. Суд встал на сторону истца. Не прошло и нескольких недель, как однофамильцы Вабров и Жюссеранов предъявили к Золя те же претензии.
Золя уже имел дело с подобного рода недоразумениями. Ему с трудом удалось убедить некоего Мюффа в том, что он никак не думал изображать его в романе «Нана», что фамилия Мюффа встречается во многих департаментах Франции. Дюверди оказался менее сговорчивым и менее щепетильным. Он предал дело огласке, а на его защиту встал академик от юридических наук господин Русс. Прототипы персонажей «Накипи» решили свести счеты с нескромным автором, вторгшимся в их жизнь. Попутно они хулили и другие его произведения.
Сохранилось множество документов об этом деле, но вряд ли в наши дни стоит говорить о них более подробно. Защищаясь, Золя писал. «Кто принесет ему (автору) удовлетворение? Нет такого суда… Впрочем, нет, такой суд есть, и его приговор будет окончательным. Я говорю о наших потомках» (Золя – де Сиону,9/VI 1882 г.).
Золя работал над романом не спеша. Он отлично знал мир своих персонажей, они окружали его со всех сторон. Ему почти не надо было собирать материалы, обращаясь к книжным и другим источникам. Его заботила лишь точность и четкость своих собственных наблюдений.
Вот что он говорил в эту пору:
«Работа моя по-прежнему двигается ровно. Решительно с этим романом все дело в точности и четкости. Никаких фиоритур, ни следа лирических излияний. Он не доставляет мне пламенных восторгов, но возиться с ним занятно, точно с механизмом, состоящим из множества колесиков, работу которых нужно отрегулировать самым тщательным образом…
Вообще-то я зря к себе придираюсь, потому что, повторяю, я очень доволен «Накипью» (Золя – Сеару).
И действительно, Золя испытывал удовлетворение от своей работы. Он сводил счеты со старым врагом, который, улюлюкая и издеваясь, вот уже сколько лет обвинял его в безнравственности. Теперь Золя высказывал ему всю правду. Но, как всегда, писатель был еще откровеннее, оставаясь с самим собой. В его черновых рукописях мы читаем:
«Говорить о буржуазии – значит бросить французскому обществу самое суровое обвинение. После того как я изобразил народ, показать буржуазию обнаженно и показать ее более отвратительной, хотя она и считает себя воплощением порядка и добродетели».
В 1880–1881 годах Золя издает несколько сборников своих работ по вопросам искусства, литературы, театра. Первым появился «Экспериментальный роман» (1880 г.), затем последовали сборники «Романисты-натуралисты», «Натурализм в театре», «Наши драматурги», «Литературные документы». Золя ничего не писал заново, он лишь собрал и распределил по книгам свои статьи, печатавшиеся в русском журнале «Вестник Европы» и французской прессе («Вольтер», «Бьен пюблик», «Фигаро» и др). Это был своеобразный отчет автора, отстаивающего принципы новой школы в искусстве начиная с 1876 года.
Борьбу за утверждение натуралистической теории Золя рассматривал как дело не менее важное, чем создание художественных произведений. Надо иметь в виду, что для него понятия «натурализм» и «реализм» совпадали. К натуралистам он причислял и Бальзака, и Стендаля, и Флобера. Он не раз оговаривался, что слово «натурализм» не его изобретение: «Я ничего не придумал, даже слово «натурализм», которое есть у Монтеня, с тем же смыслом, какой мы приписываем ему и теперь. В России его употребляют уже тридцать лет» («Поход», 1882).
В основе натурализма (реализма), по мнению Золя, лежит стремление художника к правдивому изображению жизни. Это и заставляет его защищать творческие принципы великих писателей-реалистов. Но Золя кажется, что реализм школы Бальзака – это реализм стихийный. Свой вклад в литературу он видит в том, что обогащает реализм теорией, что ставит его на «научную основу». Однако «научная основа», на которую хотел бы опереться Золя, наносила лишь вред его правильным исходным позициям. Усвоив философские положения позитивистов (Огюст Конт), новейшие теории в области естественных наук (Ч. Дарвин, К. Бернар), Золя механически пытается перенести законы биологии на общество и искусство. Он приходит к мысли, что творчество художника-натуралиста можно уподобить эксперименту ученого.
Все это придавало литературно-критическим статьям Золя противоречивый характер. Наряду с верными характеристиками, которые и сейчас могут быть взяты нами на вооружение, мы встречаем в работах Золя положения неверные, уводящие его в сторону от подлинно реалистического искусства.
Тем не менее появление названных сборников явилось большим событием во французской литературе. Современникам Золя открылась целостная система взглядов художника, глубоко связанная с его творчеством. Золя стал признанным вождем новой школы.
В эти же годы (восьмидесятые) заметно усиливаются противоречия в самом творчестве Золя. Оставаясь бытописателем Второй империи, он все больше и больше внимания уделяет современности. В его произведениях усиливается критика основ буржуазного общества и вместе с тем появляется вера в то, что это общество идет по пути неуклонного прогресса.
Достижения науки, новые формы хозяйственной деятельности буржуазии, некоторые демократические завоевания французского народа, развитие социалистических идей (Золя их усваивал медленно) внушали Золя веру в лучшее будущее. По-прежнему увлеченный новейшими теориями в области естественных наук, он стремился оправдать свой социальный оптимизм, свои иллюзии в отношении возможностей капиталистического прогресса общими законами природы, эволюцией всего живущего от низших форм к высшим. Эти свои взгляды Золя формулировал следующим образом:
«Полное изменение философии: прежде всего никакого пессимизма; не делать выводов о бессмысленности и печальности жизни; наоборот, сделать вывод о ее постоянной трудовой силе, о могущественной радостности ее рождения – одним словом, идти в ногу со временем, выразить век, который является веком действия и победы, усилий во всех отношениях» (из черновых набросков к роману «Дамское счастье»).
В 1880 году, о чем мы расскажем в следующей главе, Золя пережил духовный кризис. Он много думает о смысле жизни, о философской окраске своих произведений. Из этого кризиса Золя вышел со взглядами, о которых мы только что говорили. И первым выражением этих взглядов на жизнь явился роман «Дамское счастье», написанный в 1882 году.
В центре романа – Октав Муре. В «Накипи» он изображен как некий Растиньяк нового времени. Приехав в Париж делать карьеру, этот молодой честолюбец вовсе не склонен предаваться сомнениям и раскаяниям, как это случалось на первых порах с героями Бальзака. В доме на улице Шуазель Октав Муре чувствует себя как рыба в воде. Решив использовать женщин для осуществления своих корыстолюбивых планов, он с удивлением замечает, что почти все они готовы стать его любовницами. Нравственная распущенность обитателей дома, таким образом, только благоприятствует карьере Муре. В конечном счете ему удается добиться руки госпожи Бодуэн, владелицы магазина «Дамское счастье».
Так история возвышения Октава Муре, рассказанная в романе «Накипь», подводит нас вплотную к событиям романа «Дамское счастье».
Прошло несколько лет, госпожа Бодуэн умерла, и Октав Муре становится хозяином крупного магазина. Мы застаем его в начале борьбы с конкурентами. Будучи человеком энергичным и решительным, а главное, молодым и идущим в ногу со временем, Октав создает тип нового магазина. Он широко использует рекламу, идет на коммерческий риск, изучает нравы и повадки покупательниц, постоянно увеличивает товарооборот. Одним словом, он делает то, чего не знала прежняя торговля, и это приносит ему успех. Количество покупателей беспрерывно возрастает, увеличение доходов обеспечивает ему поддержку банка и промышленных предприятий. Дело Муре разрастается, а его ближайшие конкуренты оказываются раздавленными.
Золя шел за жизнью. Он внимательно изучил историю двух парижских магазинов, слившихся в одно крупное предприятие («Лурд» и «Бон-Марше»), беседовал с бывшим хозяином одного из этих магазинов, записывал рассказы продавцов, собирал информацию о постановке рекламы, о выставках товаров, о разных новых приемах торговли.
Золя представляется исторически закономерным появление магазинов-гигантов, и он оправдывает деятельность Муре, хотя и видит оборотную и весьма печальную сторону концентрации капитала в одних руках.
Успех магазина «Дамское счастье» сопровождается трагедией мелких собственников. Бурра, Бодю, Робино, которые еще недавно чувствовали себя весьма прочно в своих маленьких лавчонках, разоряются и пополняют ряды обездоленных бедняков.
Прогресс в области промышленности и торговли закономерен, но он несет неисчислимые страдания тысячам и тысячам людей.
Двойственное отношение Золя к этому процессу отразилось и на его трактовке образа Муре. Он восхищен его энергией, жизнедеятельностью, но вместе с тем видит и присущую ему жестокость капиталистического хищника. Интересы «дела» истребили в Муре человечность. Он бездушен в отношениях с подчиненными, безжалостно их эксплуатирует. Чтобы смягчить как-то отрицательное впечатление, которое производит на читателя деятельность Муре, Золя обращается к своеобразной утопии. И как это ни странно, она возникает у него после чтения романа Чернышевского «Что делать?». Его заинтересовала идея фаланстера, примиряющая, казалось бы, интересы хозяина и его подчиненных.








