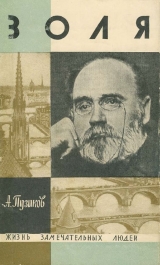
Текст книги "Золя"
Автор книги: Александр Пузиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Глава двадцать восьмая
«Я хочу написать книгу, которую от меня не ждут». Еще не утих шум, вызванный «Землей», а Золя уже работал над новым романом, столь не похожим на другие его произведения. Сентябрь 1887 года он провел в Руайане в Провансе, а вернувшись в Медан, сразу же приступил к обработке материалов, предназначенных для «Мечты».
«Если вы поищете на генеалогическом древе героиню моего романа «Мечта», вы ее не найдете; это дичок, который я к нему привил. Таким образом, дело пойдет о новом отростке «Ругон-Маккаров», который пересадили в мистическую среду и который благодаря специальному уходу окажется видоизмененным. Это будет научный опыт, но вот что составит любопытную особенность произведения: оно может читаться всеми, даже молодыми девушками. Речь идет о поэме любви, но любви насквозь целомудренной, под сенью старого романского собора» (Золя – Ван Сантен Кольфу,22/I 1888 г.).
Что побудило Золя написать этот роман?
Многие не без основания видели в «Мечте» известную уступку писателя критике, желание противопоставить разруганной «Земле» произведение идиллическое, построенное на тонком психологическом анализе, лишенное грубости. Такое с Золя уже бывало. После «Западни», как помнит читатель, он сочинил «Страницу любви». Иные объясняли появление «Мечты» стремлением Золя попасть в академию, снискать признание в официальных кругах. Так как роман создавался в канун встречи Золя с Жанной Розеро, то Лану, тоже не без основания, объясняет его появление общим лирическим настроением автора. А что по этому поводу говорил сам Золя?
«В течение многих лет меня не покидала мысль дать что-нибудь под стать «Проступку аббата Муре», чтобы эта книга не оказалась изолированной в серии» (Ван Сантен Кольфу,5/III 1888 г.). Но это лишь одна из причин, на которые указывает автор. Другую причину он видит в том, что ему когда-то надо было доказать свою способность писать тонкие психологические произведения. «Психологизм» в литературе тех лет, как известная разновидность натуралистического метода, становится все более популярен у писателей – вчерашних соратников Золя. К психологизму повернулся Эдмон Гонкур в романе «Братья Земгано», на психологизме замешано все творчество Поля Бурже. Гюисманс, Мопассан все чаще обращаются к углубленному психологическому анализу своих героев. Становится понятна, быть может, несколько наивная, но вполне естественная в этих условиях фраза Золя: «Раз меня обвиняют в том, что мне недоступна психология, я заставлю людей признать, что я могу быть психологом. Итак, будет психология (или то, что под этим имеют в виду, то есть душевная борьба, извечная борьба страсти и долга)». И еще одно признание Золя: «Мечта» – это отчасти интеллектуальный отдых для меня» (Золя – Ван Сантен Кольфу,16/XI 1888 г.).
Воздействие религии на человека, религиозная экзальтация привлекали Золя и раньше. Этой теме посвящены многие страницы «Проступка аббата Муре», «Завоевания Плассана». К этой теме он обратится в романе «Лурд». Религия занимала большое место в обществе. Поставив целью энциклопедическое изображение современной жизни, Золя не мог не откликнуться в «Ругон-Маккарах» и на эту тему. Однако трактовка ее в романе «Мечта» вызвала недоумение даже у друзей писателя. «Поэма абсолютно целомудренной любви» как бы оправдывала и возвеличивала мистические порывы человека, возникающие у него под действием религиозной обстановки и религиозного чтения. Позднее, в «Лурде», Золя покажет вред, который приносит человечеству религия, преступное использование чувств верующих корыстными служителями церкви. Но здесь, в этом романе, – все идиллия. Религия, старинный храм, «Золотая легенда» Якова Варагинского. Патриархальное существование воспитывает почти неземное существо, трогательную и добродетельную Анжелику. Золя отступает от многих правил, которых он обычно придерживался при работе. Он дает простор вымыслу, пренебрегает возможностью поехать на место действия романа, произвольно создает среду, выдумывает несуществующий городок. «Так как действие моего романа протекает в воображаемой обстановке, то я создаю ее, используя самые разнообразные источники». Этими источниками были книги, советы друга-архитектора, сообщения юриста Габриэля Тибо, информация Анри Сеара. «Среда вымышленная, и, однако, все очень достоверно». Золя отказывается от личных наблюдений – реальной основы описываемых событий. Так поступал он очень редко и потому с тревогой ждал результатов эксперимента: «Если произведение будет уж слишком фантастично и целиком перенесено в область мечты, оно не произведет впечатления». Чтобы спасти положение, Золя старается насытить роман многими вполне реалистическими деталями, почерпнутыми из книг и других источников, и надо сказать, что они точны и убедительны. Труд вышивальщиц, архитектура собора, описание домика, сохранившегося с XV века, правовые отношения духовных лиц, опека сирот, история старых дворянских фамилий, их титулов, их гербов – все это выписано с предельной скрупулезностью.
Золя увлекает и другая экспериментаторская задача – проследить влияние наследственности на формирование характера человека и объяснить отклонения от биологических закономерностей в связи с влиянием среды и обстоятельств жизни. В Анжелике происходит эта «борьба среды и воспитания с наследственностью».
Эксперимент не очень удался Золя. Роман значительно уступал другим произведениям серии и не имел успеха. Его репутацию несколько поддержало сочинение композитора Брюно, создавшего по мотивам романа оперу.
Обычно с «Мечтой» связывается попытка Золя проникнуть во Французскую академию. Воспользуемся и мы этим предлогом, чтобы раскрыть еще одну из сторон характера Золя.
Известно, с каким мужеством автор «Ругон-Маккаров» выдерживал все наскоки критики. Застенчивый от природы, смущающийся на людях, Золя в своих произведениях был мужественным борцом, верящим в справедливость своих идей, человеком принципиальным и бескомпромиссным. Эти последние качества делали Золя «трудным», заставляли многих порывать с ним. Но тот, кто знал его близко и не очень ревниво относился к его успехам, понимал: этот застенчивый, угловатый в быту человек, немного смешной из-за своей близорукости, умный, но порою по-интеллигентски наивный, может на глазах у всех в какой-то миг преобразиться и стать совершенно иным. Так случалось всегда, когда он отстаивал свои взгляды, когда вынужден был, порою в полном одиночестве, бороться со своими многочисленными врагами. Нельзя было не уважать человека, не поддающегося минутным слабостям, умеющего исправлять дурное настроение упрямым безостановочным трудом. Но, как и всякий человек, Золя не был равнодушен к похвале. Успех окрылял его, заставлял еще напряженней работать. Золя радовало, что тиражи его книг растут, что имя его становится все более и более известным. Он по-детски восторгался возможностью поселиться в Медане, видя в этом осуществление своей мечты: жить поближе к природе, чувствовать независимость.
Золя с презрением относился к официальным почестям и все же считал глупым пренебрегать ими. Ему хотелось заставить власти, и особенно ученых мужей из Французской академии, признать свой талант. Заставить признать – значит поставить на колени тех, кто травил его многие годы. Выло ли здесь замешано честолюбие? Да! Но это было честолюбие бойца, одержавшего победу.
Золя был не очень высокого мнения о многих своих читателях. Иные из них покупали его книги потому, что пресса ругала их. От такого читателя ускользали истинный смысл произведения, высокие побуждения автора. Официальное признание могло бы заставить читающую публику более внимательно присмотреться к тому, что вкладывалось в «Ругон-Маккары».
Мысль об официальном признании тревожила Золя давно. Еще в 1875 году он жаловался друзьям по «обедам пяти», что никогда не получит ордена и не удостоится избрания в академию. «Мне не удостоиться тех наград, которые могли бы официально подтвердить мой талант» (Гонкур,«Дневник», 21/I 1875 г.). Но Золя все-таки наградили. Не сразу, но наградили. В начале 1878 года Доде и Флобер ходатайствуют перед министром Барду о представлении Золя к ордену Почетного легиона. Барду обещает, и об этом становится известно в Париже. Однако в самый последний момент к ордену представляется другой писатель – Фердинанд Фабр. Золя искренне огорчен. Самое обидное то, что на протяжении пяти месяцев газеты писали об этой предполагающейся награде. «Я в бешенстве от того, в какое положение поставил меня сей милейший министр… У меня было немало неприятностей, но этот орден, сначала предложенный, о чем писали в газетах, потом, в последнюю минуту, отобранный у меня, – самая неприятнейшая из всех неприятностей, которые мне пришлось переварить…» (Золя – Флоберу,9/VIII 1878 г.).
Золя все же получил этот орден, хотя ему и пришлось подождать десять лет. За это время он успел написать десять романов, выпустить семь критических сборников и два сборника рассказов. То были, пожалуй, самые плодотворные годы его творчества. Обстановка за это время изменилась. Имя Золя победоносно шествовало по странам Европы. Многие деятели искусства и литературы славили его талант. Пришло время и для официальных наград. Мопассан первым советует Золя «принять меры» [12]12
Во Франции того времени получение ордена было связано с унизительной процедурой. Кандидат должен был письменно обратиться к правительству с просьбой о награждении.
[Закрыть]. Но Мопассан опоздал со своим советом. По настоянию госпожи Шарпантье и при содействии министра народного образования Эдуарда Лакруа (без покровителей не вышло бы ничего) Золя представляют к награде, и 14 июля 1888 года он становится кавалером ордена Почетного легиона. Его поздравляют, правда, не всегда искренно и не от всего сердца. Эдмон Гонкур, у которого с Золя натянутые отношения после истории с «Манифестом пяти», в тот же день присылает записку: «От души поздравляю с восстановлением справедливости – хотя и запоздалым», а в «Дневник» заносит: «Но пропади я пропадом, если на месте Золя я сейчас согласился бы получить этот крест. Он, значит, не понял, что принижает себя, став кавалером ордена». Чего не скажешь в порыве раздражения! Гонкуру кажется, что орден Золя – это первый шаг к падению… «Этот революционер в литературе станет однажды командором ордена Почетного легиона и бессменным секретарем академии, а кончит скучными и добродетельными книгами». В более мягкой форме он выскажет эти мысли в интервью газете «Голуа». Но не в привычках Золя оставлять нападки без ответа. В чем, собственно, обвиняет его Гонкур? Почему то, что дозволено Гонкуру, не дозволено ему? «Я получил орден от Лакруа, а Гонкур, в свое время, от принцессы Матильды. Вот и вся разница. Почему орденский крест, бывший свидетельством признания для вас, не будет им для меня?» Очень логично. И Гонкуру действительно нечего ответить.
Но ленточка кавалера ордена Почетного легиона на груди Золя не понравилась и другим его друзьям. Сезанн пожал плечами и презрительно усмехнулся. Все, что связано с официальным признанием, не для него. Унизительно позволять награждать себя бездарям и глупцам! Золя не очень огорчает эта щепетильность друзей. В конце концов за его плечами есть нечто более весомое, чем знаки внимания властей. Придет время, и он получит другую, более высокую награду – станет офицером Почетного легиона. А еще через несколько лет у него этот орден отнимут, когда придется драться за справедливость…
Но больше, чем орден, Золя волнует академия. «Раз Французская академия существует, я должен быть ее членом». Пусть в ней заседают бездарности, пусть это лавочка, в которой ловкость и связи заменяют часто талант и действительные заслуги. Пусть… Начиная с 1890 года Золя много раз баллотируется во Французскую академию наук. У него есть друзья и враги. Среди друзей – Фр. Коппе, Л. Галеви, П. Бурже. Врагов значительно больше, и в их числе такие грозные, как Ренан. Золя это знает. Он знает все, что касается академии. Как-то он написал статью «Дождь венков» – о литературных премиях, ежегодно присуждаемых академией: «Попробуйте собрать все эти удостоенные премии произведения – вам будет чем поразвлечься. Хорошенькое же у вас составится представление о литературном движении во Франции». А происходит это потому, что академия дает премии не столько людям талантливым, сколько «благомыслящим». При этом еще надо, чтобы сам писатель представил свое произведение на суд академии… «Если, скажем, выходит в свет какое-либо первоклассное произведение и автор не присылает его в академию, произведения этого для нее как бы не существует».
Над академией потешались все друзья Золя: и Флобер, и Гонкур, и Доде. Доде написал роман «Бессмертный» – злую сатиру на нравы «святилища» французской науки. Доде сводил счеты с отвергавшей его академией, но когда-то и он намеревался перешагнуть ее порог. Стоило только выйти «Мечте», как поползли слухи: Золя хочет разжалобить академиков: «Видите, каким я стал милым, разумным, примите меня за мою книгу». Это уже слова самого Золя, жалующегося Ван Сантен Кольфу на несправедливое и неправильное истолкование его поступков. Автору «Мечты» все это кажется не только простым недоброжелательством, но и настоящим лицемерием. Делают вид, будто бы не понимают его подлинных целей. Эд. Гонкуру он пишет: «…Будьте уверены, что если я когда-нибудь появлюсь в академии, то сделаю это при тех условиях, когда мне не придется отрекаться ни от моей гордости, ни от моей независимости. Это не опошлит меня, напротив, и это не опорочит меня в глазах тех, кто больше других любил меня, ибо они поймут тогда, чего я хотел, почему и как я этого хотел…» (Золя – Гонкуру,3/VII 1888 г.).
Итак, все признают, что Золя достоин представлять в академии французскую литературу, достоин больше, чем кто-либо из современников, и каждый попрекает его за намерение стать академиком. Интересную шутку можно было бы сочинить на эту тему, ну, скажем, пьеску «О великом человеке из породы добряков». И Золя чуть-чуть не сочинил такой пьески, оставив эскиз. «Добряка» окружают ученики, молодежь. Он становится для них чем-то вроде святого. Они создают ему славу и действуют от его имени. Тяжелая борьба уже позади, приближается старость. Творения учителя всеми признаны, но ему так хочется побыть одному, почувствовать полную свободу. Однажды его хотят наградить орденом. «Как орден! Это унизило бы великого человека!» И орден достается одному из учеников. «Как! Вы станете академиком? Вы слишком велики». И академиком становится один из его почитателей. Один из его учеников отбивает у него любовницу. И все это во имя славы великого человека.
Сюжет ненаписанной комедии Золя изложил в статье «Одинокий» (1896 г.), и, если верить ему, он вынашивал его «уже несколько лет». Нетрудно догадаться, что в этой шутке заключены грустные мысли и чувства самого автора.
В феврале 1891 года Золя вступил в Общество литераторов, но и это ему поставили в вину: «Ищет путей в академию». А члены академии каждый раз проваливали Золя, и проваливали, в сущности, не его, а ту передовую, реалистическую литературу, которая не собиралась быть благонамеренной, отражала жизнь Франции без прикрас, во всех ее острых противоречиях, а иногда и во всей ее неприглядной наготе.
Но однажды Золя почтили. Его избрали – и не только членом, но и почетным председателем… Общества покровителей животных. «Наконец увенчан!» – так откликнулся Золя на это общественное признание.
Глава двадцать девятая
Грустно-ироническая статья «Наконец увенчан!» касалась отношений Золя с людьми. Последние платили ему черной неблагодарностью, но животные – другое дело. Золя вовсе не был сердит на свое избрание. Что же, его любовь к животным общеизвестна.
Было ли то желание заполнить пустоту, которая образовалось у него из-за отсутствия детей? Людская молва наделила подобным чувством старых дев, ищущих утешения в кошках… Нет, Золя решительно с этим не согласен: «Говорят, что животные заменяют детей старым девам, которых не удовлетворяет до конца благочестие. Но это неправда, любовь к животным продолжает существовать и не подавляется материнской любовью, пробуждающейся у женщин».
Любовь к животным вытекала из всего склада характера Золя и, если хотите, из его особого миропонимания. Несложная философия радости бытия заставляла Золя любить все живое. Из этой философии черпал он свое вдохновение, свой оптимизм. Вселенная едина и находится всегда в поступательном движении. Человек обогнал другие формы живой природы, но в своем развитии и он прошел путь от примитивной клетки до развитого мозга. Когда-то и он был неразумным существом. Может быть, отсюда его щемящее чувство любви к беззащитным тварям… Оно развито не у всех, это чувство. Есть, пожалуй, три категории людей – те, кто, любит животных, кто их ненавидит и кто к ним равнодушен. Но первых очень много, пожалуй, большинство. Что можно сказать о них? Любовь к животным – особая любовь, ее не заглушают другие чувства, и, в свою очередь, она не заглушает их… Это чувство – проявление единой всеобъемлющей любви.
Золя вспоминает, как с детства пробудилась в нем любовь к животным и не исчезла с возрастом. В Батиньоле у него был пес Бертран. Когда в декабре 1870 года Золя с семьей перебрался на юг, Бертран был с ним. По возвращении в Париж Золя завел еще одну собаку – Ротона. На смену им пришли Фанфан, Пипин I, Пипин II. Имена кошек не запоминались, но и кошки были непременной принадлежностью дома писателя. Медан позволил до конца удовлетворить эту страсть. Там он создал небольшую ферму, и нелегко перечислить всех ее обитателей: лошадь Бонмон, коровы, куры, голуби, собаки – сторожевые и комнатные и кошки, много кошек.
В «Проступке аббата Муре» Золя описал птичий двор и неодолимую любовь к животным слабоумной Дезире. Тогда еще не было домика в Медане, но уже теплилась надежда завести свою маленькую ферму, где было бы полным-полно всякой живности.
Золя не просто окружал себя животными, он трогательно заботился о них. Сам строил конуру для Бертрана, давал подробнейшие советы жене и матери, как уберечь Бертрана от холода. Сообщая своим друзьям о своем нелегком житье-бытье в Бордо в трудную зиму 1870 года, он не может не упомянуть о Бертране.
Особенно сильным было чувство Золя к крохотной собачонке по имени Фанфан. Золя купил ее на собачьей выставке в Кур-Ла-Рен и не заметил, что пес болен. Когда начинался приступ болезни, Фанфан безостановочно вертелся на одном месте, напоминая живой волчок, и в конце концов падал от изнеможения. Золя брал его на руки, а тот беспомощно продолжал перебирать лапами. Ветеринар посоветовал отравить собаку. Золя отказался («Все животные умирали у меня своей смертью и покоятся вечным сном в уголке моего сада»). Целых два года Золя не расставался с Фанфаном. В утренние часы, когда писатель работал, Фанфан сидел в кресле за его спиной («Он разделял со мной муки и радости творчества»), Фанфан сопровождал Золя на прогулках, ночь проводил на подушке у подножья кровати («Нас связывала такая тесная дружба, что стоило нам ненадолго расстаться, как мы начинали тосковать друг по другу»). Но внезапно Фанфан вновь заболел и умер.
«Почему я так глубоко привязался к этому сумасшедшему песику?» – спрашивал себя Золя. И ответом было: «Это лишь проявление безграничной нежности, какую я испытываю ко всем живым и страдающим существам, братское сострадание, милосердие, распространяющееся на всех униженных и обездоленных».
Так же тяжело пережил Золя и смерть другого своего четвероногого друга – Пипина I. То был донельзя ревнивый и злобный пес, готовый укусить всех, кто близко приближался к его хозяину. С Пипином I Золя разлучила невольная поездка в Англию. Пес не вынес разлуки и умер от тоски. После Пипина I был Пипин II. Этот чуть не разделил участь Золя.
29 сентября 1902 года его нашли угоревшим вместе с хозяином. Собаку удалось спасти.
Может быть, и не стоило так подробно рассказывать об этой «слабости» Золя. Но можно ли назвать любовь Золя к животным слабостью? Сам писатель никогда бы с этим не согласился. Уж очень серьезно было его отношение к животным. Ему даже казалось, что, если «во всем мире восторжествует любовь к животным, она станет залогом всеобщей человеческой любви». Конечно, надо прежде всего защитить самого человека, «надо создать законы, которые запретили бы людям избивать друг друга, обеспечили бы им хлеб насущный, объединили бы их во всемирное братство». Это главное. Но для самовоспитания человечество должно думать и о несчастных бездомных животных, развивать и поощрять любовь к ним.
«Не будем смеяться, – писал Барбюс. – В животном есть все, что есть в человеке, но в уменьшенном размере, в более низкой степени, в более чистом, в более невинном и более доступном зрению виде. Между всеми нашими чувствами нет более человечного, чем любовь к животным». И он с восхищением говорил об этой стороне характера Золя, «одной из самых прекрасных сторон этой прекрасной натуры».
Да, Золя любил животных, но и они – все эти собаки, кошки, маленькая макака Рунка, попугаи, лошадь Бонмон, коровы с фермы – все они отвечали на любовь Золя благодарностью. Частица человеческого разума и человеческой доброты как бы вселялась и в них. И Золя часто вспоминал, с какой лаской смотрели на него усталые и печальные глаза больного Фанфана, как мучился и как искал в разлуке своего хозяина Бертран, какая невыразимая смертельная тоска поразила Пипина I.
…Как это хорошо, когда человек может передать животному часть своей души, какая это награда его гуманности, его доброте! Но бывает и другое, бывает, что в самом человеке просыпается зверь, и все человеческое оттесняется живущим в нем звериным началом. Человек-зверь! Это страшно, но и это бывает в нашей повседневной жизни. Этой теме Золя посвящает свой следующий роман.
Нет нужды подробно рассказывать о том, как собирал Золя материалы для своего нового романа. Все было как всегда. Он изучает работу на железных дорогах (рамка романа), судебные отчеты, дела об убийствах (уголовная линия романа), беседует с юристами, железнодорожниками… Мы уже знаем эту до мелочей разработанную систему: документы, наблюдения, эскизы, планы, наброски.
На современников произвела впечатление фотография, опубликованная в «Иллюстрасьон». Площадка паровоза. Рядом с машинистом стоит Золя. Фотография – результат поездки писателя из Парижа в Мант и обратно. Пока еще никто не знает, что паровоз, на котором заснят Золя, послужит прототипом одного из персонажей романа. Остряки используют этот эпизод. Подпись под одной карикатурой, которая тут же появилась, гласила: «Директор железнодорожной компании отказывается организовать для Золя крушение поезда до тех пор, пока он не станет академиком».
Читатели с любопытством ждали появления нового романа. Что еще преподнесет им Золя после «Мечты»? Может быть, автор «Ругон-Маккаров» навсегда отошел от «грубого реализма»? Или повторится история со «Страницей любви» и вслед за «сиропным» романом появится новая «Нана»? Железная дорога! Не думает ли писатель прийти на помощь железнодорожникам, как пришел на помощь шахтерам, крестьянам?.. Только немногие друзья знали замысел Золя. И то в общих чертах. Лет пять тому назад Гонкур, со слов Золя, записал: «Железная дорога» – роман об одной станции, полной движения, и монография о человеке среди этого движения, и какая-то жизненная драма, – этот роман сейчас еще ему не ясен». А еще раньше, лет десять тому назад, Поль Алексис вместе с Золя наблюдали движение поездов по Нормандской линии, которая проходила рядом с домиком в Медане. Облокотившись на перила широкого балкона, Золя вглядывался в сумерки и ждал появления очередного состава. «Знаете, – говорил он Алексису, – я вижу в глубине пустынных полей, похожих на ланды, одинокий маленький домик сторожа, на пороге которого можно иногда заметить женщину, встречающую поезд зеленым флажком… И вот там, на краю свата и одновременно в двух шагах от чудовищного непрекращающегося движения железной дороги, от непрерывного потока жизни, проносящегося и никогда не останавливающегося, мне чудится драма, простая и глубоко человечная, драма, заканчивающаяся какой-нибудь ужасной катастрофой, вроде столкновения двух поездов, устроенного из-за личной мести…»
А совсем давно, еще при империи, был задуман роман «О судебном мире». Когда в 1873 году план серии уточнялся, Золя сделал следующую пометку: «Судебный роман (железные дороги) – Этьен Лантье». Вот с каких пор зрела идея этого произведения.
«После «Мечты» я хочу написать совершенно иной роман…». «Человек-зверь» и по замыслу и по исполнению отличался не только от «Мечты», но и от других романов серии. Он напоминал скорее «Терезу Ракен» – ранний шедевр Золя. «Прежде всего изучение наследственной преступности» – слова из «Наброска» к роману, не оставшиеся втуне. На этот раз писатель не позволил социальным проблемам заслонить проблему физиологическую. Он действительно отдался изучению связи наследственности, и преступности. В центре романа Жак Лантье. Не Этьен, как предполагалось раньше, а Жак. Имя этого персонажа не найти на генеалогическом древе, которое было приложено к «Странице любви». Его пришлось придумать задним числом и наградить Жервезу еще одним сыном. Жак несет в себе тяжелый груз наследственности Маккаров. Он одержим манией убийства и в конце концов совершает преступление, закалывая ножом свою возлюбленную Северину.
Поставив в центре романа Жака, Золя как бы попирал законы типического, уходил от реализма. Его главный персонаж исключителен. Таких, как он, можно разыскать скорее в учебнике по психопатологии, чем в повседневной жизни. Эдмон Гонкур был во многом прав, когда записал следующие суровые слова: «Романы вроде «Человека-зверя», романы такого сорта, какие фабрикует сейчас Золя, романы, где все от начала до конца – плод выдумки, измышления, сочинительства, где действующие лица являются чистыми или грязными выделениями мозга автора, где и не пахнет пристальным изучением настоящей человеческой природы, – такие романы не представляют для меня в настоящее время никакого интереса».
Так думал Гонкур, но были и другие суждения: «Нет уж, поверьте, это написал поэт. Его огромный и простой талант творит символы. Он порождает новые миры. Греки создали дриаду. А он создал свою Лизон. Неизвестно еще, какому из этих двух созданий отдать пальму первенства, но оба они бессмертны» (А. Франс); «Надо, наконец, решиться принимать Золя таким, каков он есть… он поэт, проникающий в самые темные глубины человеческого существа» (Жюль Леметр); «Золя, как истинный Пигмалион, оживляет своих Галатей, сделанных из руды…» (Эдмон Лепелетье).Пусть ворчат Ренан и Думик, Понмартен и Гонкур – Золя доволен. В этом противоречивом произведении что-то есть, что-то новое и значительное. Недаром молодой Бунин в письме к В. В. Пащенко, сообщая, что роман произвел на него «очень сильное действие», заключает: «Вообще во многих местах только описания, а не изображения. Но в общем сильное, тяжелое впечатление. Великий он все-таки писатель».
Золя и в этом произведении, подчеркнуто-физиологическом, нашел-таки пути к социальной теме. Жак одержим редкой и почти невероятной болезнью, делающей его человеком-зверем, но люди, его окружающие, вполне здоровы, в их наследственности нет никаких аномалий, и тем не менее они страшнее Жака. Перед нами проходит мрачная фигура председателя окружного суда Гранморена, совершающего насилие над молоденькой девушкой. Преступление кончается смертью девушки, а в престарелом судье обнаруживается зверь еще более ужасный, чем тот, который живет в Жаке. Гранморен страшен своим лицемерием, своей животной сытостью, безнаказанностью. Как кошмар, встает перед нами Мюзар, убивающий жену из-за денег. И перед ним, этим утонченным и бездушным убийцей, патологическая мания Жака отступает на задний план. Даже женственная Северина обнаруживает в себе больше звериного, чем Жак, не решающийся по ее наущению убить Рубо. Звериные законы существования, а не дурная наследственность делают всех этих персонажей грабителями и убийцами, все они порождение определенных социальных условий. Так невольно прочитывается этот страшный роман, посвященный проблеме наследственной преступности.
Человек покрыл землю сетью железных дорог. С бешеной скоростью несутся по ним поезда. «Ездить стали быстрее, – говорит тетушка Фази, – да и учености прибавилось… Но звери как были зверьми, так ими и остались, и пусть даже придумывают машины еще хитроумнее, зверей от этого меньше не станет». Прогресс, цивилизация – и темные инстинкты, голос предков, оживающий среди чудес науки и техники. Почему сохраняются они, почему мы повсеместно видим озверение людей, когда повсюду торжествует разум? Золя отвечал на эти вопросы и в «Западне», и в «Жерминале», и во многих других произведениях серии. Секрет озверения человека – в плохо устроенных общественных отношениях, которые позволяют произрастать эгоизму, корысти, ведут к насилию человека над человеком, к мерзостям стяжательства, к убийству, войне. Тетушка Фази ошибается. Придет время, и человек победит в себе животное, разум окажется сильнее инстинкта. Человек не должен быть зверем. Золя верит в будущее, приветствует убыстрившийся темп жизни, любуется созданием рук человеческих – этой второй природой, созданной из камня, железа, стали, природой хитрой и мудрой, не уступающей по силе и красоте природе первозданной.
Читатель найдет в романе много незабываемых картин индустриального пейзажа. Золя его не только видит, но и слышит, осязает. И раньше он вводил в свои произведения описания «второй природы» – городские здания, площади, Центральный рынок, шахты, но сейчас в романе «Человек-зверь» он пошел дальше, одушевил существо из железа и пара. Машинист Жак работает на паровозе, носящем имя Лизон. Жак любит Лизон, как женщину. Она послушна, покладиста. Она прекрасна. Ее ход безукоризнен, ее здоровье чудесно. Как быстро движется она по рельсам, как быстро останавливается, как прекрасно вырабатывает пар! Лизон умна, потому что она умеет экономить топливо, она добра, потому что кормит Жака… Лизон платит взаимностью до тех пор, пока Жак к ней внимателен. Стоит ему полюбить другую и стать грубым с Лизон, как единство человека и машины кончается. Лизон нельзя подчинить своей прихоти, требовать от нее больше того, что она может дать. Равновесие ее таинственной жизни зависит от ухода за ней, от исправности поршней и золотников. Забытая Лизон начинает сдавать, бодрость и резвость ее угасают, она не в состоянии преодолевать небольшие подъемы, останавливается во время пути. В конце концов Лизон умирает при катастрофе. Ее сломило невнимание человека, когда-то ее любившего и любимого ею. От Лизон остался только расколотый торс, раздробленные члены-рычаги. Она напоминала теперь труп – труп человека, вырванного из жизни, лежащего в бесконечной скорби.







