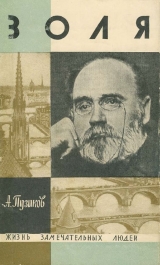
Текст книги "Золя"
Автор книги: Александр Пузиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Но появлялись и отзывы, глубоко ранившие самолюбие Золя. Критик Квидам из «Фигаро» утверждал, что шумный и грубый натурализм «Жерминаля» неестествен. Характеры углекопов неправдоподобны. Другой обозреватель из «Монитер лиеттерер» критиковал метод документального романа: «Если меня интересуют различные особенности работы в шахтах и я захочу действительно их изучить, я возьму специальную статью. И она более тонко и ясно осветит мне вопрос, чем роман, написанный Эмилем Золя».
Золя возмущали эти отзывы своей несправедливостью. Особенно раздражил его отзыв Анри Дюамеля, также помещенный в «Фигаро». Признавая, что многие сцены в «Жерминале» являются шедеврами, Дюамель обвинял автора в искажении фактов, отрицал возможность работы в шахтах женщин после 1874 года, когда были изданы законы, запрещающие использование женского и детского труда под землей. Золя направил письмо в «Фигаро» (Франсису Маньяру), в котором разбивал доводы критика. В самом деле, даже Дюамель вынужден был признать, что такие факты имеют место и по нынешний день на шахтах Бельгии. «А если так, – писал Золя, – то почему я не мог использовать жизненный факт для нужд моей драмы, тем более что действие романа развертывается в 1866–1869 годах?» Дюамель обвинял Золя в очернении действительности, на что ему автор «Жерминаля» отвечал: «Увы, я ее лишь приукрасил. День, когда мы решимся сказать себе всю правду об окружающей нас нищете, о тех страданиях и о том нравственном падении, которые она с собой несет, – этот день будет началом ее конца».
Глава двадцать четвертая
«Жерминаль» и в самом деле явление необычное в литературе XIX столетия. Крупнейшие писатели Европы решали нравственные, морально-этические проблемы, исключая современных пролетариев. Осуждая буржуазное общество, такие художники-реалисты, как Бальзак, Флобер, Диккенс, в конечном счете защищали интересы широких трудящихся масс, упорно искали путей внебуржуазного развития общества, но по разным причинам только вскользь касались проблемы труда и капитала.
Пополнялись ряды пролетариата, зарождались его первые организации, все большее распространение получали идеи марксизма, все острее становилась классовая борьба, а художественного воплощения эти явления не получали.
Причин для этого было много. Какое-то время играла роль неразвитость рабочего движения. Многие писатели были далеки от народа, недостаточно знали его жизнь. Законы развития буржуазного общества были очень сложны, и проникновение в их суть требовало глубоких экономических знаний, философского их осмысления. Нужно было проделать ту гигантскою работу, какую проделал Маркс в «Капитале», чтобы стало ясным существо капиталистических отношений. После появления научного коммунизма необходимо было не только познать великое учение, но и перейти на позиции пролетариата, чтобы до конца раскрылись перспективы будущего. Существовала и эстетическая трудность решения этой проблемы. Нищета, обесчеловеченность рабочего представлялись эстетически труднопреодолимым материалом.
Для Золя грудных тем не существовало. Он с самого начала работы над «Ругон-Маккарами» решил вобрать в свое произведение все классы, все сословия общества, заглянуть в самые неизведанные его уголки и закоулки. Эстетическая программа Золя, несмотря на все ее несовершенство, позволяла ему смело идти навстречу «запретным» темам. Решив обратиться к центральной проблеме века, проблеме, которая «станет наиболее важной в следующем столетии», он, несомненно, делал большой новаторский шаг в художественном творчестве.
Роман Золя не только устрашил буржуазию своим мрачным пророчеством, но и стал союзником угнетенных классов в их борьбе против капитализма. И это не громкие слова. Социалистическая печать величает теперь Золя «автором Жерминаля». Роман читают в рабочих поселках. Вспоминая о книгах, прочитанных в юности, Морис Торез, сам выросший в шахтерской среде, называет «Жерминаль». Год от года растет популярность произведения Золя. В девяностых годах А. Франс отмечает «эпическую красоту» романа. В двадцатых годах нашего века А. Барбюс назвал «Жерминаль» «великой книгой». О влиянии на русскую революционную молодежь произведения Золя поведала нам Н. К. Крупская. Приехав в ссылку к В. И. Ленину, она обнаружила у него фотографию писателя. «Я рассказала ему, какое сильное впечатление произвел на меня роман Золя «Жерминаль», который я впервые читала в то время, когда усердно изучала I том «Капитала» Маркса». В первые годы Советской власти мало было произведений зарубежных классиков, которые так часто издавались бы, как «Жерминаль». «Углекопы» (под таким названием выходили тогда русские переводы романа) учили классовой борьбе и классовой ненависти.
Сам Золя стремился, однако, затушевать революционизирующие идеи своего произведения. Он не раз утверждал, что ограничивался лишь филантропическими целями. «Жерминаль» – произведение, которое зовет к состраданию, а не к революции, – писал Золя издателю журнала. – Я желал лишь одного – крикнуть счастливым хозяевам жизни, тем, кто властвует в этом мире: «Остановитесь, загляните в недра земли, посмотрите на этих отверженных, чей удел – труд и страдание. Быть может, еще не поздно предотвратить роковую катастрофу. Поспешите же отыскать путь к справедливости, не то берегитесь: земля разверзнется, и все племена погибнут в одном из самых чудовищных катаклизмов, какие знала история».
Эта же мысль выражена им и в другом послании (к Франсису Маньяру): «Единственное, к чему я стремился, это показать их (шахтеров) такими, какими их делает наше общество, и тем вызвать такой взрыв сострадания, пробудить такую жажду справедливости, чтобы Франция перестала, наконец, уступать домогательствам кучки честолюбивых политиканов и позаботилась о здоровье и благополучии своих сынов и дочерей». И издатель журнала (в первом случае) и Франсис Маньяр не были теми людьми, которым Золя мог бы открыть свою душу. Золя был заинтересован в распространении произведения и использовал разные тактические приемы. Истинные свои чувства и намерения он мог доверить только подготовительным рукописям и немногим близким друзьям.
Мы уже говорили, что Золя за короткий срок собрал огромный материал для романа. Только черновые наброски и заметки составляют два больших тома (около тысячи страниц). В них содержатся удивительные наблюдения и обобщения. Чего, например, стоит такая запись: «Забастовка – состояние войны между классами»: или знаменитое начало «Наброска», в котором Золя излагает свое кредо: «Роман – восстание наемных рабочих. Общество получило толчок, от которого оно внезапно трещит; словом, борьба капитала и труда. В этом вся значительность книги: она предсказывает, по моему замыслу, будущее, выдвигает вопрос, который станет наиболее важным в XX веке»; или другое место из того же «Наброска», посвященное изображению забастовки, ее значению в настоящем и будущем: «Свирепая борьба. И в конце концов голод и поражение: рабочие сдаются и снова принимаются за работу. Однако закончить грозным утверждением, что это поражение случайное, что рабочие склонились только перед силой обстоятельств, но в глубине души мечтают лишь о мести».
В «Жерминале», как и в «Западне», Золя почти с репортерской точностью описывает условия жизни и труда рабочих. Он подробен в своих описаниях жилищ углекопов, их быта, их досуга. Он исследует влияние труда шахтера на его физическое и умственное развитие. Годы непосильной работы, полуголодного существования нескольких поколений отразились на внешнем облике шахтеров. Смерть здесь приходит рано. Обвалы, болезни, работа под землей, отсутствие элементарных гигиенических условий, скученность сокращают среднюю продолжительность жизни человека.
Все эти факты вопиющей обесчеловеченности рабочих взволновали современников Золя. Это было похоже на обвинительный акт, направленный против правительства, против правящих классов Франции. Многие органы буржуазной печати хотели смягчить впечатление, произведенное «Жерминалем». Автора обвиняли в сгущении красок, в преувеличениях. Золя яростно защищался, настаивая на точности нарисованных им картин.
Но дело было не только в фактах. Золя создал произведение большой художественной силы. Герои романа, любой из второстепенных персонажей оживали под его пером, надолго запоминались. Каждый из них обладал неповторимыми чертами, своеобразным обликом и характером. То была галерея типов, гигантская фреска, на которой художник запечатлел лица, позы, движения шахтеров. Золя изображал массу, но в ней выделялись отдельные ее представители со своими неповторимыми индивидуальными чертами: впавший в детство старик Бонмор, тощий Захария, на лице которого нелепо торчит реденькая бородка, золотушный, недоразвитый Жанлен, чахлая девочка-горбунья Альзира, ожесточившийся Шаваль, озорная толстушка Мукетта. Сколько их, этих незаметных тружеников, составляющих вместе огромную людскую массу, живущую в постоянном смирении, но способную каждую минуту выйти из повиновения и отомстить за свою обездоленность!
Золя обвиняли в том, что он «обидел» шахтеров, изобразив их физическое вырождение и моральную распущенность. Но писатель говорил только правду. Не шахтеров винил Золя. Свой гнев он обрушивал на общество, которое низводит человека до скотского существования. И что особенно важно, Золя увидел в рабочих такие качества, которые возвышали их над другими классами общества. У них начисто отсутствуют инстинкты собственников, они лишены эгоизма и своекорыстия. Если нормой человеческих отношений в буржуазном обществе является отчужденность людей друг от друга, то по законам шахтерской жизни человек обязан помогать человеку. Через весь роман проходит тема трудовой солидарности. Общий труд и общие страдания сближают шахтеров. В них живет чувство коллектива, чувство локтя. Это проявляется и во время организованных сходок, и в черные дни вынужденной безработицы, и в помощи товарищу, попавшему в беду. После обвала все шахтеры превращаются в героев. Они готовы пожертвовать жизнью, чтобы спасти пострадавших: «Они забыли про забастовку, не справлялись даже о заработной плате; можно было и совсем им не платить, они добровольно рисковали собою, раз товарищам их угрожала опасность».
Примечательно, что Золя видит в романе мир, как бы преломленный через сознание шахтеров. Он глядит на события и людей глазами рабочих. Вот, например, Грегуары, мирно живущие в своей усадьбе. Они хорошие люди, сами долго трудились, чтобы разбогатеть, помогают бедным, дочь их Сесиль наделена добрым и отзывчивым сердцем. Но для шахтеров, как и для Золя, Грегуары – собственники. Это главный грех, который сводит на нет всю их показную и дешевую благопорядочность. Стоит разразиться забастовке, и Грегуары превращаются в заурядных буржуа, одержимых собственническими инстинктами. Шахтеры ненавидят их, и эта ненависть передается читателю.
Глазами углекопов смотрит Золя и на директора Энбо. Его личная драма (измена жены) кажется ничтожной, пустяковой на фоне социальной трагедии. «Этот заурядный адюльтер, – писал Золя Эдуарду Роду, – понадобился мне лишь для того, чтобы ввести сцену, где хриплый стон личной боли, который испускает г-н Энбо, звучал бы на фоне грозного рева толпы, в котором рвется наружу боль целого класса».
Увидеть мир глазами шахтеров! Пусть это только художественный прием, но впечатление от него получается огромное. Не автор, а сами герои романа, простые рабочие и работницы, судят об окружающей их жизни. И с их точки зрения эксплуататор остается эксплуататором, какими бы человеческими добродетелями он ни обладал.
Золя долго думал над тем, как ему изобразить главного врага шахтеров – капиталистического предпринимателя. У него было две возможности:
«Либо я возьму хозяина, в лице которого воплощен капитал, что сделало бы борьбу более непосредственной и, быть может, более драматичной; либо я возьму анонимное общество акционеров, словом – то, что обычно для мощной индустрии, то есть шахты будут управляться директором, состоящим на жалованье, и служебным персоналом, а позади них будет находиться праздный акционер, подлинный капитал. Это было бы, несомненно, более актуально, получился бы больший размах, и все представилось бы так, как оно бывает в мощной индустрии» («Набросок»).
Чутье художника подсказало Золя второе решение. В романе нет непосредственного эксплуататора рабочих. Вся ответственность за беды шахтеров лежит на некоей таинственной «Компании». В представлении шахтеров это безликое чудовище, засевшее где-то далеко, в Париже. С ним трудно бороться, с ним нельзя объясниться, его нельзя о чем-нибудь попросить. Это хитроумное изобретение современного капитала вызывает у рабочих порою растерянность. Но это же чудовище помогает сделать им вывод, прийти к невольному обобщению, увидеть своего угнетателя не в одном отдельном капиталисте, но во всем классе собственников.
Так еще никто до Золя не изображал капитал, и это также было важным открытием в литературе. «Указать роману новый путь, вводя в него описания и анализ современных экономических механизмов-гигантов и их влияние на характер и участь людей, – это было смелым решением. Одна попытка осуществить это решение делает Золя новатором и ставит на особое, выдающееся место в нашей современной литературе» (Лафарг).
Роман Золя начинается с появления в шахтерском поселке Монсу безработного механика Этьена Лантье. Ему суждено сыграть значительную роль в последующих событиях. В дни забастовки Этьен становится одним из вожаков рабочих. На наших глазах растет его сознательность и воля к организованной борьбе против шахтовладельцев: «Пролетарский мозг понемногу наполняется социалистическими идеями» (Золя – Сеару). Но Этьен пока не связан ни с одной из партий. И это молчаливо одобряет автор. Сочувствуя шахтерам, Золя не верит, что представители различных социалистических учений ведут их по правильному пути. Ему кажется, что партийные распри среди социалистов мало чем отличаются от той политической возни, какую он наблюдал много лет в буржуазных партиях. И Плюшар (представитель левого крыла социалистического движения – гедистов), и кабатчик Раснер (представитель реформистского крыла – поссиблистов) и русский революционер Суварин (представитель анархизма) заражены, по мнению Золя, честолюбием и тщеславием. И даже Этьен по мере своего духовного роста не сближается с шахтерами, а все больше отдаляется от них: «Он поднялся ступенькой выше, он приобщился к миру ненавистной буржуазии и, не отдавая себе самому отчета, находил удовлетворение в своем умственном превосходстве и достатке».
Золя не верит в сознательное движение пролетариев, не верит в возможность привнесения в это движение элемента сознания. Это был тот порог, перед которым остановился писатель. Движение шахтеров представляется ему как «поток варварского нашествия». Золя любуется этой разбушевавшейся стихией и одновременно испытывает страх перед ней. Изображая массовые сцены, в частности поход шахтеров, Золя делает героем своего произведения толпу. Она способна смести все на своем пути, в том числе и вожаков, которые не могут договориться друг с другом. Но Золя не осуждает этот стихийный бунт, он верит в его законность и конечную победу. Ведь это так согласовывалось с его воззрением на природу и общество, где действуют неумолимые естественные законы, сменяющие старое и одряхлевшее молодым и новым. В этом ключе звучала и концовка романа, которую мы уже приводили.
Для понимания романа очень важен образ Катерины. Она как бы вобрала в себя все плохое и все хорошее, что заложено в ее братьях по труду. Золя с огромным сочувствием и любовью рисовал образ своей героини. Все, что чувствует Катерина, подкупает своей непосредственностью и чистотой. Это чувства нормального человека, не зараженного общим безумием собственничества и стяжательства. Катерина всегда готова «подчиниться обстоятельствам и людям», но в глубине души она постоянно мечтает о чем-то прекрасном и человечном, что дало бы ей удовлетворение и счастье. Несмотря на тяжелое существование, она не гибнет, подобно Жервезе, духовно. Жизнь заставила ее опускаться все ниже и ниже, достигнув «предельных глубин страдания». Но в самом конце своей недолгой жизни, оказавшись засыпанной землей вместе с Этьеном, она побеждает вековую покорность, обретает внутреннюю свободу, утверждая свои человеческие права. И все это как бы символизирует судьбу черного шахтерского народа, его настоящее и его будущее.
Таков один из лучших романов Золя – тринадцатый роман серии «Ругон-Маккаров».
После опубликования «Жерминаля» Золя не расстается с полюбившейся ему темой. Вместе с Бузнахом он работает над инсценировкой своего произведения. К октябрю пьеса готова, но цензура не разрешает поставить ее на сцене, убоявшись остроты выдвинутых вопросов. Но это уже мало огорчает Золя. Его роман победоносно шествует по миру. Из России ему сообщают о публикации «Жерминаля» сразу в четырех русских журналах. Наконец-то заинтересовались творчеством Золя и в Англии, где появились первые переводы его романов. Но радостные вести, как всегда, чередовались с плохими. И этот год был годом утрат. В феврале Золя хоронил Жюля Валлеса, с которым только недавно так сблизился, а в мае хоронили Виктора Гюго – гиганта французской литературы, целую ее эпоху.
Глава двадцать пятая
Все, о чем писал до сих пор Золя, было ему порою мало знакомо. Каждый раз он должен был предельно напрягать свое творческое воображение, чтобы воссоздавать неведомые миры, рисовать персонажей, которых никогда не встречал в жизни. Конечно, он призывал на помощь не только фантазию. Золя умел наблюдать и со стороны, умел использовать каждую деталь, почерпнутую из разговоров с друзьями или из книжных источников. Эффект получался поразительный, и нам дела нет до того, что Золя не жил в великосветских особняках, не торговал на Центральном рынке, не играл на бирже, не пользовался услугами дам полусвета, не работал в шахтах. Мы ему верим и знаем – чутье художника никогда его не подводило, картины жизни, нарисованные им, правдивы, герои его книг – живые люди, с которыми мы и сами когда-то встречались. Но у Золя в резерве всегда оставалась тема, по-настоящему близкая ему и знакомая до мельчайших подробностей. Вот уже двадцать лет, а может быть, и больше, как он живет среди писателей, художников, журналистов. Он встречается с ними дома, в кафе, на выставках, у издателей. Они заполняют его творческую и личную жизнь. С ними ведет он споры, с ними делится своими замыслами, радостями и невзгодами. Их жизнь – его жизнь. Однако Золя долго не решается рассказать обо всем этом – самом ему близком, хотя с начала работы над «Ругон-Маккарами» им задуман роман об искусстве, о творчестве («Рамка одного романа – художественный мир»). Правда, однажды перед нами возник образ Клода Лантье – молодого художника, беспечно бродящего по закоулкам Центрального рынка. Клод рисовал груды живности и овощей и попутно высказывал мысли об искусстве, в которых нетрудно обнаружить мысли самого Золя. В Клоде угадывался Сезанн, но были в нем черты, глубоко роднящие его с автором. Недаром Золя назвал свой первый автобиографический роман «Исповедью Клода», а позднее подписывал некоторые статьи псевдонимом «Клод».
Клод был симпатичен и дорог Золя. Он возвышался над миром обывателей, подкупал своей искренностью и энтузиазмом. Однако судьба Клода была заранее предопределена, потому что Золя записал когда-то «Клод Дюваль (Лантье), второе дитя рабочей четы. Причудливое действие наследственности, передающее гениальность сыну неграмотных родителей. Влияние нервной матери. Интеллектуальные потребности Клода неудержимы и исступленны, как физические потребности других членов его семьи. Безудержность, с которой он удовлетворяет страсти своего мозга, поражает его бессилием. Захватывающий физиологический анализ художественного темперамента наших дней и потрясающая драма интеллекта, пожирающего самого себя».
Золя был последователен и настойчив в осуществлении своих замыслов и до конца работы над «Ругон-Маккарами» старался по возможности не отступать от них. И можно себе представить, как трудно было ему уложить в эту заранее придуманную схему огромный опыт, накопленный им к моменту, когда он решил засесть за роман «Творчество».
Это случилось весной 1885 года. 22 мая умер Гюго. Смерть великого писателя болезненно отозвалась в душе Золя. Последние годы он не раз выступал против своего бывшего кумира, выступал потому, что вел неустанную борьбу против романтического мышления, утверждая натуралистическую эстетику. Надо было отвлечь молодежь от всяческих химер, заставить ее трезво смотреть на жизнь, опираясь на достижения новейшей науки. Но это не мешало Золя уважать и любить автора «Отверженных», преклоняться перед его мужеством в годы Второй империи и, главное, помнить о том, что путь в литературу открыло ему творчество Гюго.
Гюго хоронили как первого человека Франции, со всеми возможными почестями, а Золя в это время думал о далеких годах своего детства, об удивительных прогулках с друзьями, о томиках Мюссе и Гюго, которые были для них почти что молитвенниками.
Первые страницы романа «Творчество» посвящены этим безвозвратно ушедшим золотым дням. Читателю легко было догадаться, что Клод Лантье – это Поль Сезанн, что Пьер Сандоз – это Золя, что Луи Дюбюш – это Байль. К этому времени книга Алексиса была уже широко известна, а там со всеми подробностями рассказывалось о жизни трех закадычных друзей из Экса.
Золя провел черту между собой и Клодом, и это облегчало задачу создания образа центрального героя в полном соответствии с начальным замыслом. Прообразом Клода оказывался Сезанн. Об этом свидетельствуют и подготовительные рукописи: «Мастерская Сезанна. Все черточки его характера. Все его позы». Итак, Клод – это Сезанн, но в общих чертах. Золя вовсе не думал живописать его жизнь. Однако необузданность Сезанна, его темперамент, буйные и подчас устрашающие краски его полотен – это годилось. Может быть, в Клоде было что-то и от Эдуарда Мане да и от самого автора. Как и его герой, Золя испытывал временами страх перед своими замыслами, на собственном опыте знал, как трудно воссоздать в произведениях искусства иллюзию жизни. Эта схватка художника с натурой, может быть, самый драматический момент творчества. Клод – обобщение, и Поль лишь частица его образа.
Так же Золя поступил и с Сандозом, но в этом герое сходства с прототипом (самим Золя) значительно больше. В Могудо угадывался Солари, в Мазеле – Кабанель, в Фожероле – Бурже и Гильме. И опять-таки это только тени живых людей, литературные герои, обретшие в книге иную жизнь, иную судьбу.
Воспоминания о «салоне отверженных» помогли создать Золя сцены с выставочными залами, пригодились ему и окрестности Медана и многое другое, с чем писатель соприкасался в разное время.
Однажды Золя прочитал Сезанну отрывки из романа, и тот только одобрил. Но когда Золя отослал своему другу экземпляр книги, Сезанн ответил весьма холодно, а затем прекратил переписку. Сезанн был явно раздосадован, и можно только догадываться о том, что так обидело художника и что заставило его разорвать с Золя многолетнюю дружбу.
Золя искренно любил Поля, и Сезанн платил ему такой же взаимностью. С первой разлуки они почувствовали эту близость еще больше. Их письма трогательно-нежны. Они поверяли друг другу свои помыслы, сердечные тайны. Сезанн писал в честь Эмиля стихи, Золя посвятил ему сборник «Мой салон». Когда они оба оказались в Париже, духовное общение стало для них необходимостью. «Вечера» у Золя, поездки в Беннекур все больше и больше привязывали их друг к другу. И даже тогда, когда они разлучались надолго, дружба не угасала. В трудные минуты Сезанн обращался к Золя с различными просьбами. Как-то он попросил взаймы денег, а в 1877 году Золя посредничает между своим другом и его матерью. Дело в том, что отношения Сезанна с родителями были весьма натянуты, отец не мог простить сыну его увлечения искусством, а Сезанну претили буржуазные порядки, заведенные в его родном доме. Ссора с семьей стала неизбежной, когда у Сезанна появился ребенок от любимой им женщины. Золя тотчас же получил письмо:
«Я тебя прошу уведомить мою мать, что мне ничего не надо, так как я собираюсь провести зиму в Марселе. Если в декабре месяце она возьмет на себя заботу подыскать мне в Марселе совсем маленькую квартирку, из двух комнат, лучше, однако, в не совсем плохом квартале, то она доставит мне большое удовольствие. Она может переправить туда кровать и все, что нужно для спанья, два стула…» и т. д.
Во время посещения Медана Сезанн чувствовал себя как дома – много работал, рисовал в различных позах Александрину. Золя был счастлив в такие дни, и об этом свидетельствует уже цитированное письмо: «Сезанн здесь, весь мой маленький мирок со мной».
Друзья Золя были также друзьями Сезанна. Художник привязался к Алексису.
Конечно, каждый из них шел своей дорогой, у каждого были свои взгляды на искусство. Золя не скрывал, что его друг не владеет рисунком. Сезанн посмеивался над мелодраматическими эффектами в произведениях Золя, в частности в пьесе «Западня». Но все это были мелочи, которые, кажется, должны были бы отступить на задний план перед долгой и проверенной дружбой.
И все же тихая ссора двух больших художников остается фактом.
Последнее письмо Сезанна к Золя датировано 4 апреля 1886 года. Вот его текст: «Мой дорогой Эмиль, я только что получил роман «Творчество», который ты мне любезно послал. Я благодарен тебе, создателю «Ругон-Маккаров», за память. С мыслью о прошлом жму твою руку».
И все! После этого наступило молчание, молчание с той и другой стороны.
Так как нет убедительных документов, которые объясняли бы причины ссоры, обратимся к догадкам, высказанным близкими Золя людьми. Дениза Ле Блон предполагает, например, что дружба Золя и Сезанна подтачивалась различными условиями их существования. Золя шел в гору, книги его расходились большими тиражами, он становился состоятельным человеком. Сезанн отказался от родительского богатства, безразлично относился к комфорту, постоянно ссорился с жюри салонов живописи. Он был известен, но известность не приносила ему удовлетворения и материальных благ. «Нельзя вообразить, – пишет Дениза, – натуру более странную, более фантастическую, а также и более богемную, чем натура этого друга Золя, неспособного подчиниться жизненному распорядку и буржуазности, с удивлением глядевшего на писателя, который находил удовольствие в своем роскошном кабинете, писал, как «прикованный цепью», и расхаживал по дорогому ковру. Все недоразумения отсюда».
После смерти Золя Дениза часто спрашивала себя, почему же ее отец не пытался погасить ссору, почему не попробовал объясниться. С этим вопросом она однажды обратилась к Александрине Золя.
«Ты не знаешь Сезанна, – ответила та, – он ничего не мог забыть и никогда не менял своего мнения».
Может быть, в этих объяснениях и есть доля правды. И Золя и Сезанн были яркими индивидуальностями, своеобразие их характеров все время развивалось, и это могло отдалять их – двух непохожих людей. Они оставались друзьями, но трещина в их отношениях непрестанно ширилась и постепенно достигла таких размеров, что уже невозможно было дотянуться друг до друга. Возможно, что, прочитав роман «Творчество», Сезанн увидел гораздо больше сходства между собой и Клодом, чем этого желал Золя. Вечно сомневаясь в своем таланте, не почувствовал ли он себя таким же неудачником, как и его литературный двойник, не заподозрил ли он умысла в противопоставлении самодовольного, преуспевающего Сандоза несостоявшемуся художнику.
Вряд ли Золя хотел обидеть Сезанна, но не следует забывать, что в пылу творчества он мало заботился о том, как отнесутся к нему прототипы его персонажей. Во имя художественной правды Золя был беспощаден не только к друзьям и знакомым, но и к самому себе. Еще Эдмон Гонкур с возмущением отмечал, что Золя может использовать для творческих целей даже смертельную агонию самых близких ему людей. Искусство жизненной правды было для Золя превыше всего, он не раздумывая приносил ему в жертву все другие соображения.
Золя окончил работу над романом в феврале 1886 года. Это можно точно установить по письму, отправленному Анри Сеару 23 февраля: «Мой друг, только сегодня утром закончил «Творчество». Этот роман, в котором я предаюсь своим личным воспоминаниям и изливаю свои чувства, неожиданно оказался очень длинным. Он составит семьдесят пять фельетонов «Жиль Блаза». Но теперь с ним покончено, и я радуюсь этому, кстати, и конец вышел неплохо».
Золя был доволен всем романом, а не только его финалом. Он атаковал тему, если так можно сказать, со всех сторон. Была выполнена задача, поставленная в самом начале работы над «Ругон-Маккарами». Образ Клода все же иллюстрировал причуды наследственности, если его трагедию сводить только к этому. Намерения использовать личные воспоминания, «излить свои чувства» тоже воплотились в романе. Удалось рассказать и о мире художников и о своих взглядах на искусство. И еще одну задачу выполнил Золя – он развил тему, которую когда-то разрабатывал Бальзак в «Неведомом шедевре». Золя высоко ценил эту повесть и не скрывал влияния Бальзака на свой роман.
Творчество Бальзака, с мыслью о котором Золя начинал работу над «серией», вновь привлекает его внимание в восьмидесятых годах. В 1880 году он публикует статью «Памятник Бальзаку», а через год в сборнике «Романисты-натуралисты» выходит его большая статья об авторе «Человеческой комедии», напечатанная в свое время в журнале «Вестник Европы». В романе «Накипь» мы встречали героя растиньяковского типа – Октава Муре, в «Творчестве» услышим отголоски «Неведомого шедевра», роман «Земля» перекликался с романом Бальзака «Крестьяне». Золя в эти годы значительно больше уделяет внимания «сквозным героям» серии. Переходит из романа в роман Октав Муре, вновь появляется Клод, уже изображенный в «Чреве Парижа», вновь возникает Саккар в романе «Деньги».
«Неведомый шедевр» Бальзака – это манифест реалистического искусства. «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать…», «схватывать дух, смысл, облик вещей и существ». Так предостерегал Бальзак против возможного натуралистического измельчания искусства, против простого копирования действительности. «Впечатления! Впечатления! Да ведь они случайности в жизни, а не сама жизнь». А это уже в адрес будущих импрессионистов.








