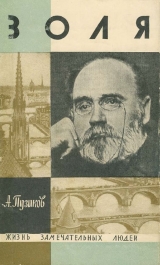
Текст книги "Золя"
Автор книги: Александр Пузиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
До Золя трудно вспомнить писателя, которого можно было бы назвать певцом «второй природы». После Золя им нет числа. Автор «Ругон-Маккаров» никогда не отрывался и от первой природы, любил ее и создавал незабываемые картины всего того, что раскинулось за городами, вдали от железных дорог. Но он первым почувствовал поэзию мира вещей, созданных руками человека. Судьбы людей он связывал с судьбами вещей, и вещи не заслоняли в его произведениях человека.
Для Золя «вторая природа», вещный мир – это застывший в разнообразных формах человеческий труд. Он пытается соединить в некое целое первую и вторую природу, и в этом ему помогают философия радости бытия, его биологический и социальный оптимизм. Воспевая вторую природу, он воспевает творческое могущество человека, способного передать вещам свою душу, свой разум. Вспомните урбанистические зарисовки в «Странице любви» – Париж, одетый в камень, перекинутые через Сену мосты, взвившиеся в небеса башни и шпили, вспомните причудливые контуры Центрального рынка, шахты в Монсу. И вот теперь – железная дорога, очеловеченный паровоз, который можно любить, как женщину.
Глава тридцатая
Последние романы серии. Золя заметно устал. Теперь, когда виден конец, когда мечта, казалось бы, несбыточная, вот-вот должна осуществиться, очень хочется приблизить день завершения «Ругон-Маккаров». Надо создать еще три романа – тот, где главным героем будут деньги, роман о войне и, наконец, итоговый роман, венчающий всю эпопею. Нелегким было начало («Карьера Ругонов»), но когда этот первый рубеж удалось взять, работать стало легче. Романы пошли сами собой. Затем новый рубеж – «Западня». Публику нужно было приучить и приручить. Таких романов она еще не знала. Золя вышел победителем и закрепил успех изданием «Нана». Следующий рубеж – тринадцатый роман серии, «Жерминаль». Золя открыл новую страницу в литературе и поднялся на ступеньку выше. С этого времени он по-иному смотрит на мир. Среди необъятного моря тем, которые подсказывает жизнь, есть главные, коренные, всеобщие темы века. Пусть прозаически звучат они для читателя: промышленный рабочий, современный крестьянин, земельная собственность, деньги, – но какая это находка для большого художника, сколько граней содержат они в себе, как велика общественная польза от обращения к ним. Читатель привык к легкому чтиву, к романам об адюльтере, к щекочущей нервы мелодраме, к сладким грезам и розовым концовкам. Но принял же он в конце концов «Западню». От художника зависит, чтобы эти необычные, «немодные», серьезные темы заставили читателя трепетать и думать над жизнью, над будущим. Со времени работы над «Жерминалем» он стал мудрее. От «Жерминаля» протянулись нити к «Земле», и вот теперь тема денег. Не как частный случай, а как проблема века. Современное общество – это общество, где господствуют деньги. Какова же их роль? Добро или зло несут они людям?
В письмах к друзьям, в «Наброске» к роману Золя говорит: «Я не ополчаюсь на деньги, не запрещаю их, я показываю их необходимую до сего дня силу, как двигатель цивилизации и прогресса» (Сантен Кольфу,9/VII 1890 г.). «О деньгах – не нападать и не защищать их…» («Набросок»).
И это двойственное отношение Золя к деньгам говорило скорее, не о его ограниченности, а о глубоком понимании общественных противоречий в современном обществе.
Роль денег исторически менялась. Когда-то деньги прятали в кубышку, любовались ими, как папаша Гранде, затем они стали двигателем торговли, промышленности. А теперь появились совсем новые формы жонглирования деньгами. «Я хотел не только изучить, какую роль сейчас играют деньги, но также указать, чем было когда-то состояние и чем оно может быть завтра». Деньги и будущее! Работая над романом, Золя вновь повторит фразу о социализме, выразив почти в тех же словах свое удивление: «Всякий раз теперь, когда я начинаю какое-нибудь исследование, я наталкиваюсь на социализм». Золя не обмолвился, не забыл. Адресат был тот же – Сантен Кольф. Прошло четыре года, но писатель счел нужным повторить эту мысль, ибо и теперь, изучая проблему денег (как раньше проблему рабочего и крестьянина), он снова «натолкнулся на социализм».
Чтобы охватить проблему в целом, нельзя было ограничиться рамками Второй империи, хотя Золя всячески старается указать на приметы времени. Действие романа развертывалось в определенные годы (1864–1868), в нем точно воспроизводились наиболее значительные события – война в Германии и Италии, гибель мексиканского императора Максимилиана, приезд Бисмарка в Париж, образование итальянского королевства… Золя мастерски воспроизводит этот исторический колорит, но для решения главной задачи ему нужны факты более позднего времени. Так появились в романе колоссальные банки, которых не знала еще империя, новые формы финансовой деятельности, характерные для восьмидесятых-девяностых годов. Мы знаем, что Золя при этом вспоминал финансовое общество Бонту и Федера, основанное в 1868 году. Это общество, носившее название «Юнион Женераль», потерпело в 1882 году крах, а его организаторы пошли под суд. Записки Бонту составили канву сюжетной линии романа.
Золя и раньше не очень смущало то, что он вводит в свою историческую эпопею события и факты более поздней эпохи. Так было и в «Дамском счастье», и в «Жерминале», и в «Земле». Эти анахронизмы отнюдь не мешали ему как художнику, скорее наоборот, помогали усилить воздействие на современного читателя. Современники обратили внимание на эту черту в творчестве Золя, а Поль Лафарг отметил ее как чрезвычайно важную. И еще одна любопытная деталь. Золя, как мы уже говорили, в это время как бы вновь проходит по дорогам, проложенным Бальзаком. Работая над «Творчеством», он вспоминал «Неведомый шедевр», создавая «Землю», думал о «Крестьянах», а теперь деньги. У Бальзака не было какого-то особого произведения, посвященного этой теме, но деньги являлись как бы лейтмотивом всего его творчества. Бальзак осуждал власть денег. Они заставляют страдать тех, у кого их нет, но не приносят счастья и тем, кто ими владеет. Деньги всегда связаны с преступлением, с отказом человека от высоких и благородных идеалов. Деньги – сила, но сила разрушительная. Так думал Бальзак. В его время происходило перекачивание богатств из карманов дворянской знати в карманы новых властителей жизни. Разные это были люди, и по-разному относились они к богатству. Были среди них и такие патриархальные накопители, как Гобсек, как Гранде, но были и ловкие спекулянты, умеющие приумножать одним махом свое состояние – такие, как Нюсенген, Тайфер, Келлер. Но даже у этих последних накопительство и ростовщичество играют не последнюю роль, сфера приложения денег еще очень и очень узка. Во времена Золя, в последнюю четверть века, капитализм шагнул вперед, изобрел новые формы финансовой деятельности. Деньги перестал прятать в кубышку даже мелкий собственник. Редко лежат они теперь в виде слитков в сейфах частных банков. Деньги приведены в головокружительное движение, сфера их применения стала необъятной. От этого они не стали чище. Золя видит, что и сейчас стремление разбогатеть любыми путями, с помощью любых средств не менее отвратительно, чем во времена Бальзака. И сколько трагедий связано с погоней за богатством! Все это так. Но только с помощью денег в настоящее время рождаются чудеса техники, осваиваются пустыни, покоряются моря, строятся гигантские заводы, магазины, дворцы. Что будет завтра – другой вопрос. На него есть ответ у социалистов. Но сегодня деньги нельзя ни осуждать, ни оправдывать, они простая историческая необходимость, способствующая пока движению цивилизации. Не возвращать же человека к тому состоянию, когда он бегал голый на четвереньках. Деньги «многим открыли достоинства жизни: свободу, гигиену, чистоту, здоровье, даже чуть ли не умственное развитие…» («Набросок»).
Золя увлеченно работает над своим новым произведением, материалы к которому он стал собирать в начале 1890 года. Он часто жалуется на трудность темы, на хлопоты по добыванию различных документов («Это будет, конечно, самая сложная… из моих книг» [13]13
Письмо к Сантен Кольфу от 9/VII 1890 г.
[Закрыть], «он (роман) дается мне с большим трудом» [14]14
Письмо к Анри Сеару от 4/IX 1890 г.
[Закрыть], «я просто никогда не был в таком затруднении» [15]15
Гонкур Э., Дневники, 12/III 1890 г.
[Закрыть]. И тем не менее темпы работы над романом поистине стремительны. Чтобы составить себе представление о быстроте, с какой Золя воплощал свой замысел в жизнь, приведем три записи из «Дневников» Гонкура:
12 марта 1890 г.:
«– Золя, что вы сейчас пишете?
– Я никак не могу взяться за дело. И потом тема моего романа «Деньги» так обширна, что просто не знаешь, с какого конца подойти».
16 октября 1890 г.:
«У Шарпантье встречаю Золя, который только что принес начало рукописи своего романа «Деньги».
20 марта 1891 г.:
«Отлично, добротно скроен роман «Деньги».
Эта последняя запись сделана через год после первой. (Отдельным изданием «Деньги» вышли 4 марта 1891 года.) Таким образом, Золя потребовалось меньше года, чтобы собрать нужный материал, разработать план произведения, написать роман и выпустить его в свет.
Судьбу «Всемирного банка», историю возвышения и падения Аристида Саккара Золя многочисленными деталями связывает с общим замыслом своей эпопеи.
История Второй империи образно как бы сопоставляется с историей возникновения, развития и падения колоссального банка. Это сравнение последовательно развито на страницах романа. Первый и решительный успех битвы при Садовой не случайно оказывается и триумфом «Всемирного банка». Этот первый успех Саккара, говорит Золя, «совпал с расцветом империи, находившейся в зените своей славы. Он был как бы участником ее величия, одним из ярких ее отблесков».
Банк Саккара растет. Он окружен целой армией акционеров. В салонах говорят только об акциях «Всемирного банка». На Лондонской улице возвышается дворец-реклама, здание, похожее на величественный храм и кафешантан одновременно. Никогда еще ни одно предприятие не имело такого решительного и всеобщего успеха.
Но за стремительным возвышением Саккара следует такое же стремительное падение. В крушении «Всемирного банка» Золя видит искупление за «всеобщее безумие, преступления других, менее видных фирм, подозрительную деятельность множества предприятий, раздутых рекламой, выросших, как чудовищные грибы, на прогнившей почве империи». Судьбы империи, «Всемирного банка» и Саккара оказываются не отделимыми друг от друга. Если события, описанные в «Добыче», изображали второй день царствования Наполеона III, то в «Деньгах» изображен предпоследний день его власти и его славы. Следующим романом мог быть только «Разгром».
Все это относится к общему замыслу «Ругон-Маккаров» как произведению, ограниченному определенными историческими рамками. Но мы уже говорили, что Золя в это время больше интересует проблема денег, как она выглядит сегодня и как она будет выглядеть завтра. Прежде всего это относится к характеристике форм капиталистического хищничества, и в частности борьбе Саккара и Гундермана. Гундерман и Саккар – две системы, два различных способа наживы. («Еврей – олицетворение старого денежного мира, мой центральный герой – представитель нового денежного мира» («Набросок» к роману).
Гундерман связан со старыми методами финансового хищничества. Он солидный «торговец деньгами», сильный своим миллиардом, всегда готовым к услугам затеваемых им операций. Наоборот, Саккар представляет собой новую систему хищничества, он не только конкурент Гундермана, но и его критик. Гундерман уготовил слишком спокойное существование своему миллиарду, но будущее не за него, будущее требует быстрого обращения капиталов, их неразрывной связи с промышленными и строительными предприятиями.
При системе Саккара в Малой Азии, в Средиземном море возникают реальные ценности в виде городов, рудников, железных дорог, пароходных обществ. Состояние, добытое Гундерманом за целое столетие, Саккар наживает в течение нескольких лет. Спокойную рассудительность и холодный расчет сменили кипучая деятельность и инициатива. Симпатии Золя на стороне новой системы, на стороне Саккара. Предприятие Саккара построено на привлечении к делу мелких, разрозненных капиталов, лежащих в бездействии в бумажниках и сундуках буржуа, дворян, рантье. Ему нужны чудовищная, опьяняющая реклама, невиданный дурманящий успех. Агенты, пресса, политика, литература – все пускается в ход, все подчинено созданию популярности «Всемирного банка». Однако, отдавая предпочтение «Всемирному банку», Золя в то же время обнажает хищнический характер его деятельности, его жестокость и бесчеловечность. Судьба Саккара и его предприятия оказывается связанной с судьбой многих тысяч людей. На этом очень искусно построена интрига романа. История величия и падения «Всемирного банка» вызывает у читателя интерес не только потому, что им руководит Саккар, но и потому, что в нем сосредоточились чаяния и надежды других героев романа. Бовилье, Мажандры, Мазо, Дежуа, Гюре, Сабатини, Каролина, Гамлен и другие существуют в произведении, поскольку существует «Всемирный банк». Их частные драмы и интересы, их личные радости и беды зависят от биржевой котировки акций, владетелями которых они являются.
Крах банка влечет за собой неисчислимые бедствия. Мажандры разорены. Бовилье продают особняк и перебираются в наемную квартиру, от Дежуа уходит его дочь Натали, Мазо пускает себе пулю в лоб. Тщетность иллюзий мелких собственников становится понятной, так как выиграй битву Саккар – под развалинами других банков погибло бы не меньше жертв, чем под развалинами «Казны гроба Господня».
Изображая трагедию мелких собственников, Золя показывает, какой глубокий след оставляют в их сознании предприятия, подобные «Всемирному банку». Жертвы Саккара не только оправдали его и не перестали верить в то, что он озолотил бы их с головы до ног, но и сами не разочаровались в принципах нового способа обогащения. Сложный механизм спекуляции новейшего типа покрыт для них глубокой тайной.
Решив не осуждать деньги, Золя тем не менее вызывает у читателя горячий протест против их господства над человеком. Тогда что же оправдывает существование денег? Думая над этим, Каролина, в уста которой Золя стремился вложить свои собственные воззрения, приходит к выводу, что Саккар прав: «До сих пор деньги служат навозом, удобрением, благодаря которому разовьется будущее человечества; деньги, отравляющие и разрушающие, представляют фермент всякого социального роста, утучненную почву, необходимую для великих работ, которыми облегчается существование».
Золя двойственно относился к буржуазному прогрессу и преувеличивал его возможности, но он занимал более правильную позицию, чем те, кто критиковал капитализм с позиций прошлого, кто звал человечество назад, к примитивным патриархальным общественным отношениям. Это надо иметь в виду, читая страницы романа, которые писатель посвятил оправданию исторической необходимости денег и новых форм финансовой деятельности.
Впрочем, Золя не исключал и другое решение проблемы. В романе выведен представитель утопического социализма Сигизмунд Буш. Не очень разобравшись в учении Маркса, Золя делает Буша выразителем марксистского учения. Ошибка эта была легко замечена современниками. К чудаковатому мечтателю Бушу Золя испытывает симпатии. Вместе с ним он делает вывод о преходящем значении денежного принципа. Однако болезненный и хилый Буш не способен к действию. Он способен разрушать современное общество лишь на бумаге. Время Буша не пришло, и его идеи пока лишь наивная греза.
Есть в романе еще одна идея, которую Золя постарается воплотить в последующих своих сериях и особенно в серии «Четвероевангелие». Эта утопическая идея, заимствованная у Фурье, должна, по мнению Золя, ускорить наступление классового мира и упразднить на земле социальную несправедливость. Три главных персонажа романа – банкир Саккар, инженер Гамлен и его сестра Каролина – воплощают в себе символический союз денег, науки и веру в философию «радости бытия». (Позднее эта формула прозвучит как союз капитала, труда и таланта.) Пока этот союз терпит поражение, но Каролина уверена, что победа придет: «…над всей этой развороченной грязью, над этим множеством раздавленных жертв, над всеми этими невыразимыми страданиями, которыми человечество платит за каждый свой шаг вперед, возвышается неведомая и далекая цель – нечто совершенное, прекрасное, справедливое и окончательное – цель, к которой мы идем, сами того не сознавая…»
Глава тридцать первая
ВОПРОС: – Господин Золя! 1 сентября 1891 года в газете «Фигаро» вы опубликовали статью, посвященную двадцатилетию поражения Франции. Что побудило вас это сделать? Какое отношение имеет она к «Разгрому»?
ЗОЛЯ: «До сих пор воспоминания об этом несчастье заставляют сжиматься сердца всех честных французов от позора и гнева… Не следует более ни скрывать, ни оправдывать наши поражения. Нужно их объяснять и относиться как к ужасному уроку. Нация, пережившая подобную катастрофу, является бессмертной нацией, непобедимой в веках. Мне хотелось бы, чтобы от этих страшных страниц и Седана исходило спокойное доверие, чтобы они прозвучали как страстный призыв к возрождению Франции».
ВОПРОС: – В 1880 году в сборнике «Меданские вечера» был опубликован ваш рассказ «Осада мельницы», использованный в «Разгроме». Можно ли считать, что уже тогда вы думали об этом романе и готовили материалы к нему?
ЗОЛЯ: «Осада мельницы» – рассказ, начисто выдуманный, который сначала был опубликован по-русски в «Вестника Европы», санкт-петербургском журнале (1877 г.).. Я лишь воспользовался фактами, слухи о которых везде носились в воздухе. Но все – среда, местность, персонажи, содержание – было создано мною и без малейшей мысли о моем будущем романе…»
ВОПРОС: – Раз уж вы посвятили роман франко-прусской войне, то нужно ли было вам касаться последующих событий, в частности событий Коммуны?
ЗОЛЯ: «План мой всегда предусматривал, что я дойду до Коммуны, ибо я рассматриваю Коммуну как прямое следствие падения империи и войны…»
ВОПРОС: – Работали ли вы над романом во время вашего последнего путешествия по Пиренеям?
ЗОЛЯ: «Нет… Я могу работать, только устроившись хотя бы на несколько дней в одном месте. На этот раз я увозил в моем сундуке пять первых законченных глав, надеясь их перечитать, а у меня даже и на это не нашлось времени».
ВОПРОС: – Посетили ли вы Эльзас и Лотарингию и другие места, которые описали в романе?
ЗОЛЯ: «Нет, я не побывал ни в Эльзасе, ни в Лотарингии. Я хотел бы отправиться в Мюльхауз и вернуться через Белфор, чтобы проделать весь путь отступления 7-го корпуса. Мой роман открывается этим отступлением. Но у меня опустились руки перед скучными хлопотами о паспорте и перед назойливым любопытством, которое, несомненно, будет возбуждено моей поездкой… Моя главная забота – это Реймс и Седан и, главное, окрестности Седана».
ВОПРОС: – Можно ли вас понять так, что центральным эпизодом, ради которого написано все произведение, является Седан?
ЗОЛЯ: «Как всегда, я хотел включить в книгу всю войну, хотя мой центральный эпизод – это Седан. Под «всей войной» я понимаю: ожидание на границах, походы, сражения, панику, отступления и т. д… Я всегда, как мы говорим, глазами все съел бы, да желудок не позволяет. Когда я берусь за какой-нибудь сюжет, я хотел бы, чтобы в нем поместился целый мир. Вот откуда мои мучения – в этом желании огромного, всеобъемлющего, которое никогда не будет удовлетворено».
ВОПРОС: – Какова история названия «Разгром»?
ЗОЛЯ: «Название «Разгром» истории не имеет. Я его выбрал уже давно. Оно одно хорошо говорит о том, чем должен быть мой роман. Это не только война, это крушение династии, это крах целой эпохи».
ВОПРОС: – Что вы можете сказать о композиции книги?
ЗОЛЯ: «Я разделил роман на три части, по восьми глав в каждой; таким образом, всего в нем двадцать четыре главы… Первая часть содержит первые поражения на Рейне, отступление от Шалона и поход от Реймса до Седана. Вторая часть целиком посвящена Седану. Это сражение, развернутое на двухстах страницах. Третья часть – это оккупация, лазареты, наконец, осада Парижа и в особенности пожары во время Коммуны под кровавым небом, которыми я кончаю».
ВОПРОС: – Как готовились вы к написанию романа?
ЗОЛЯ: «Я следовал моему постоянному методу: бродил по тем местам, которые описываю, читал все письменные документы, которых невероятно много; наконец, подолгу беседовал с актерами драмы, срок постановки которой я мог приблизить. А вот что мне больше всего послужило для «Разгрома». Когда война была объявлена, среди безработных представителей свободных профессий, среди адвокатов, молодых учителей, даже среди представителей университета, старых профессоров, были люди, очень часто имевшие широкое образование, и, освобожденные от военной службы, они сами вступали в армию простыми солдатами. Вечерами, на биваке, они записывали свои впечатления и приключения в маленьких записных книжках. У меня на руках было пять-шесть книжек, которые мне были письменно предложены, то в оригинале, то в копии; одна или две даже ненапечатанные. В этих книжках меня больше всего интересовала жизнь, пережитое. Все они были похожи друг на друга. Их объединяла совершенная общность впечатлений. И вот самый фон «Разгрома» я получил из этих книжек».
ВОПРОС: – Как вы относитесь к своему роману?
ЗОЛЯ: «…Вы хотите знать, доволен ли я? Разве я вам уже не говорил, что я никогда не бываю доволен книгой, пока ее пишу? Я хочу все вместить в нее, я всегда в отчаянии оттого, что возможность осуществления ограничена размерами книги».
Такого интервью Золя не давал, но все его ответы доподлинные. Извлечены они из писем к Ван Сантен Кольфу, а также из статьи «Седан», напечатанной незадолго до выхода романа.
Золя редко писал предисловия к своим книгам. Как-то он даже сказал по поводу «Земли»: «Мне никогда не приходило в голову писать предисловие. Моя книга будет защищаться сама». Но Золя немного лукавил. Он любил разговаривать с читателем и делал это разными способами – составлял рекламные объявления, отвечал критикам, беседовал с друзьями, развивал мысли в подготовительных записях, которые не оставались вовсе незнакомыми для близких товарищей. В шутку или всерьез, но однажды он выразил пожелание, чтобы нашелся такой издатель, который печатал бы не только его романы, но и подготовительные материалы к ним. И это было бы не только поучительно, но и облегчило бы ему жизнь. Недоброжелатели обвиняли Золя иногда в том, в чем он не был никак виноват. Писателю стоило извлечь из своих папок «Наброски» и «Планы», чтобы начисто разбить своих противников. Так было и с «Разгромом». Поражение Франции надолго запало в умы и души французов. Прошло двадцать лет, а позор седанской катастрофы щемил сердца. Никогда еще национальное достоинство граждан великой страны не было так унижено. Хуже всего было то, что многие официальные лица, и особенно военные, не желали вдуматься в причины поражения и, одурманенные шовинизмом и реваншизмом, готовы были толкнуть Францию на новые авантюры. Реваншистская демагогия кружила головы обывателям, заставляла их рукоплескать генералу Буланже, поддерживать бредовые лжепатриотические лозунги. Со всем этим и собирался воевать Золя в своем новом романе. Он заранее знал, что кто-то его может обвинить в антипатриотизме, в пораженчестве, знал это и немного волновался. Но он знал также, что его высшая цель – подлинный патриотизм. «Я хочу вскрыть причины разгрома и показать, почему нация с таким героическим прошлым неудержимо катилась к Седану. В этой первой части «Разгрома» должны быть обстоятельно изучены причины поражения» («Набросок»).
Когда реакционная военщина попыталась напасть на Золя, он был во всеоружии. Он прочитал около ста книг, не только французских, но и немецких. Военные приказы, распоряжения, сводки, донесения – все было у него под рукой. А сколько изучено альбомов, карт, инструкций, наставлений! Каждая мелочь должна быть учтена, потому что роман придирчиво прочитают и специалисты-военные и просто те, кто участвовал в войне с Пруссией. Надо побывать на месте событий, проделать путь, который прошла армия Мак-Магона, – от Реймса до Седана, изучить места боев. Надо знать до мельчайших подробностей военный быт, психологию солдата и офицера. А форма? Легко установить, каким было обмундирование французов, а немцев?
Материалов так много, что пришлось заказать подвижную этажерку особой конструкции – только так можно было разобраться в этом хаосе документов. Но самое главное – беседы с очевидцами, знакомство с записными книжками старых вояк. Золя мог бы составить небольшую воинскую часть – столько у него добровольцев, помощников, желающих рассказать о страшных днях поражения Франции. Все это пригодилось, потому что его обвиняли в антипатриотизме, ловили на мелких погрешностях. Не обошлось и без клеветы. Некий Танер прислал из Германии в «Фигаро» письмо. Он заступался… за французскую армию, обвиняя автора «Разгрома» в умалении силы французского оружия. То-то обрадовались некоторые французские генералы! А дело обстояло просто. Немцам хотелось показать, что они разгромили достойного противника, и тем самым возвеличить свою победу. Золя разгадал этот маневр и ответил.
Еще один немец-издатель включил в предпринятое им издание «Разгрома» оскорбительные для французов иллюстрации. Золя и в этом случае пришлось обороняться и протестовать. Но общая оценка романа была восторженная. Золя читал подписи под похвальными рецензиями: Фаге, Баррес, Пелисье, Верлен, Франс и даже Леон Доде. Ни одной «жабы». Роман переводили почти на все европейские языки, его читали в Америке. «Успех, которым пользуется книга, превзошел все мои ожидания, и я бесконечно счастлив». (Золя – Альфреду Брюно,8/VII 1892 г.).
«Разгром» является логическим завершением социальной эпопеи Золя. Во многих романах, которые создавались в восьмидесятых – начале девяностых годов, писатель относил события к последним дням империи и, пользуясь прямыми намеками и символикой, давал читателю почувствовать близость неизбежной развязки. Круг замкнулся. Раздираемая социальными противоречиями, Вторая империя ринулась в последнюю авантюру и завершила свое бесславное существование. И надо же так случиться, что роман, который по окончательному плану должен был завершить «Ругон-Маккары» (социальную историю империи), появился почти в самые дни печального юбилея – двадцатилетия седанской катастрофы. Создавая «Разгром», Золя думал и об этом событии, и о происках военщины, использовавшей траур Франции в своих интересах, и о близком окончании «Ругон-Маккаров», и о своем отношении к войне. Когда-то он написал рассказ «Кровь» и поместил его в «Сказках Нинон», рассказ наивный, построенный на примитивных аллегориях, снах, символах. Четыре солдата расположились на ночлег после боя, и каждый из них увидел сон. Одному приснилось, как маленький ручеек крови стал широкой рекой, а та превратилась в безбрежное кровавое море; другому пригрезилось омерзительное убийство, против которого восстало все живое; третий увидел во сне людей, убивающих друг друга из-за любви, из-за жрецов, из-за царя, из-за всевышнего; четвертый – распятого Христа… «Скверное наше ремесло, – сказал один из солдат. – …Я знаю такой уголок, где плуги нуждаются в рабочей руке. Хотите ли попробовать трудового хлеба?» И все четверо выкопали большую яму и погребли там свое оружие, чтобы обратиться к новой, мирной жизни.
За восемь дней до франко-прусской войны Золя поместил в «Ла Клош» очерк, заканчивающийся словами: «Будь проклята ты, война, обрекающая Францию на слезы». Но не всякую войну следует осуждать. В статье «Да здравствует Франция!» Золя прославит истинного патриота, отправляющегося на фронт, чтобы отдать свою жизнь не за интересы империи, а за интересы Франции. Свое отношение к войне Золя не раз выскажет и в «Марсельском семафоре», где его сотрудничество продолжалось несколько лет. В журнале «Вестник Европы» (1877 г., книга 6) он поместит статью «Мои воспоминания о войне», в которой также проведет черту между милитаризмом и патриотизмом. «Без сомнения, война – ужасное дело. Жестокое зрелище – международные войны. В наших гуманных мечтах о прогрессе война должна исчезнуть в тот день, когда нации мирно обнимут друг друга. Но сейчас даже философы, проповедующие мир, берутся за оружие, если отечество в опасности». Войне посвящен патриотический рассказ «Осада мельницы», войне посвящена и статья «Седан», о которой уже говорилось.
Золя много размышлял о войне, и эти размышления далеко не просты. Осуждая войны, Золя не встает на путь непротивления, на позицию пацифизма. Войны бывают всякие, и он делит их на «династические и национальные» («Мои воспоминания о войне»). Война, затеянная Наполеоном III, чужда народу, но, когда реакционная прусская военщина вторглась в пределы страны, именно народ поднялся на защиту родины, и его борьба стала справедливой.
Отдавая дань вульгарному осмыслению идей дарвинизма, Золя порою делает вывод, что «война такая же мрачная необходимость, как смерть. Война в крови человека». Эту точку зрения мы найдем в подготовительных рукописях к «Разгрому». Однако в самом романе мысль о неизбежности войн Золя ни разу не выдает за свою собственную, оставляя ее на совести Мориса. Позднее Золя придет к более глубокому пониманию войны и ее причин. В незаконченном романе «Справедливость» он поставит современные войны в прямую зависимость от социальной организации государств.
Итак, в романе «Разгром» Золя анализирует причины поражения французской армии. Слово «анализирует» можно употребить лишь условно. Перед нами проходят одна за другой живые, выхваченные из жизни сценки, которые лучше всяких авторских рассуждений поясняют происходящие события. Золя достигает удивительного художественного эффекта, изображая движение огромных людских масс по дорогам Франции. Короткий разговор солдат на привале, несколько реплик офицеров, и читатель сам оказывается как бы вовлеченным в действие. Его охватывает тревога, порою ужас от этого бессмысленного передвижения колоссальной армии, обреченной на поражение. Он почти физически ощущает тяжкие лишения солдат, непроходящую усталость, голод, растерянность. Обозы с провиантом никогда не приходят вовремя, долгожданный отдых после длительного перехода неожиданно отменяется, случайно обнаруживается отсутствие санитаров, нехватка тридцати тысяч запасных частей для винтовок; офицеры и генералы не знают плана местности, по которой движется война, отсутствует единое командование, и в части поступают разноречивые приказы. Все это происходит до седанской катастрофы, но призрак поражения, как жуткий кошмар, нависает над усталыми и смятенными людьми в шинелях. Солдаты видят растерянные лица офицеров, слышат печальные вести с фронтов, и еще до встречи с неприятелем в армии начинается разложение.







