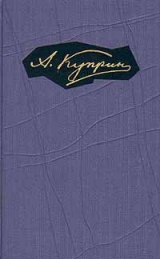
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 39 страниц)
…А сознаться в этом запретном грехе они до сих пор не решились. И потому-то очень жалко, что в русской литературе до сих пор не появилось настоящей, умной, смелой и справедливой книги об этом щедром, веселом, героическом и великом Дюма.
(1918)
Нансеновские петухи
В своих замечательных записках о Северной экспедиции Фритьоф Нансен рассказывает, между прочим, про злосчастную судьбу петуха, находившегося со своим верноподданническим гаремом на борту «Фрама». Оказалось, что бесконечная полярная ночь совершенно перепутала в его петушином сознании все представления о времени и о явлениях природы. Он так привык к тому, чтобы вслед за его звонким криком послушно всходило великолепное солнце, что в первый раз, когда оно не выкатилось из-за горизонта, петух гневно ударил шпорой и уже приготовился сказать, подобно своему знаменитому тезке: – Мне кажется, что я ждал?
Но солнце не появилось даже с опозданием. Петуху пришлось повторить свой возглас еще раз, и еще, и еще. Солнце не повиновалось. Через несколько ужасных дней петух сошел с ума. Он стал кричать почти без перерыва, побуждаемый к этому светом зажигаемой лампы, чьим-нибудь резким движением, внезапным шумом; чаще же орал без всякого повода.
Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Вероятно, никем не услышанный и не понятый, забывший свои прямые обязанности, презираемый даже собственным, прежде столь раболепным курятником, потерявший сон и аппетит, он дошел до полной степени изнурения, нашел свой жалкий конец в матросской похлебке или в животах лапландских ласк.
Признаться, этот конец мне, любителю чувствительного, не по душе. Я бы все-таки хотел увидеть, как вместе с предсмертным криком петуха из-за морского горизонта брызнули первые золотые лучи солнца… Он все-таки победил! Не в обиду будь сказано трагической тени нансеновского шантеклера – описание его последних дней очень напоминает мне времяпрепровождение иных русских деятелей за границей. С большой одной разницей. О чем думал в полярные ночи повелитель солнца – несчастный и нетерпеливый, – этого мы никогда не узнаем. Легче представить себе мысли Наполеона на Св. Елене. Но мысли эмигрантских, ненастоящих шантеклеров весьма доступны исследованию, ибо они почти ежедневно, черным по белу, печатаются в газетах.
Посудите сами. Они с непоколебимой ясностью, совершенно так же, как нансеновский петух, чувствуют и сознают тот густой мрак, который окутал не только Россию, но и весь мир, и так же, как и он, потеряли понятие о месте и времени выхода солнца. Живой петух, по крайней мере, всегда устремлял, по великому инстинкту, свой страстный взор на восток. Эти, скорее похожие на жестяного флюгерского петушка, вертятся во все стороны, скрипя на заржавленном стержне, и постоянно ориентируются:
«Большевизм эволюционирует. Подождем немного! Он сам себя съест». «Надо, надо, поскорее надо смелым и умным людям ехать в Советию принять участие в новом строительстве, чтобы потом взорвать большевистскую власть в самой ее сердцевине и предотвратить анархию!»
«Снимите немедленно союзную блокаду, заведите свободную, товарообменную торговлю, и – поглядите – большевики падут в одночасье!» (Почему?) И наконец:
«Ничего не нужно предпринимать! Могучий народ сам, повинуясь внутренним силам справедливости и негодования, восстанет и стряхнет с себя коммунистическое иго. Тогда нам останется только прийти и володеть. Смотрите! Смотрите! Он уже подымается. Он уже поднялся!» (Ах, как старо! «Но настанет пора, и проснется народ, разогнет он широкую спину» и т. д. Когда это было?) Так вращается жестяной нансеновский петух и каждую скрипучую песенку кончает неизменным припевом:
«Но мы не сомневаемся в мощи и демократичности великого русского народа. Мы верим, что близок час освобождения. И когда, воскреснув после годов мучительного опыта, он займет опять подобающее ему твердое место на земном шаре, – тогда, в этот торжественный час, мы не должны забывать, кто был нам братом и кто врагом».
О, певцы зимой погоды летней! Слушаешь их и не знаешь, где здесь кончается глупость, и где звучит старая, дырявая политическая шарманка, и где начинается оплачиваемое место.
Толстой
Толстой любил и высоко ставил Стендаля. Что бы он сказал, если бы ему дали прочитать Пруста?
Мне удивительно до сих пор: почему он так жестоко набросился однажды на Шекспира? Случайно ли он столкнулся с Вольтеровым мнением или невольно почти повторил его?
Толстого и теперь еще упрекают Платошей Каратаевым: «Какого расписного мужичка изобрел!» Нет: Каратаев – это правда. Но и «Власть тьмы», над которой веют дыхания греческой судьбы, – тоже одна правда.
Сколько раз в своих творениях заглядывал он пристально в тайну смерти! И всегда этот переход тудамнился ему светлым, легким, радостным. Жаль: никогда не узнать, что он встретил там.
Французский роман – это красивое правильное здание, где соотношения частей строго выверены, а стены украшены со вкусом и по трафарету. Приятно поглядеть с определенного места.
Толстой не то. «Война и мир» сначала кажется циклопической постройкой, и только отойдя вдаль, почувствуешь в ней ту великую гармонию, которой не знает обычная архитектура. И только подойдя вплотную к огромным стенам, увидишь несравненную тонкую резьбу, где каждая подробность дышит в своей простоте красотой и правдой. Не оттого ли Толстого мы читаем по многу раз, находя все новые и новые прелести, и при этом измеряем, как вырастает в нас с годами понимание прекрасного.
Гюи Мопассан восхищался Толстым. На одном из гонкуровских обедов он сказал с суровой печалью: «Я сегодня окончил читать роман «Анна Каренина». Так написать не мог бы никто другой в целом мире…» Интересно, что бы он сказал о «Войне и мире».
И Толстой ставил высоко Мопассана. Он прекрасно перевел мопассановскую «Франсуазу», ни на йоту не исказив малейшего оттенка мысли или слова. Он лишь осторожно прикрыл в одном месте беспечно открытую наготу.
Про Толстого говорят, что он был иногда противоречив, а порою пристрастен. Но вот бывают иногда в Париже такие дни, когда от утра до вечера погода меняется раз двадцать: то снег хлопьями, то жарит невыносимо солнце и тротуары просохли, то безоблачно-синее, то все загроможденное свинцовыми тучами небо. Не скажем же мы, что стихия противоречива? Она всегда одинакова, но мы видим ее с разных сторон. А пристрастен он был лишь в сторону добра. «Кто лучший русский писатель?» – задали ему раз этот вечный и глупейший вопрос. «Семенов», – ответил он. «А в Европе?» – «Поленц…» – ответил он. Оба эти писателя писали о народе, писали ни хорошо, ни дурно, но явно с добрыми, сочувственными целями.
Невинное пристрастие!
Как писать о Толстом и его творчестве? Чехов рассказывает:
– Было задано в младшем классе сочинение на тему: «Море». Одна девочка написала всего лишь три слова: «Море, оно большое…»
Я думаю и о Толстом: чем меньше слов, тем яснее.
Илья Репин
К годовщине со дня смерти
Чтобы почувствовать и понять все величие океана, надо видеть его не с плоского берега, а в открытом пространстве, когда вокруг нет ничего, кроме синей могучей стихии, всегда живой, всегда в движении.
Подобно этому измеряется и чудесная власть человеческого гения. Нельзя о ней судить по ничтожным воспоминаниям современников, по близоруким отзывам невежественных критиков, по пристрастным и часто глупым рассказам друзей, по успехам и неуспехам у крикливой толпы. Все это – прибрежный мусор и грязная пена. Судья великому человеку – только время, безупречное в своих приговорах. Более чем половину столетия Репин был славой России и гордостью живописного искусства. Еще до сих пор мы, в изгнании и в рассеянии сущие, говоря о нашем незабвенном прекрасном доме, упоминаем со вздохом и во множественных числах: «Да. У нас были Пушкины, Толстые, Репины, Глинки, Чайковские. Какое богатство! Весь мир произносит их имена с благоговением!»
Относительно всего мира сказано, конечно, слишком широко. Но теперь уже можно со спокойной уверенностью сказать, что имя и творчество Репина переживут столетия, и сам Репин останется великим, непревосходимым учителем до той поры, до которой живут полотно и краски.
Лев Толстой высказал однажды по поводу литературного творчества тираду, изумительную как по простоте, так и по глубине:
– Чтобы хорошо писать, надо, во-первых, уметь писать, во-вторых, знать то, о чем пишешь, и, в-третьих, знать, для чего пишешь.
Эти условия, если прибавить к ним еще простоту и правдивость, всегда требованные Толстым, надо приложить к каждому искусству, и Репин никогда не переставал им следовать благодаря тонкому инстинкту.
Подобно Толстому, он в своих картинах избегал придумывания и фантазии и брал для своих персонажей живых, знакомых людей. Так, позировали ему для больших холстов Иероним Ясинский, Гаршин, художник Кравченко, профессора Рубец и Эварницкий, Мамин-Сибиряк и другие.
Но брал Репин у них лишь нужную ему внешнюю оболочку: характерное лицо, подходящую фигуру, гомерический смех и выразительную улыбку, меланхолическую задумчивость, черты гнева и веселья, создавая из них то царевича, смертельно раненного Иоанном Грозным, то палача, остановленного Николаем-угодником за момент перед роковым ударом, то дюжего протодиакона в крестном ходе, то дуэлянтов с секундантами и врачом в офицерском поединке, то этих гоголевских запорожцев, с буйным весельем смакующих каждое соленое и проперченное словцо в своем коллективном послании турецкому султану. Очень жаль, что нельзя привести в моей короткой статье подлинного текста этого лапидарного ответа: его не выдержат ни бумага, ни добрые нравы наборщиков. А между тем в нем скрыт ключ к простому и правдивому пониманию всей огромной картины великого художника. Ведь недаром же он был родом из Чугуева, и запоржская бурливая кровь была ему сродни.
Он написал за свою долгую жизнь много портретов. Часть из них хранилась у собственников, и теперешняя судьба их неизвестна. Другая часть – достояние государственных музеев и галерей. Нельзя сказать, что у Репина ценнее и прекраснее: его картины или портреты? И вряд ли этот вопрос имеет большое значение. Но почему-то давно установилось общественное мнение, что именно человеческий портрет является для художника высшей мерой творчества и наивысшим достижением в художественном искусстве.
О портретах Репина нельзя говорить. Их надо видеть. Очаровательное и поражающее их сходство с натурой, так же как и точное и полнокровное мастерство в работе – не суть преобладающие достоинства репинских портретов. Главное их великолепие и отличие заключаются в том, что Репин умел вглядеться внутрь человека, в глубину его души и характера, и понять их, и неведомой силой запечатлеть их на холсте для почти бесконечной жизни.
Художник Серов, в юности ученик Репина, разговаривая как-то с величайшим из карикатуристов П.Е. Щербовым, высказал такую мысль:
– А ведь если подумать хорошенько, то все мы, пишущие портреты с людей, – отчасти карикатуристы. Ведь когда пишешь с искренним увлечением, то невольно замечаешь и воспроизводишь на полотне преобладающие пороки и достоинства моделей.
Но в том-то и дело, что по душевному своему строению Серов склонен был видеть яснее минусы человека, а Репин, с его благодушным приятием жизни, охотнее видел добро.
Одним из лучших его шедевров был, конечно, «Государственный совет» – картина изумительная по великому количеству фигур, по блестящей композиции и по вдохновенности работы. Теперь можно думать, что, работая над «Государственным советом», Репин с восторгом и горестью трудился над собственным надгробным памятником и над памятником былой великодержавной России.
Он совсем немного получил за этот гигантский труд: что-то около сорока тысяч рублей. Его хороший знакомый Б.А.Г. предлагал ему двойную цену за повторение этой чудесной картины для Ростовского музея.
– Я бы с удовольствием сделал и для вас, и цена неплохая, – сказал Репин, – но я чувствую, что «Совета» я уже больше не могу… Не в моих силах.
Дай какой художник в мире мог бы это сделать?
Москва родная
Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине, это – люди, теперешняя молодежь и дети.
Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон, – она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.
Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло.
Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич. Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старости. Я плохо вижу, и поэтому часто, когда мне надо было переходить шумную улицу, я останавливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка предлагали свою помощь и, поддерживая под руки, помогали Мне с женой перейти «опасное место».
Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» – и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? По-видимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренне.
Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку:
«Я – домработница такая-то. Вы – писатель Куприн? Будем знакомы».
В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окружили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор. А я-то думал, что молодежь СССР меня совсем не знает. Я взволновался тогда почти до слез. Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он, – точно ли я Куприн? Когда я ответил утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен ли я приемом в Москве? Я рассказал им, как нас хорошо устроили, и красноармейцы тогда удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»
Я побывал в кино в «Метрополе». Шла цветная картина «Труня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Мое внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Труня Корнакова» мне больше всего понравилось, как ее воспринимает зритель. Сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители – в большинстве молодежь – на те события, которые проходили перед ними! Какими рукоплесканиями награждались режиссер и актеры! Сидя в кинотеатре, я думал о том, как было бы хорошо, если бы советской молодежи понравился мой «Штабс-капитан Рыбников». Тема этого рассказа – разоблачение японского шпиона, собиравшего во время русско-японской войны в Петербурге тайную информацию, – перекликается с современностью, и я дал поэтому согласие Мосфильму на переделку этого рассказа для кино.
Этим летом на даче в Голицыне у меня перебывало в гостях много советских юношей и девушек. Это – дети моих родственников и знакомых, выросшие, возмужавшие за те годы, что меня здесь не было. Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это – прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная походка. Видимо, это – результат регулярных занятий спортом.
Меня поразил также высокий уровень образованности всей советской молодежи. Кого ни спроси – все учатся, конспектируют, делают выписки, получают отметки. А как любят в СССР Пушкина! Его читают и перечитывают. Он стал подлинно народным поэтом. Вот забавная и вместе с тем трогательная деталь. В Голицыне у одной знакомой нам колхозницы родился сын. Она назвала его Александром. Мы спросили ее, почему она выбрала это имя. Она ответила, что назвала его так в честь Пушкина. Имя ее мужа – Сергей, и сын, таким образом, как и Пушкин, будет называться Александром Сергеевичем.
Сами по себе интересны обстоятельства, при которых Александр Сергеевич появился на свет. В Голицыне строился родильный дом, который должен был быть закончен к пятнадцатому августа. Александр Сергеевич, однако, пожелал родиться четырнадцатого августа. Родственники повезли будущую мать на станцию, чтобы отправить в ближайшую больницу, но попали к поезду, который не останавливается в Голицыне. Тогда начальник станции, зная, что женщине необходима срочная врачебная помощь, специально ради нее остановил поезд, и ее вовремя доставили в больницу. Разве могла крестьянка дореволюционной России мечтать о том, чтобы для нее и для ее будущего ребенка останавливали поезда? Меня бесконечно радуют советские дети. Я восхищен тем, что страна уделяет им столько внимания и что советское правительство так оберегает беременность. Это очень мудро. О детях важно заботиться, потому что в них – будущее страны. Внимание к женщине и к ее ребенку дает ей моральную силу воспитывать достойных граждан СССР.
Голицыно, где мы проводили лето, встретило нас разноголосым ребячьим хором. В этом живописнейшем подмосковном поселке расположилось несколько десятков детских садов. Я очень люблю детей и был чрезвычайно рад такому приятному соседству. По утрам, выходя на террасу, я сообщал жене, что «галчата» уже проснулись. Потом из нашего садика я видел, как они чинно, парами проходят мимо, все пузатенькие, краснощекие, улыбающиеся.
Бывало, что привезенная из Парижа кошка Ю-ю (названная так в честь кота – героя одного из моих рассказов) с разбегу вспрыгивала ко мне на плечо, и это всегда вызывало бурный восторг детишек. Они подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю, таким образом, служили невольной причиной нарушения дисциплины. Вечером, в восемь часов, в Голицыне наступала тишина: детей укладывали спать, и сразу становилось скучно.
Кстати, какое прекрасное сочетание понятий – детский сад. Именно сад! Сад, где расцветают юные души. За границей дети совсем не такие, как здесь. Они слишком рано делаются взрослыми.
В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести – Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин – это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь…
Мне очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо. Пока думаю о переиздании старых вещей и об издании произведений, написанных на чужбине. Мечтаю выпустить сборник своих рассказов для детей.
Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I». Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь по-прежнему.
В заключение пользуюсь возможностью передать через вашу газету мою глубочайшую благодарность всем моим юным корреспондентам, поздравившим меня с возвращением на родину.
Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы – давнишние друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них – мои старые читатели.
Другие – читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я наконец вернулся в СССР. Душа отогревается от ласки этих незнакомых друзей.
Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на родине все лучше!








