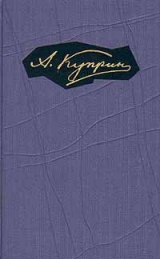
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии. Почти сто лет тому назад пришли в Париж оборванные загорелые южане и заразили весь Париж, а вместе с ним и всю Францию революционными идеями. По дороге сочинили прекрасную песню, которая начинается так: «Allons, enfants de la patrie…» [61]61
вперед, сыны отчизны… (фр.)
[Закрыть], a кончается: «A bas la tyrannie» [62]62
Долой тиранию (фр.).
[Закрыть], – словом, ту известную песню, которая исполняется на французских военных судах во время встречи дружественных эскадр.
Надо сказать, что этот праздник – настоящий праздник. С раннего утра вся Марсель на улицах. Со всех сторон четырехугольного старого порта толпится по-праздничному вымытый, принарядившийся народ. В десять часов утра уже пускают фейерверк. Мальчишки и женщины визжат от радости, старые матросы ревут от восторга, когда взвивается вверх ракета, разрывается в воздухе и вдруг из нее выскакивает, точно пузырь, фигура свиньи, верблюда или слона и медленно опускается вниз.
Около улицы Каннобьер, пройдя через мост, есть маленький закоулочек, где кутят рыбаки. Белое вино и целые груды, целые горы скорлупы от раков, устриц, муль, violettes и clovisses [63]63
Разные съедобные ракушки (фр.).
[Закрыть]. Все это поглощается в огромном количество и стоит на наши деньги три-четыре копейки. С чувством отвращения наблюдаю я, как после долгой, ожесточенной торговли раскутившийся матрос покупает своей любовнице кусок спрута, или каракатицы, или какую-то странную черную раковину, из которой течет желтый сок, подобный яичному желтку, и как она большим пальцем правой руки выковыривает содержимое и как она его втягивает в рот.
Но мне тяжело и скучно. Чужой праздник! И я чувствую себя неприглашенным гостем на чужом пиру. Увы! Судьба моей прекрасной родины находится в руках рыцарей из-под темной звезды, и у нас нет ни одного случая вспомнить наше прошлое. Ни числа, ни месяца, ни года…
Лодки сгрудились около набережной так тесно, что движение одной передается другой. Какой-то хитрый старик подмигивает мне глазом и спрашивает:
– Может быть, господам угодно проехаться на остров Иф?
Отчего же не проехаться: это все-таки развлечение. Очень быстро мы узнаем, что лодочника зовут папа Доминик. Покамест мы в порту, он все время гребет. Но мы выходим в свободное море, и он начинает налаживать парус. Время от времени он вынимает из кармана плитку прессованного жевательного табаку, похожую на шоколадные плитки, жует ее и выплевывает через борт коричневую слюну. И вдруг обращается к нам с очень деловым вопросом:
– Из какой страны вы, добрые господа? Со вздохом мы признаемся, что мы русские. На лице нашего друга, папы Доминика, разочарование. Он еще раз плюет через борт лодки и говорит:
– В таком случае без глупостей (pas des bêtises). Ого! Хорошая у нас репутация!
Но уже парус готов. Лодка бежит, накренившись набок, и время от времени на нас брызжет морская пена. Стали вырисовываться скучные стены тюрьмы, горбатый островок и на нем две башни, торчащие, точно два клыка, изъеденные временем. Между ними каземат и огромные ворота. Цвет здания – желтый, казарменный. Но подойти нам к берегу не удается. Артель рыбаков только что завезла невод, длиною приблизительно около версты. Две лодки тянут левое крыло, а правое крыло на своих плечах тащат вверх по горе двенадцать человек. Самая трудная работа достается переднему, и поэтому, пройдя шагов пятьдесят, он бросает тяж и перебегает в хвост. Таким образом, они постоянно сменяют друг друга. Наконец работа окончена. Две небольших корзинки маленькой серебряной рыбешки. Но зато сколько шума, пререканий, угрожающих жестов! Можно было бы подумать, что дело идет о пяти, шести взрослых китах.
Мы подымаемся наверх, на гору. Оказывается, что смотрителя тюрьмы нельзя сейчас видеть – и по очень важной причине: рыбаки наловили много рыбы, а смотритель купил несколько фунтов, велел своей жене сделать бульябес и поэтому просит извинения.
А бульябес – это самое зверское кушанье, которое только существует на свете. Оно состоит из рыбы, лангуст, красного перца, уксуса, помидоров, прованского масла и всякой дряни, от которой себя чувствуешь, точно тебе вставили в рот динамитный патрон и подожгли его.
Ничего не поделаешь, – надо мириться со вкусами каждого начальника тюрьмы, музея или Эрмитажа. Но тут же, рядом с тюрьмой, есть маленький кабачок с надписью: «Граф Монте-Кристо». Мы внедряемся туда, заказываем яичницу и пьем красное вино. Через час появляется смотритель, на ходу утирая рот салфеткой. Он чересчур вежлив, как, впрочем, и всякий француз. Он с нас берет по франку за вход в историческую тюрьму (удивительно, не для того ли Марсель сделала французскую революцию, чтобы республиканское правительство получало деньги за право обозрения тюрем?) потом, закрыв глаза, точно соловей во время любовной песни, он начинает нам отчитывать наизусть:
– Вот место, где сидел двоюродный брат польского короля Владислава или, может быть, Станислава. В этой камере сидел известный адвокат Мирабо, потомок которого, Октав Мирбо, до сих пор существует в Доме инвалидов… Вот здесь заседал революционный марсельский трибунал. Здесь же по распоряжению суда гильотинировали виновных. Двести восемнадцать смертных казней. Обратите внимание, господа, что камни иззубрены стойками гильотины.
И правда, он нам показывает нечто вроде каменных полатей, на которых заседал трибунал, приговаривал к смерти в одну секунду, и только одну секунду длилось мучение жертвы. Я не знаю, здоровое ли это впечатление или галлюцинация, но мне казалось, что во всей этой тюрьме, в этом правительственном музее, пахнет кровью и человеческими извержениями, как будто бы стены пропитались их запахом.
Наша доверчивость развращает смотрителя. С необыкновенно наглым видом он нам показывает еще один закоулок, с полом вроде московской мостовой, без света, и говорит:
– А вот здесь сидел граф Монте-Кристо.
Это нас поражает. Мой друг К. первый не выдерживает серьезности. Он спрашивает:
– Если я не ошибаюсь, граф Монте-Кристо – это не живой человек, а выдумка Александра Дмитриевича Дюма? Дюма père? Это лицо никогда в действительности не существовало.
Смотритель сконфужен, но все-таки милый француз находчив: он открывает окно и показывает нам на вывеску ресторана. Правда. Написано «Граф Монте-Кристо». Мы соглашаемся. Что поделаешь против очевидности! И папа Доминик благополучно отвозит нас в Марсель.
Глава XIX. Русский консулНо не всегда в Марсели пути наши были устланы розами – попадались и жестокие шипы. Одна дама перевела нам на банк «Лионского кредита» несколько сот рублей. Но по свойственной всем дамам забывчивости и небрежности она не послала нам заказным письмом расписки, которую она получила из банка и которая была самым главным документом, удостоверяющим, что мы не жулики, посягающие на капиталы этого самого богатого в Европе банка. Раз по двадцати в день мы являлись в великолепное прохладное здание «Лионского кредита» и, должно быть, порядком надоели там всем служащим. Эти люди с каменными лицами, в каменных воротничках хладнокровно отвечали нам:
– Покажите ваш мандат.
Я совал им мой заграничный паспорт, где совершенно ясно были обозначены мое имя и фамилия. Я безошибочно указывал им то место и то лицо, откуда я жду деньги, но они были неумолимы. Конечно, их можно было бы только похвалить за такую пунктуальность и за слепое исполнение своих обязанностей, но нам от этого было ничуть не легче. В продолжение трех суток мы ничего не ели и не пили.
Но внезапно блестящая мысль озаряет наши головы: «А что, если за нас заступится русский консул?»
Итак, с самого раннего утра до поздней ночи мы, как сумасшедшие, мыкаемся по всей Марсели, в сладкой надежде разыскать русского консула. Увы! Это оказывается невозможным. Нас посылают с одного конца города на другой. В табачных и колониальных лавочках мы перелистываем городские указатели за целых три года, но таинственный консул исчез, точно провалился сквозь землю. Наконец, с большим трудом, уже на третий день мы узнаем, что этот сказочный человек ютится где-то в окрестностях улицы Pière de Pugé. Надо сказать, что эта улица на редкость прекрасна. Громадный платановый бульвар, в вековой тишине которого всегда разлит прохладный зеленый полусумрак. Нет ни трамваев, ни экипажей – самый аристократический уголок Марсели. Налево и направо нарядные спокойные дома, украшенные флагами всех консульств мира: японского, китайского, английского, голландского, персидского, корейского, аргентинского, североамериканского… и под каждым флагом овальная вывеска с гербом страны и с точным указанием часов, когда консул принимает. Раз двадцать мы обегали улицу Pugé и все к ней прилежащие. Швейцары и секретари консульств глядели на нас, точно на сумасшедших, и пожимали плечами:
– Русский консул? Он где-то существует, но уже лет пять-шесть никто его не видал и не слыхал о нем.
Бог его знает! Скрывался ли он от долгов, или у него в натуре лежит стремление к перемене мест… этакое изящное бродяжничество?
В голландском консульстве с нами обошлись совсем неприлично. Консул, сухой и чопорный человек в золотых очках, внимательно поглядел наши документы, удостоверившие нашу личность и право на получение денег, и сказал нам сурово:
– Во всем, что вы говорите, я не сомневаюсь. Предупреждаю вас, что русского консула вы не найдете. Но ходатайствовать за вас перед «Лионским кредитом» я не берусь. Это поведет только к неприятностям и служебным осложнениям и для меня, и для вашего консула. Лучше сделаем так. Я вам дам взаймы несколько сот франков, а вы, когда получите ваш перевод или когда вернетесь в Ниццу, возвратите мне эти деньги.
Но мы одновременно поспешили отказаться. Да и в самом деле: зачем нам было прибавлять к нашему голоду, жажде, беспомощности – еще и унижение нашей страны?
Сердечно поблагодарив консула, мы ушли от него и опять очутились на улице. В нашем распоряжении оставалось только пять сантимов, – приблизительно полторы копейки, – и мы в продолжение этих роковых трех дней долго колебались, на что употребить мелочь: купить ли пару папирос или выпить по стакану воды с лимоном? Жажда пересилила. Около старого порта какой-то древний старикашка изготовлял и продавал искусственный домашний лимонад. На ручной тележке помещалась у него большая глыба льда с продавленным, в виде чашки, углублением, наполненным водой, куда он своими грязными руками выжимал лимоны. Почти трясясь от жадности, я выпил стакан. А старик поглядел на моего товарища, улыбнулся немножко застенчиво, немного насмешливо и зачерпнул для него второй стакан. Сначала я думал, что это был единственный в Марсели человек, который понял наши страдания. Но оказалось, что нашелся и другой человек – это милый, толстый хозяин нашей гостиницы. Когда мы пришли домой, измученные, разбитые, едва волоча ноги, он отозвал моего товарища в сторону и сказал:
– Господа! Я вижу, у вас какая-то заминка? Я прошу вас помнить, что весь мой буфет и моя кухня всегда к вашим услугам. Очень прошу вас не стесняться. Долорес! Дай сюда меню и холодного белого вина.
В этот день мы были сыты и растроганы милым, гостеприимным отношением простого человека, бывшего матроса. И надо сказать, что, подавая нам эту милостыню, он и его жена были так деликатны, так предупредительны, как вряд ли бывают люди во дворцах.
Утром все уладилось. Мы были богаты, как пять Пирпонтов Морганов и один Ротшильд. Громадный букет карминных, почти черных роз был поднесен хозяйке. Были куплены билеты до Ниццы, и наш скромный багаж отвез на ручной тележке какой-то долговязый проходимец на вокзал.
Однако в нас заговорило чувство оскорбленной патриотической гордости. Мы во что бы то ни стало решились разыскать консула, и в конце концов мы все-таки нашли его!!
Нам указал его адрес какой-то цветной швейцар из какого-то экзотического посольства, пестро и ярко одетый, как попугай ара. Понятное дело, на сытый желудок человек гораздо энергичнее, чем в дни, когда он изнемогает от голода, жажды и усталости. Мы поднялись на пятый этаж по узкой темной лестнице и при помощи длительных восковых спичек прочитали плакат:
«Русский консул N.N. [64]64
К сожалению, его фамилия выпала из моей памяти, а то я привел бы ее полностью. Знаю только, что кончается на – ский. (Примеч. А. И. Куприна.)
[Закрыть]принимает от часу до 1 1/2 по четвергам». А внизу надпись красным карандашом: «В настоящее время выехал на дачу».
Но мы в это время уже были так благодушны, что не рассердились, а только рассмеялись. Это объявление необыкновенно живо напомнило нам нашу милую страну, по которой мы уже успели смертельно соскучиться. И только добрым словом помянули нелепых английских консулов, двери которых открыты для подданных Великобритании во всякое время дня и ночи.
Глава XX. ВенецияА все-таки как жалко было прощаться с Марселью! В последний раз посидели в кафе, на улице Каннобьер, увидели в последний раз, как к тебе подбегает оборванец с корзинкой в руках и шепчет с таинственным и испуганным взглядом: «Боста» («Beaux fistaches») – прекрасные, жаренные в соли фисташки, по сантиму за штуку, и черномазый бродяга отсчитывает своими грязными пальцами штуку за штукой фисташки, как какую-то редкую драгоценность. Нужно было еще подняться по громадному лифту на верх горы и зайти в собор Notre Dame de la Garde. Там два придела: один внизу, другой наверху. Нижний заперт железной решеткой, верхний открыт для обозрения публики. Одно зрелище вдруг нежно и глубоко волнует меня. Стены огромной церкви сплошь увешаны маленькими мраморными дощечками, на которых выгравированы и позолочены имена и фамилии, а иногда просто инициалы жертвователей. Все это дары моряков, рыбаков, которые благополучно избегли гибели, обратившись в предсмертную минуту к покровительству пресвятой девы, заступницы на водах… Тридцать или сорок моделей парусных судов и несколько картин, написанных акварелью и маслом неумелыми, наивными, но старательными руками. Таких даров тысячи. Я гляжу на них и с волнением думаю: «Вот этот человек сорвался с грот-мачты во время бури, но успел счастливо зацепиться, подобно обезьяне, за какую-нибудь перекладину. Этого смыло волною с борта в море, но удачно брошенный спасательный круг помог ему продержаться на воде, пока корабль не был остановлен и его товарищи не успели спустить лодку. Третий, может быть израненный ножами в каком-нибудь темном и грязном порте Средиземного моря, долго боролся со смертью, но железная натура выдержала, и вот он живой, как окунь в воде, приносит свою скромную благодарность царице небесной, приписывая свое выздоровление ее ходатайству перед богом. А во всех надписях удивительная скромность».
Но, конечно, как и всюду, я наталкиваюсь на громадную доску из белого мрамора, которую, на общий позор и посмешище, привинтил здесь, к древней стене, безвестный русский чиновник Челгоков из города С. Надпись занимает приблизительно около тридцати строк, каждая вместимостью в сорок букв. Вот ее содержание (пишу по памяти). «Благодарю Notre Dame de la Garde за то:
1) что однажды, заболев опасной, сложной формой геморроя, который не могли излечить наши местные невежественные врачи, я обратился к покровительству заступницы и получил внезапное чудесное исцеление;
2) что, задумав одно выгодное для меня денежное предприятие, я благополучно довел его до конца и теперь обеспечен на всю жизнь;
3) что при помощи той же самой божией матери мне удалось выдать мою старшую дочь за порядочного, солидного человека, с правильными убеждениями и получающего хорошее жалованье;
4) что мне посчастливилось получить наследство, которое я не мог ожидать».
Ах, Челгоков, Челгоков! Не так ли ты писал аттестат своей кухарке или горничной, которую твоя жена прогнала за амуры с барином? Но уже пора. Наступает вечер. Мы в поезде. Мелькают мимо нас Фрежюс, Сен-Рафаэль, Канн. И вот уже светят два ниццких маяка. Один в Калифорнии, а другой в Моп-Вогоп. Один вращается, пересекая своим серебряным мечом черное небо, с промежутками в пять секунд, другой выпускает белую электрическую стрелу через каждые три секунды.
А на другой день вечером мы в Венеции. Сначала кажется немного диким и нелепым, когда выходишь из вокзала и носильщик укладывает твои вещи в черную лодку. К этому впечатлению нужно привыкнуть. На корме стоит, выставив вперед левую ногу, длинный малый и, не вынимая весла из воды, бурлит им воду и гонит лодку. Сворачивая в какой-нибудь узкий водяной переулок, он издает странный гортанный крик, похожий на стон, и две гондолы, почти касаясь одна о другую бортами, беззвучно проплывают мимо, точно два черных встретившихся гроба. И в самом деле: прекрасная Венеция напоминает громадное кладбище с мертвыми, необитаемыми домами, с удивительными развалинами, скрепленными железом, со старыми церквами, которых никто не посещает, кроме праздных путешественников.
На другой день опять гондола и обозрение Венеции при дневном свете. Тут я замечаю, что борта лодки украшены медными изображениями морских коньков. Лошадиная голова и хвост рыбы – это красиво! Впоследствии несколько таких морских лошадей, некогда живших, а теперь засушенных, я купил на площади Святого Марка у надоедливого торгаша. Курьезная, смешная штука величиной не более вершка. Несомненно, что она послужила прообразом для украшения гондолы.
Хозяин лодки показывает нам вытянутым пальцем на дом с великолепной мраморной облицовкой и говорит:
– Это палаццо принадлежало родителям Дездемоны, которая, как вам известно, вышла так неудачно замуж за Отелло, мавра, который служил Венецианской республике. А вот, не угодно ли вам, фабрика венецианского стекла и хрусталя. Но фабрика оказывается набором аляповатых, безвкусных безделушек, стаканчиков, бокалов, графинов, грубо украшенных позолотой.
Наконец, вот и знаменитый Дворец дожей. Он мне казался раньше красивым, покамест в Петербурге, на Морской, банкир Вавельберг не устроил себе торгового дома – неудачную копию венецианского дворца.
Но внутри этот дворец просто удивителен: он совмещает в себе одновременно простоту, изящество и ту скромную роскошь, которая переживает века. Эти кресла двенадцати дожей, из свиной кожи, тисненной золотом, эти мраморные наличники, эта бронза на потолках, эта удивительная мозаика, составляющая пол, эти тяжелые дубовые двери благородного, стройного рисунка – прямо восхищение! Каждая, даже самая мелочная деталь носит на себе отпечаток вкуса и длительно терпеливой, художественной работы. Простой стальной ключ, всунутый в замок двери, отчеканен рукой великолепного мастера, который, может быть, даже не оставил своего имени истории, и я должен, к моему стыду, признаться, что только большое усилие воли помешало мне украсть этот ключ на память о Венеции.
В этом дворце совершалось правосудие. В нем помещался и суд, и судебная палата, и сенат. Приговор совершался со скоростью ружейного выстрела. Проходило пять-шесть часов, и преступника вели в один из темных, мрачных казематов, расположенных под дворцом. Человека низкого происхождения удавливали без всякого почтения. Дворяне пользовались исключительной привилегией. Их вели по узкому темному коридору, который оканчивался маленькой дверкой, выходящей на канал. Там ему мгновенно отрезывали голову, а ударом ноги сбрасывали его тело в воду.
Все было бы хорошо, если бы ко мне не привязался сторож при дворце. Я сам не знаю, почему этот человек избрал меня своей жертвой. Он не отставал от меня ни на шаг. Он объяснял мне каждую картину, каждую фреску. Наконец я вышел из терпения! Чем я мог ему отомстить? Тогда я начал ему, в свою очередь, объяснять историю итальянской школы, наврал ему с три короба о Микеланджело, о Рафаэле, о Леонардо да Винчи, о Бенвенуто Челлини, о Рибейре… Мой проводник заметно угас. Тоскливое выражение появилось в его глазах. Мне даже показалось, что он похудел за эти несколько минут. Но вдруг опять его глаза блеснули радостью. Он распахнул окно и с торжеством показал мне пальцем на Лидо, где стояло несколько броненосцев:
– Посмотрите, синьор, это иностранная эскадра. Каково же было его удивление, когда я ему спокойно возразил:
– Синьор! Для меня это вовсе не иностранная эскадра. Это часть русского флота, флота моей родины. Видите ли вы на корме белый флаг с косым синим крестом? Это, если вам угодно знать, Андреевский крест.
В эту минуту я думал, что победа осталась за мной, но не тут-то было.
– Так вы русский? – спросил сторож. – В таком случае я вам покажу одну вещь, над которой подолгу останавливаются все знаменитые русские путешественники – графы, принцы, бароны и князья.
Он ткнул пальцем в какую-то щель, проделанную насквозь в стене, и торжественно произнес:
– Le donosse!!! Сюда приносили жалобы на граждан великой Венецианской республики другие граждане.
Тут я ничего не мог поделать. Потрясенный и взволнованный, я сунул ему в руку франк и со слезами на глазах вышел на площадь Святого Марка.
Длинная, нелепая каланча – Kampanilla (колокольня), – мимо! Жирные, зобастые, разнеженные, извращенные голуби, которые фамильярно садятся вам на плечи, и какие-то старые ведьмы, которые тут же продают для этих голубей моченые кукурузные зерна, – мимо! На приземистом соборе св. Марка четверка бронзовых позолоченных коней, некогда украшавших триумфальную арку Нерона, – прекрасно!
И вот, наконец, мы входим в прохладную сень собора св. Марка. Но еще на паперти мое внимание останавливает небольшое окошечко с правой стороны, ведущее в нечто вроде часовни. Я требую, чтобы меня проводили туда. Но очередной сторож подобострастно изгибается и говорит, что туда можно войти только за отдельную плату, и притом прибавляет он: «Может быть, дамам, которых вы сопровождаете, будет не совсем удобно глядеть на то, что там находится? И, кроме того, это обойдется по двадцати чентессимов с каждого лица». В конце концов около него появляется его помощник, и, вероятно, такой же мошенник. Оба они с преувеличенным усердием открывают тяжелую дверь. Совсем небольшая комната. Посредине ее возвышается бронзовое ложе, и на нем лежит бронзовый кардинал. Его звали Зено. Его тело прикрыла до пояса кардинальская мантия. На голове двурогая митра. Маленькие изящные руки сложены на груди – маленькие руки, к которым прикасались уста сотен прекраснейших в мире женщин, руки, которые были украшены некогда аметистовым кардинальским перстнем и сотнями драгоценных камней. Его лицо приводит меня в восторг. Орлиный нос, тесно сжатые властные губы, выражение надменности и презрения ко всему человечеству…
«Да, – думаю я, – этого человека безумно любили и страшно ненавидели. Его тонкие пальцы умели нежно ласкать, но умели сжимать чеканную рукоятку кинжала, или бестрепетно вливать в кубок своего врага и гостя смертельный яд, или вкладывать ему в рот во время причастия отравленную облатку». Лицом к нему прикованы на цепях скалящие на него зубы два прекрасных льва, выточенные из рыжего гранита. Я узнал, что монумент был сделан современником кардинала, скульптором Alessandro Leopardi, а львы принадлежат работе неизвестного художника. Но тотчас же другое поразительное зрелище останавливает меня. Под потолком, в небольших размерах, рассказана художником в виде мозаик вся история Ирода, Иродиады, Саломеи и Иоанна. Художник этот – Боттичелли.
Конечно, на любой из русских выставок цензор по части художественных картин велел бы убрать эти фрески или, по крайней мере, завесить их простынями. Здесь с грубой, но прелестной наивностью изображены нетленными красками: и роскошный пир Ирода, и пляска Саломеи, и палач, отсекающий голову, и отдельно самая голова, изображенная с ужасными реальными подробностями, с текущей кровью и со слипшимися волосами. А знаменитый танец Саломеи заставил бы покраснеть и отвернуться Иду Рубинштейн.
На Саломее… на ней, то есть, я хотел сказать, на этой длинноногой прекрасной женщине, с невинно наклоненной набок головой и с удивленно поднятыми кверху тонкими бровями… вы понимаете, что я хочу сказать?.. На ней нет совсем ничего.
Мне кажется, моя догадка не ошибочна. Боттичелли писал эту роскошную картину для кардинала. Неизвестный художник почтительно поднес ему высеченных из гранита львов. А кардинал повелел окружить свою гробницу любимыми произведениями искусства и не пускать к нему в его вечное жилище назойливую публику.
Три дня подряд я посещал этот удивительный склеп, потом… длинный, скучный путь до Вены, мещанская Вена, возмутительная русская таможня в Границе и – господи, благослови! – Россия.
P.S. Неизбежный совет всем русским туристам. Оставляйте Венецию и кардинала Зено в виде десерта: после них все кажется пресным.








