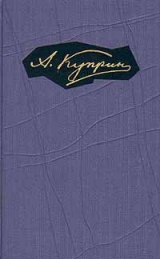
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
О душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего – дешевый трактир попроще.
Дорогие рестораны ничего не дают для наблюдения. Во всем мире они одинаково обезличены: те же лакеи, метрдотели и гости, те же самые танцоры и музыканты, и повсюду общие слова. Здесь мода, литература, спорт, кухня и демократизм оболванили людей на один образец. (Я не хочу этим глаголом сказать что-нибудь обидное; болван, болванка – значит деревянная или чугунная готовая форма.) Исчезают понемногу ресторанчики, славившиеся некогда каждый каким-нибудь специальным блюдом. Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье – гордость и славу дома: пронзительный буйабесс, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удавленную, или рубец по-лионски, или – поблизости бойни – замечательный бифштекс с кровью, или у какой-то тетки Дюпон изумительные телячьи котлеты. Но все это для снобов. Для них же и знаменитый луковый суп в одном из кабачков Центрального рынка, в два часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И все это такая же подделка под старинные, исторические кабачки, как подделка – апаши, которые – не что иное, как мелкие профессиональные актеры, успевшие уже за ночь отыграть раз тридцать свои гнусные роли в пресловутых монмартрских «Небе», «Аде» и «Небытии» и притащившиеся в Halles [80]80
Рынок (фр.).
[Закрыть]на утреннюю халтуру, чтобы представлять перед ротозеями пьянство, игру, дележку награбленного, ревность, ссору, драку и поспешное общее бегство по свистку мнимого сторожа.
Исчезают, даже почти совсем исчезли, прежние забавные и прелестные названия кабачков. Где эти «Белые павлины», «Золотые олени», «Лев и Магдалина», «Голубая подвязка», «Таверна лучников», «Золотая шпора»? Названия монмартрских кафешантанов претенциозны, надуманны, противны для уха и вкуса. Простонародный кабачок окончательно сошел на нет. О нем можно вспомнить, только читая старые французские романы. Яркие, звонкие вывески позабыты, позабыта и старая кухня. Впрочем, Париж так быстро и часто перестраивается, что погибли без возврата даже названия старых, шестисотлетних улиц. Однако, в виде наставления новичкам, я должен сказать, что еще совсем недавно обладателю тощего кошелька рекомендовалось дешево и вкусно позавтракать в одном из ресторанчиков под вывеской «Свидание кучеров и шоферов». Но это рекомендация давнего прошлого. Кучера на наших глазах вырождаются, шоферы бедствуют. Зато смело идите в тот кабачок, в котором издали увидите по белым блузам, по измазанным следами извести лицам – каменщиков. Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и в высокой цене. Парижские каменщики совсем похожи на русских (Мещовского уезда, Калужской губернии). Так же беззаботно ходят они по узким балкам на седьмом этаже, так же громко, весело поют во время работы, так же кротки нравом, так же крепки в артельном быте, так же емки, когда едят, и так же всей большой сотруднической ватагой валят в ближайший простенький ресторанчик.
И курчавый, серьезный хозяин кабачка, умный, скупой оверньят, этот французский ярославец, – внимательно следит за свежестью мяса и рыбы, за доброкачественностью масла, за добрым качеством вина. А не то две-три жалобы, один скандал – и опустел его кабак, а потом как создать ему вновь популярность? Тут надо еще сказать, что парижский каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает до десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках – литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой… Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот.
Эти маленькие кабачки именно тем иногда и милы, что в них часто собираются люди одной и той же профессии.
Есть большая парижская Биржа, на ступеньках которой, по-видимому, без всяких причин мечутся и орут каждый день сотни сумасшедших, взъерепененных людей; орут в чистом тоне верхнего тенорового си. И около этой Биржи многое множество кофеен, ресторанов, пивнушек и кабачков, где наскоро пьют, закусывают, читают бюллетени, газеты и продолжают кричать биржевые зайцы. Есть уличная брильянтовая биржа и рестораны при ней. (Правда, под вечной угрозой внезапного полицейского контроля.) Есть биржа почтовых марок, конечно, со специальным рестораном сбоку. Я знаю уютные полуподвальные кабачки, где собираются итальянцы и савойяры-угольщики; маленькие ресторанчики, излюбленные граверами, переплетчиками, рисователями обоев; кабаки-норы, посещаемые тряпичницами; бистро около конечных станций метрополитена, приюты кондукторов и вагоновожатых… Я открыл в Пятом округу кабачок на улице Мальбранш, где собираются глухонемые: странно и жалко в тишине видеть повсюду за столиками их напряженный разговор, состоящий из быстрых движений пальцев и страстной мимики. Так и кажется, что они торопятся и никак не могут наговориться досыта. И часто меня в этих кабачках грызет назойливая мысль: ах, если бы я умел все понимать на языке лангедок, на гасконском, на оверньском, на бретонском, на нормандском, не считая самого трудного языка – языка парижских окраин. Какой богатый материал! И все-таки кое-что понятно.
V. Призраки прошлогоПасси – очень интересный округ. Нынешние эмигранты ославили его русским. По этому поводу ходили тяжеловатые остроты. Называли Пасси «Арбатом» и «Пассями». Уверяли, что где-то, на улице Лафонтен, повесился чистокровный француз, оставив записку: «Умираю от тоски по родине». Немножко тоньше была такая шутка: Встречаются на авеню Моцарт два парижанина; один спрашивает, как пройти на улицу Жорж Занд; другой отвечает: «Простите, я не русский». Но шутки эти были кратковременны. Цены на квартиры в Пасси растут в такой дьявольской прогрессии, что ныне в нем русские стали так же редки, как зубры или мамонты. Остался один русский. Ага, да и тот караим.
Пасси занимателен тем, что в его домах, в улицах и их названиях причудливо переплетается новизна вчерашнего дня с почтенной старостью, восходящей к Франсуа I и дальше.
Дедушки и бабушки нынешнего среднего русского поколения, приезжая в Париж, не видали ни здания Трокадеро, ни многоэтажных домов Пасси. Он был тогда большой деревней, куда ездили парижане на воскресные дальние пикники или посещали его мимоездом, отправляясь в Булонский лес (тогда и вправду лес!) для дуэли.
Деревня Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками; их открыл в начале ХУШ века аббат Рагуа. Во многих романах первой половины прошлого столетия упоминается об экскурсиях к лечебным водам в Пасси. В них тогда очень верили. Семьдесят пять лет – это не старость, даже не средний возраст для города, тем более что Пасси на наших глазах бешено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.
Быстро бежит время, еще быстрее – человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые, сорока-пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки. Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Маллэ-Стивенс построил на улице Доктор Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда – его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо– и ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!
Стивене еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинте ресовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного.
Скуплен большой квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами – Ассомпсион – Рибейра и двумя пересекающими – Моцарт – Лафонтен: кусок, пространством в сорок – пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построится сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением – что там уездных Медыни или Крыжополя! – целой губернской Костромы… Какой размах! Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVni веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, – довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам. Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случайности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм… Дорогу молодому поколению!! А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт.
При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как назвали эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.
Muer, если перевести по-русски, значит линять, сбрасывать рога (у оленей). Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого… В последнее время им владели банкиры. Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.
Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над грудами камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего – два этажа с чердаком, и – как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону златого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.
В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков – памятников старины (см. историю XVI округа. Библ. Мэрии Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу, и ко всей Франции.
Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в спортивное обыкновение покупать картины, статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами, для того чтобы восстановить это у себя, в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но…
Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, к купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетами из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.
Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазком, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:
– Лакей! Лакуза-а!
Вошел малый, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.
– Чимпанскава барыне, – гаркнула купчиха. – Вот как мы, дворяне, нынче гуляем.
Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.
Старые песни
Совсем неожиданно получил я приглашение: белградская богема – художники и писатели – звала меня провести с нею вечерок в кабачке «Код три селяка», а кстати послушать старые сербские и цыганские песни.
Я уже не помню, каким очередным заседанием мне, с сожалением, пришлось пожертвовать. Часов в восемь-девять вечера мы сошлись в маленьком незатейливом трактирном кабинетике, оклеенном дешевенькими обоями, ну вот совсем как раньше, в Москве у какого-нибудь Бакастова, и без всякой церемонии перезнакомились за бутылкой черного вина.
Был тут еще гармонист, лысоватый, с бледным круглым лицом и немного усталой улыбкой. Пока разговаривали и чокались, он потихоньку, еле слышно, что-то наигрывал на своем инструменте, а потом вдруг сразу растянул гармонию во все меха, сделал громкую прелюдию, выпрямился и завел странную, в диком для меня ладе, песню. Вся компания сразу ее подхватила.
Голоса у сербов высоки и чисты, они белого цвета и кажутся выкованными из стали. Все пели в унисон, полной грудью, какую-то старую, однообразную воинственную песню. Я не понял в ней почти ни одного слова, знаю только, что в ней упоминалось о турках и о Косовом поле… Лица певцов были серьезны, даже нахмурены…
В это время в комнату вошла пожилая высокая женщина и молча стала за спиною гармониста. «Должно быть, хозяйка?» – подумал я. На ней был свободный, из черного шелка, рваный капот, застегнутый от горла до ступней, похожий не то на монашеский подрясник, не то на длинную рубаху с рукавами и не скрывавший ни ее худобы, ни ее широких костей.
Лицо ее поразило меня. Грубое, суровое, шафранно-желтое – оно было как-то по-лошадиному длинно. Ее большие, черные, с недобрым матовым цветом глаза так глубоко ушли в орбиты, что не видно было белка. Густые, синие, растрепанные волосы были небрежно завязаны узлом на затылке. Совсем необыкновенная женщина!
Хозяева мои спели еще три песни, такие же широкие, монотонные и мощные. В них слышался такт галерных весел, и ритм морских волн, и гудение ветра в корабельных снастях.
От этого протяжного и громкого пения я стал испытывать нечто вроде морской качки. Голова у меня слегка кружилась, и устало смежались глаза. Потом сделали маленький перерыв. Опять чокались и пили за Россию, и за Югославию, и за славянство, и за искусство крепчайшее «црно вино». Пила и хозяйка…
И вдруг надо мной раздался и разлился, сразу наполнив всю комнату, сильный, густой, прекрасный по тембру голос. Я сначала подумал, что это запел баритоном мужчина. Поднял голову. Нет. Пела та самая странная женщина в черном капоте, которую я считал хозяйкой кабачка. Голос ее в низких нотах очень напоминал густой контральтовый виолончельный голос покойной Вари Паниной, а верхние ноты звучали, как яростные клики Брунгильды, когда ее пела одна прославленная русская певица (имени ее не называю, чтобы не поставить на одну доску великую артистку с ничего не говорящим именем).
Я спросил на ухо моего соседа:
– Кто эта женщина?
– Так, певица, цыганка, – отвечал он небрежно.
Я подумал: «Плохо же в Сербии одеваются певицы!»
Но вскоре все это предрассудочное, условное, внешнее смягчилось, растаяло, унеслось. Сила таланта пленила, очаровала нас всех. Да и самой прежней некрасивой женщины нельзя было узнать. Она точно еще выросла. Ее черные глаза ожили, вышли из орбит, стали огромными и загорелись черным пламенем. Белки порозовели. Ноздри раздулись, как у нервной лошади. Сквозь желтизну щек проступил смуглый румянец. Нельзя сказать, что она похорошела. Она вдруг сделалась прекрасной. Ведь бывает же иногда, что самое некрасивое человеческое лицо в экстазе вдохновения делается столь прекрасным, что перед ним покажется ничтожной патентованная глупая, холодная красота. Впрочем, здесь дело таланта и порыва.
Что она пела – не знаю. Мне часто сквозь сербские напевы слышались мотивы, как будто родственные листовским венгерским рапсодиям. Да и не мудрено: Венгрия близко, Сербия здесь, а цыгане в своем кочевом блуждании берут свои напевы без всякой церемонии оттуда, где их услышат. Они только перецыганивают чужую песню на свой лад, который называется «романее», в котором никакой теоретик музыки никогда не разберется, ибо он весь состоит из неправильностей, но в котором есть тайная, ни на что не похожая прелесть и колдовское дикое обаяние – одинаково действующие повсюду: слышите ли вы цыган в Испании, Сербии, Румынии, на Черной Речке в Петербурге или в Москве в Грузинах. Этот секрет пения вынесло фараоново племя много веков назад из своей загадочной родины, из Египта, или, может быть, затонувшей Атлантиды. Или из другой страны, где были так неистовы страсти, так огнедышаща любовь и так свирепа ревность? Гармонист Чича Илья не вел голоса, как прежде. Он только бережно на басовых ладах поддерживал основной мотив, и выходило так, как будто бы волшебница-цыганка пела под аккомпанемент органа или фисгармонии.
В один из промежутков она ушла, не прощаясь, так же незаметно, как и пришла. Впрочем, было уже поздно. Да и признаюсь, нервы у меня теперь стали не те, что раньше. От силы новых впечатлений, от огней, от табачного дыма, а главное, от этого мощного, громкого пения у меня распухла голова, и всем телом овладела усталость. Кроме того, и «црно вино» оказалось чересчур «лютым», как говорят сербы. Наутро мне принесли в гостиницу мое пальто.
Мыс Гурон
I. «Сплюшка»Мы живем на скале, которая утопает в море. Если откроешь окно и выглянешь наружу, то море и под тобою и перед тобою. А если смотреть вдаль, то и над тобой. А когда выйдешь за ветхую дверь и подымешься на пять-шесть ступеней, намеченных грубо в каменной породе, то ты уже находишься в лесу, среди кривостволых приморских сосен, смолистый запах которых просто удушает. Здесь-то мы и живем на мысе Гурон, в рыбачьей хижине (по-местному – «кабано»), в условиях, не особенно далеких от тех, в которых когда-то проживали Робинзон и Пятница.
Хромой стол, два хромых стула, два утлых топчана, и все это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа – вот вся наша обстановка. Готовим пищу мы на спиртовке (понятно, когда есть что готовить…). Здесь нет ни газа, ни электричества и не только нет уличных фонарей, но и самых улиц и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации. Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионов. Все эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купальном курорте Лаванду, километрах в семи от нашего дикого уголка, у черта на куличках. А о неудобствах я не смею и говорить из боязни потерять репутацию приличного человека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирамидальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей, можно ночью с удовольствием любоваться ночными огромными мохнатыми звездами.
Раз в неделю приезжает к нам из Лаванду мясник. Через день после него – зеленщик. О своем прибытии они уведомляют всех обитателей гудками; почтальоны дают о себе знать какими-то пискучими дудками.
Здесь все просто, по-семейному. Никому, уходя из дому, не придет в голову запереть дверь. Коренные жители – помесь провансальцев с итальянцами – добры, простодушны, вежливы, приветливы, легки на услугу, любят весело и громко посмеяться. Слышу я иногда их здоровый, какой-то смугло-румяный хохот и с тихой завистью думаю: «А у меня на родине люди уже отвыкли и улыбаться». А ведь какой был великий мастер великорусский народ загнуть вовремя и кстати острое слово, пусть порою немного и переперченное, но такое ладное и внезапное, что от хохота садишься наземь.
Просыпаемся мы в четыре часа утра. Да и мудрено не проснуться. Наша скала с пещерой, в этой пещере рыбаки как раз и устроили гараж для своих моторных и парусных лодок. И каждый день ровнехонько в четыре часа пополуночи, со свойственной морякам точностью, они начинают вытягивать эти тяжелые лодки в море. Тут уж не до сна! Стук, треск, кряхтенье, здоровые окрики, лязг железа, бормотание мотора и, наконец, та морская заутреня, которую я по-французски не понимаю, но которую по-русски я раза два-три слышал у балаклавских рыбаков в доброе, старое, наивное и прекрасное время. Но какое утро!
Я не могу сейчас вспомнить, кто это сказал чудесные слова: рано встал – не потерял. Вернее всего, что это изречение принадлежит не кому-то, а народу. Из темноты медленно выплывают едва видные очертания холмов по этой стороне залива, и много-много времени проходит, пока они не окрасятся нежными розовато-желтыми тонами, похожими на цвет здорового человеческого тела. Но стоит только на минутку отвернуться и опять поглядеть, то видишь с удивлением, что дальние гористые острова, сигнальная станция и чей-то роскошный парк на соседнем мысе уже радостно загорелись нежнейшим розовым светом, подобным цвету шиповника, а через секунду это освещение делается красно-пламенным. Взошло солнце. Как мило, как сладко для взора и для сердца рисуются дальние лодки и взмах весел и уже на самом горизонте неподвижный, выпуклый, очаровательный парусок, похожий на лепесток мальвы.
Еще прохладно. Воздух чист и прозрачен. Им дышишь и не надышишься. В Париже ты дышишь только до горла. Здесь – до глубины легких и как бы до живота и до ног. Но вот уже начали свой безумный дневной концерт неутомимые цикады.
Да, провансальская цикада – это существо, которое бесспорно страдает эротическим умопомешательством. От раннего света до последнего света и даже позднее они бесстыдно кричат о любви. Никому не известно, когда они успевают покушать. Цикада-самец целый день барабанит своими ножками по каким-то звучащим перепонкам на брюшке, призывая громко и нагло самочку. Оттого-то его жизнь так и недолговечна: всего три дня. Как себя ведут в это время самки, я не знаю, да, по правде сказать, и не интересуюсь. Это дело специалистов. Я не берусь описать неумолчный крик цикад. По-моему, самое лучшее его описание сделал покойный поэт Александр Рославлев. Он говорил, что этот крик похож на тот трещащий звук, который мы слышим, заводя карманные часы. Так вот, вообразите, что триста тысяч опытных, ловких, но нетерпеливых часовщиков заводят наперегонки все часы в своем магазине, но только крик цикад раз в сто громче.
Одна моя знакомая дама сказала мне в Ля-Фавьере:
– Однако какие надоедливые эти птицы – цикады! А когда я поймал и принес ей эту муху, очень похожую на нашу шпанскую муху, она сказала обиженно:
– Ах, я думала, что это такая птичка. И наружность у нее отвратительна, и голос у нее препротивный!
Что поделаешь! Насчет голоса я согласен с дамой. Посудите сами: стоит тропическая жара. И люди и животные обливаются потом. Морской воздух недвижен и не приносит ни атома прохлады. Идешь купаться, но морская вода тепла и густа, как кисель, как льняная припарка. Некуда деваться от жары, а эти гнусные цикады своим непрестанным яростным стрекотанием точно удесятеряют африканскую температуру.
Но я не отчаиваюсь. Я радостно знаю, что придет вечер, похолодеет воздух, облегченно вздохнут земля и виноградники, уйдут с эстрады пиликалыцики-цикады и зажжет небесный ламповщик звезды, и тогда начнет свою прелестную песенку маленькая, но настоящая птичка совушка, которую в Крыму так нежно называли «сплюшка». Однообразно, через промежуток в каждые три секунды, говорит она голосом флейты или, вернее, высоким голосом фагота: «Сплю… сплю… сплю…» И кажется, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, безнадежно жалуется кому-то: «Сплю… сплю… сплю…», а заснуть, бедняжка, никак не может… Семь часов вечера. Пора спать. Темно. Гнусная привычка читать на сон грядущий давно отменена. Свет керосиновой коптилки неизбежно привлечет тучи москитов. Но мы уже достаточно знаем, что такое укус провансальского комара.








