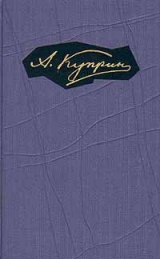
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
О нищих
Довлеет дневи злоба его.
Первый человек, который на заре нашей сознательной жизни подумал о завтрашнем дне, был погубителем человечества. Обеспокоенный своим будущим, он раньше всего припрятал от чужих глаз кусок мяса, хотя сам и был сыт в это время.
На другой день он отказал голодному брату в пище, солгал, что ему самому не хватает.
На третий день он украл, на четвертый – убил, на пятый он объявил соседям, что вот этот шалаш, эти стада, эти женщины и эти дети принадлежат только ему и горе тому, кто коснется их; а на шестой, соединившись с сильными и приняв над ними власть, он изгнал из своего леса и своих полей более слабых соседей, отняв у них жен и имущество.
На седьмой день ему остались одни пустяки: выдумать брак, семью, формы власти, закон, суд, загробную жизнь, религию, тюрьму, пытку, смертную казнь, государство, таможни, усовершенствованные орудия, войну, мораль, полицию, автомобиль и кинематограф.
Вот истинная история нашей культуры – история, основанная на том, что человек однажды испугался завтрашнего дня и вместо того, чтобы в развитии своих бесконечных сил пойти по пути, достойному вселюбящего и прекрасного бога, пошел по пути нищего, который всегда был и будет грязным, плаксивым и похотливым калекой, завистливым, жестоким и подозрительным трусом, хитрым, наглым и пресмыкающимся рабом, бесцельным убийцей.
Подобно нашему отдаленному предку, зарывшему, озираясь, кусок оленины в мох у корней дерева, мы ревниво накопляем богатства и власть, каждый для себя.
А когда умрем – к чему нам наши нищенские, тайно зарытые в тюфяк, сгнившие и вышедшие из употребления деньги? Власть и богатство – самые яркие формы нашей нищенской цивилизации.
Это вовсе не значит, что культура была не нужна человечеству.
Это значит только, что человечество пошло не по своей дороге, о чем свидетельствуют единогласно пророки, мудрецы и святые и о чем оно само, по-видимому, скоро начнет догадываться.
Заметка о Джеке Лондоне
Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей и бездарностей, появился новый писатель – Джек Лондон. Судя по его биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим в приполярном Клондайке, стало быть, рыл землю, добывал золото и дружил или ссорился с вымирающими индейскими племенами.
И этим биографическим чертам невольно веришь, когда читаешь рассказы талантливого писателя. В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Потому-то экзотические повести Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое чарующее, неотразимое впечатление. Этот американец гораздо выше Брет-Гарта; он стоит на одном уровне с Киплингом – этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще разница: Д. Лондон гораздо проще, и эта разница в его пользу. Покамест у нас есть только два тома его рассказов: «Белое безмолвие» и «Закон жизни».
«Белое безмолвие» – это трудно сказать что: повесть или поэма из жизни золотоискателей в Клондайке, где совершаются переезды в тысячу верст на собаках и на оленях, при морозе в шестьдесят градусов, где человеческая жизнь почти ни во что не считается, где даже случайно сказанное слово держится крепко, как закон. Один из самых очаровательных его рассказов заключается в простой, несложной и очень изящной фабуле: два золотоискателя – англичанин и ирландец – поссорились из-за пустяков. Решили стреляться. Но старый, опытный человек, на руках которого, вероятно, запеклось много человеческой крови, не позволяет товарищам делать этого. И он прибегает к очень простому и остроумному решению. Он говорит:
– Стреляйтесь, но кто из вас останется живым, того я застрелю. А слово этого человека было известно во всей области на протяжении десятков тысяч верст и даже среди индейских племен. К счастью, импровизированная дуэль разошлась.
Но когда товарищ этого арбитра спросил его на ухо: «А в самом деле, застрелил бы ты его?» – тот ответил: «Право, я сам не знаю».
Я выбрал наудачу первый попавшийся рассказ Джека Лондона. Но все они в том же тоне и в веселом, беззастенчивом содержании.
Приведу вкратце содержание и другого рассказа из первого тома – «Белое безмолвие», по заглавию которого назван и весь том. Два золотоискателя и жена одного из них, метиска-полуиндианка, совершают героически тяжелый путь на собаках через весь материк. До ближайшего жилья нм осталось несколько сотен верст. Припасы на исходе, да и те расхищают собаки, до такой степени озлобленные голодом и непосильным трудом, что их приходится подчинять себе, как диких зверей. Вокруг путников снег и тишина – «белое безмолвие». И вот одного из товарищей – женатого – постигает роковое несчастие. На него падает столетняя сосна и придавливает к земле, раздробив ему позвоночник. Напрасно он упрашивает своих спутников оставить его на произвол судьбы, потому что припасы идут к концу. Они остаются при нем целые сутки, до его последнего вздоха. Самая смерть его проста, трогательна и, несмотря на страшные мучения, героически спокойна. Для того чтобы волки не сожрали трупа, его товарищ прибегает к старому, но необычному для нас способу похорон. Он связывает две верхушки деревьев и прикрепляет к ним труп своего друга. Затем он и женщина продолжают путь.
«Закон жизни» – это история вымирания индейских племен под натиском американской, или, все равно, как ее там назвать, европейской культуры. Вся душа и все сердце Лондона на стороне этих вымирающих дикарей – гостеприимных, кротких, воинственных, терпеливо переносящих всякую боль, верных в дружбе, но не стесняющихся съесть труп своего отца. Но спокойный ум европейца невольно заставляет его симпатизировать завоевателям этой удивительной и совсем своеобразной страны. Тут-то Лондон начинает двоиться: в нем чувствуется фальшь, исходящая не из сердца, а от европейского услужливого ума. И тем не менее в этом томе есть прекрасные, мужественно-жестокие, удивительные рассказы.
«Закон жизни», несомненно, лучшая вещь. И как она проста по содержанию!
Индейское племя уходит на новые места. Остается один лишь дряхлый старик. Его не берут с собою, он будет помехой для охотников и лишним ртом в племени. И вот он остается один среди снежной пустыни. У него немного пищи и костер, который вот-вот погаснет, а кругом уже собираются волки. Но у старика нет ни страха, ни злобы, ни сожаления. Это закон жизни, – говорит он. Так же и он сам, будучи когда-то вождем, поступал с больными и стариками. Закон жизни! Медленно, шаг за шагом, перебирает он всю свою жизнь… Наконец костер тухнет… Таков в большинстве рассказов этот оригинальный и чрезвычайно талантливый писатель, завоевывающий себе мировую известность. В России он мало знаком, потому что его мало или лениво переводят. Главные его достоинства: простота, ясность, дикая, своеобразная поэзия, мужественная красота изложения и какая-то особенная, собственная увлекательность сюжета.
Фараоново племя
Мы присутствуем при вырождении цыганской песни, вернее – при ее скучной, медленной старческой кончине. Пройдет еще четверть века, и о ней не останется даже воспоминания. Древние, полевые, таборные напевы, переходившие из рода в род, из клана в клан по памяти и по слуху, исчезли и забылись, никем не подобранные любовно и не записанные тщательно. Старинные романсы вышли из моды – их не воскресишь. Современные романсы живут, как мотыльки-однодневки: сегодня их гнусавят шарманки и откашливают граммофоны, а завтра от них нет и следа.
Жалеть об этом или не жалеть? Правда, с цыганщиной как-то уж чересчур тесно связано наше безобразное и нелепое прошлое: время крепостничества и дикого барства, времена выкупных платежей, взяточничества, всяких концессий и откупов, интендантских оргий и банковских растрат. Но и в прошлом было кое-что милое, о чем поневоле вздохнешь с тайной и сладостной грустью: были Пушкин, Лермонтов, Тургенев и молодой офицер Толстой, были декабристы и масоны, были романтические девушки и отважные мужчины, были женские шляпы кибиточками, мушки, шаловливые анекдоты прабабушек, мебель красного дерева, клавесины, давно забытая учтивость, медленные и важные танцы, похищение невест и дуэли через платок, была грациозно-неуклюжая, уютная и живая старина. Была и цыганская песня. И о ней так же невольно вздохнешь, как вздохнешь о глупых слезах и о радостях детства, о смешных и прекрасных восторгах первой любви, о пылком и великодушном задоре ранней молодости, о безумно растраченных силах, которые когда-то казались неисчерпаемыми.
Почти сто лет держалось увлечение цыганской песней. Недаром же этому увлечению отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека девятнадцатого столетия: один – озаривший его начало, другой – увенчавший его конец. Один – Пушкин, другой – Толстой.
Совсем недавно, всего лишь несколько дней тому назад, какой-то внимательный поклонник светлой памяти Пушкина нашел наконец знаменитый нащокинский домик. История этого домика, конечно, известна каждому. Павел Воинович Нащокин, друг молодого Пушкина, из барской прихоти выстроил и постоянно украшал, со свойственной ему широтою натуры, оригинальную игрушку, точную копию своего московского двухэтажного дома, копию, которая свободно умещалась на ломберном столе.
Конечно, эта вещь драгоценна как памятник старины и кропотливого искусства, но она несравненно более дорога нам как почти живое свидетельство той обстановки, мебели, забав, безобидных кутежей, цыганского пения, беззаботных шуток и в то же время внимательной и истинной дружбы – словом, той среды, в которой попросту и так охотно жил Пушкин. И мне кажется, что за жизнью этого человека, ушедшего больше чем за историю – в легенду, гораздо точнее и любовнее можно следить по нащокинскому домику, чем по современным ему портретам, бюстам и даже по его посмертной маске.
Вот бильярдная, где один из игроков мелит кий, а другой – играет. Позы и костюмы игроков сделаны так искусно, что производят совсем живое впечатление. Вот столовая, кухня, винный погреб, гостиная, и каждая деталь поражает вниманием, терпением и тщательной обработкой. Все, начиная от человеческих фигур и кончая обыкновенной обеденной утварью, соблюдено тщательно и любовно.
Вот Пушкин в его излюбленном, недосягаемом кабинете читает стихи, полусидя, полустоя, опершись на стол. На нем киргизская шитая шапочка, в руках лист рукописи, на переднем плане сидит Гоголь, сгорбившись, охватив колена руками, благоговейный и задумчивый. Дальше чья-то фигура – говорят, что это портрет Нащокина.
И еще одна замечательная подробность: гостиная, старинные клавикорды, аккомпаниаторша… впереди на небольшой софе сидит Ольга Андреевна, подруга Нащокина, дочь знаменитой Стеши, Степаниды Сидоровны, с гитарой в руках, а еще дальше, точно невольно остановился в полушаге и вдумчиво затих Пушкин, очарованный цыганской песней.
«Новый год встретил я с цыганами, – пишет Пушкин князю Вяземскому от 2 января 1831 года, – и с Танюшею, настоящей Татьяной-пьяной. Она пела песню, в таборе сложенную, на голос: «Приехали сани».
Д. – Митюша,
В. – Петруша,
Г. – Федюша:
Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девок испугали
И всех разогнали
и проч.
Знаешь ли ты эту песню?»
Этот Новый год был мальчишником великого поэта, объявленного тогда женихом красавицы Гончаровой. А дальше его ждали узы семейной жизни, тяжесть придворного положения, долги, разочарования, усталость, вражда, клевета, рознь с друзьями. Но раньше он был своим человеком, любимым гостем, кумом и сватом у московских цыган в Грузинах, где и до сих пор цыганские хоры имеют постоянное пристанище. Сама Татьяна сравнительно недавно умерла в глубокой старости. Она многое забыла из своей пестрой и большой жизни, но Пушкина ярко помнила и говорила о нем со слезами.
Толстой неоднократно в своих произведениях возвращается к цыганской песне. В «Войне и мире», в «Двух гусарах» проходят цыгане. Появляются они и в «Живом трупе», и надо сказать, что сцены у цыган – лучшие места пьесы. Незадолго до своей смерти Толстой, так прямолинейно отрицавший величие цивилизации, обмолвился в беседе с одним журналистом словами, смысл которых приблизительно таков, что из всех завоеваний человеческих культур, в сущности ненужных и вредных, ему жаль было бы расстаться с музыкой и… «вот еще с цыганской песней»… Это под конец жизни. А в прежнее время, говорят, Тургенев жаловался на Толстого, который вскоре после Севастопольской кампании остановился у него на несколько дней и отравлял ему существование неправильным образом жизни и цыганскими хорами.
Упомянем еще о другом Толстом – Алексее, поэте, о Полонском, Лескове, Апухтине, Фете, Писемском. Вспомним многих носителей знатных имен, клавших к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, увозивших их тайком из табора, стрелявшихся из-за них на дуэлях… Было, стало быть, какое-то непобедимое, стихийное очарование в старинной цыганской песне, очарование, заставлявшее людей плакать, безумствовать, восторгаться, делать широкие жесты и совершать жестокие поступки. Не сказывалась ли здесь та примесь кочевой монгольской крови, которая бродит в каждом русском? Недаром же русские и любят так трагично, и поют так печально, и так дико бродят по необозримым равнинам своей удивительной, несуразной родины!
Теперь, повторяю, цыганская песня умирает. То, что мне доводилось слышать у цыган лет двадцать пять тому назад в Пензе, в Москве в манеже и в Москве же у Яра и в Стрельне, – было, увы, последними блестками цыганского пения: «Я вас люблю», «В час роковой», «Очи черные», «Береза». Тогда уже старые знатоки вздыхали о прежних временах, о знаменитой Пише, о Груше, о Стеше, о другой Стеше и о Зине, о настоящих фамилиях Соколовых, Федоровых, Шишкиных, Масальских. «Что за хор певал у Яра, он был Пишей знаменит, и Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит».
Но то, что мы теперь слышим с эстрад и с подмостков под названием цыганского романса, совсем потеряло связь с табором, с духом и кровью загадочного кочевого племени. «Ухарь-купец» и «Ай да тройка» заели цыганское пение. Подите летом в цыганский табор, расположенный где-нибудь в лесу под Москвой или Петербургом. Вы услышите нелепые слова на мотив немецких вальсов, увидите кафешантанные жесты. Старинной песни вы не допроситесь – ее не знают, знает разве какая-нибудь древняя, полуслепая, полуглухая старуха, высохшая и почерневшая, как прошлогодняя корка черного хлеба. Но и она только прослезится, если ей напомнить слова, и безнадежно махнет рукой: «Теперь над этими песнями смеются… Глупые, говорят, песни… Теперь пошли все модные…» Но как были прекрасны эти глупые песни! Бог знает, из каких прошедших тысячелетий, из каких южных стран вынес их этот загадочный, таинственный народ, это фараоново племя, как называют его в Средней России! Из Индии? Египта? Южной Европы? В бродячей жизни, среди чуждых языков, менялись и мешались слова, выпадали строки и строфы, но какой горячей кровью, страстной тоской и пламенной любовью, какой древней, первобытной красотой веет от восточной вязи этих песен… Именно в этой экзотической прелести и заключалось обаяние цыганских песен, действовавших, как колдовство, в этих песнях, подобных красным розам на снегу.
Такую песню я слышал трижды. Сначала – лет шесть-семь тому назад. Я с двумя приятелями проводил глухую, скучную сугробную зиму в одном диком монастырском посаде. На его окраине ютились зазимовавшие цыгане – два или три табора. Цыгане давно уже от холода, бедности, тоски, оседлой жизни и безделья перессорились между собою и враждовали – табор против табора, изба против избы. Но любовь к песне понемногу объединила всех: мужчин и женщин, запевал и плясуний. Старый цыган Иван Николаевич был большим и редкостным любителем полевых старинных песен, он и управлял хором. По ночам его маленькая, косая, тесная, темная избенка наполнялась народом. Угощение было самое простое: чай, бублики, немного вина, колбаса, сыр, леденцы детям.
Запевала дочь Ивана Николаевича – Маша, некрасивая, длинноносая, с лицом, порченным оспой, и с прекрасными темными глазами, горящими, пугливыми, ласковыми. Она заводила какую-нибудь таборную песню, а ее отец, перегнувшись через стол, пристально вонзался в нее черными глазами, сверкавшими среди желтых белков, и в любимых местах умоляюще шептал: «Романее, Маша, романее» (по-цыгански). И вдруг вместе с хором подхватывал припев своим ужасным, охрипшим, но необыкновенно верным голосом, и вся маленькая комната утопала в странном, диком и восхитительном сплетении множества женских и мужских голосов. Слов почти никаких не было в припеве, – были звуки, похожие на звон колокольчика, на стоны, на радостные выкрики… И вот вылетала плясунья Дуняша, синеволосая красавица в красной шелковой рваной кофте, и хор, разгоряченный песней и пляской, доходил до безумия. Тогда хотелось невольно плакать и веселиться.
Пели они, помню, «Акодяка Романее», «Кановела», «Coca Гриша», «Как за речкой», «Шел-мэ-верстэ», «Протазоре, прокариэ», «Протазоре» – необычайной красоты песня. Она походит и на пасхальные греческие ирмосы, и на русскую плясовую, в то же время каким-то древним вакхическим восторгом охватывает она душу. Пели также однажды «Староверочку». Тогда за нами увязался местный отставной полицеймейстер, добродушный человек, немного фрондер, любитель литературы и отвлеченных разговоров за столом… «Староверочка» – диковинная песня с грустным запевом и с дьявольским хором, где тоска причудливо мешается с бешеным разгулом. Цыгане особенно разошлись в этот вечер, и я помню, как под их крики, взвизгиваний и причудливые, бесконечно разнообразные переборы несложной, но неуловимой мелодии быстро слинял наш почтенный гость. Он вышел из избы, бледный, пошатываясь, и едва-едва нашел в темных сенях выходную дверь. Я провожал его и слышал, как он растерянно бормотал, нашаривая дверную ручку: «Да… вот так староверочка… вот так штучка».
Другой раз я слыхал – увы! – лишь в граммофоне – Варю Панину. Заочно понимаю, какая громадная сила и красота таилась в этом глубоком, почти мужском голосе.
В третий раз пришлось нам случайно забрести на Черную речку, в квартиру покойного Николая Ивановича Шишкина. Чавалы и цыганки как-то очень скоро оценили, что их слушают настоящие любители… Начал хор с модных песен, а кончил настоящей цыганской таборной песней. Я никогда не забуду этого внезапного, сильного, страстного и сладкого впечатления. Точно в комнате, где пахло модными духами, вдруг повеял сильный аромат какого-то дикого цветка – повилики, полыни или шиповника. И не я один это почувствовал. Я слышал, как притихли понемногу очарованные зрители, и долго ни одного звука, ни шороха не раздавалось в громадной комнате, кроме этого милого, нежного, тоскующего и пламенного мотива, лившегося, как светлое красное вино. Из тридцати присутствовавших вряд ли один понимал слова песни, но каждый пил душою ее первобытную, звериную, инстинктивную прелесть.
Ой да, ой да бида
Прэлэндэ накачалась:
Чай разнесчастна
Навязалась.
Бог весть, где и как родился этот унылый, странный и роковой напев. Первоначальные слова песенки сильно пострадали от устной передачи во время столетних кочевок. Но смысл ее прост, и силен, и прекрасен, как любовные песни туарегов, конаков или полинезийцев. Я тогда же попросил доставить мне перевод. Вот он приблизительно:
Ах, какая беда
На нас напала,
Несчастливая девушка
Меня полюбила.
Дальше, вероятно, выпал один куплет. Но видно, что существует какая-то преграда взаимной любви. Цыган эту преграду опрокидывает просто и решительно. Он грозит табору:
Ой, если не отдадите
Мне ее по чести
Увезу
Насильно…
Затем, по-видимому, в песне опять идет перерыв. В последнем куплете цыган уже увозит свою милую:
Ой, мои серые,
Серые да еще гнедые-рыжие,
Над нами только бог,
Пусть благословит!
Такова эта маленькая песня, вложенная в мелодию, похожую на арабские мотивы, мелодию, которая кажется очень легкой сначала, но которую не повторишь… И сквозь нее точно видишь и чувствуешь эту ночную погоню, этих взмыленных и одичавших лошадей с блестящими глазами – серых, рыжих и гнедых, своих или украденных, это все равно, крепкий запах лошадиного пота и здорового человеческого тела и выкраденную девушку, которая, разметав по ветру волосы, прижалась к безумно скачущему похитителю…
Какая странная штука судьба! На другой день Николай Иванович умер. Умер, как любимец судьбы, во сне, от паралича сердца. И в той же самой квартире, где под его гитару пелись огненные цыганские песни, я поцеловал его холодный мертвый лоб.








