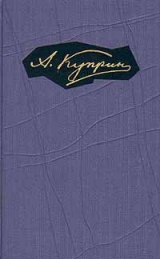
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
Рецензия на повесть Р. Киплинга «Смелые мореплаватели»
Р. Киплинг. Смелые мореплаватели (M., 1903)
Давно известно, что самый трудный и ответственный род литературы – это произведения, предназначенные для детства и юношества. Русская литература, которую уж никак нельзя назвать бедной и которая с каждым годом завоевывает все более и более почетное положение на мировом рынке, почти ничего не дала в этом направлении. Попыток, правда, и теперь достаточно много, но все они приурочены к предпраздничной широкой торговле детскими книгами и представляют из себя или жалкие и грубые компиляции с иностранного, или неуклюжие доморощенные произведения, в которых даже детский ум, несмотря на свою нетребовательность, гибкость и легкую приспособляемость ко всяким перспективам и освещениям, невольно чувствует фальшивое заигрывание, подделку, слащавое и болтливое сюсюканье.
О детях, правда, у нас изредка пишут, и пишут тонко, умно, с нежным, добрым юмором, но, мне кажется, я не ошибусь, сказав, что из современных наших художников только один г. Мамин-Сибиряк умеет и может писать те прелестные рассказы для детей, тайна которых заключается в том, что они одинаково неотразимо захватывают и взрослых.
Последнее условие можно считать самым безошибочным признаком того, что произведение написано талантливо и что оно найдет верный путь к детскому сердцу, и в этом отношении рассказ «Смелые мореплаватели» смело можно поставить рядом с «Дэвидом Копперфильдом» и прекрасным рассказом Марка Твена «Принц и нищий», который так широко, во множестве переводов и в тысячах экземпляров расходится среди читающей публики.
Интересно, что как Твен, так и Киплинг положили в основу своих рассказов почти один и тот же замысел. Оба автора заставляют своих героев – юношей, богато взысканных милостями судьбы, но совершенно незнакомых с суровым существованием серой и бедной массы, зависящей в будущем от этих счастливчиков, – пройти временно, благодаря сплетению всяких случайностей, железную школу жизни, полной нужды, опасностей, огорчений и обид.
В обоих произведениях занавес опускается как раз после счастливого возвращения скитальцев в родные дома; как станут поступать в будущем умудренные опытом и просветленные видом народной нужды и народной силы юные герои, – авторы этого не говорят, но читатель остается при непоколебимой уверенности, что оба юноши заплатят народу сторицей за ту науку, которую они почерпнули из его недр. Здесь, впрочем, не место говорить о рассказе Твена, героем которого является наследный английский принц, но я не могу отказать себе в удовольствии вкратце сообщить содержание «Смелых мореплавателей».
Гарвей Чэн, мальчик лет пятнадцати, сын американского миллионера, которому принадлежит полдюжины железных дорог и половина лесных дворов на берегу Тихого океана, едет на почтовом пароходе в Европу с целью кончить свое образование, которое еще не начиналось, как насмешливо замечает один филадельфиец. Как на пассажиров, так и на читателя этот молодой человек производит довольно противное впечатление. Он курит, хвастает своими карманными деньгами, которые без нужды постоянно вынимает и пересчитывает, говорит жестокие и глупые вещи и фамильярничает со взрослыми – серьезными и занятыми людьми. Однако путешествие его кончается плохо. Сильная качка и крепчайшая черная сигара, предложенная ему шутником-немцем, делают то, что Гарвей в страшном припадке морской болезни лишается сознания и падает за борт. Но будущий миллионер не погиб (что, в сущности, является почти невероятным). Его спас рыбак с глочестерской шхуны «Мы здесь», и с этого момента для Гарвея началась жизнь, исполненная самых неожиданных и подчас весьма тяжелых испытаний.
Рассказам его о богатстве отца никто не верит: весь экипаж твердо убежден, что мальчик во время падения ударился о борт головой и что с тех пор у него «приключилась неприятность в верхнем этаже». Шкипер судна, по имени Диско Труп, – старый, честный морской волк, – был даже вынужден однажды, как он выразился, собственноручно «прочистить Гарвею мозги», когда молодой человек, забывшись, высказал подозрение, что его карманные деньги вытащены кем-то из экипажа шхуны. Именно с этого эпизода, окончившегося кровопролитием из Гарвеева носа, и началось нравственное перерождение молодого Чэна. Гарвей – по натуре чистый, смелый и добрый мальчик, но избалованный безалаберным воспитанием чувствительной матери – сначала поневоле, а потом с горячим увлечением втягивается, под руководством своего сверстника, веселого и бойкого Дэна, в трудовую, но полную своеобразной поэзии жизнь рыбаков в открытом океане. Он безропотно, с сознанием выполняемого долга моет палубу, подает старшим матросам обед, ловит и чистит рыбу, ворует у кока жареный горох, учится ставить парус, управлять рулем и бросать лот-линь. Понемногу он делается признанным членом экипажа, имеет свое место за столом, участвует в долгих разговорах в бурную погоду, когда все охотно слушают «волшебные сказки» об его прежней жизни, и вообще нападает на мысль, что его настоящее положение много лучше того, когда он выслушивал насмешки над собой в курительной комнате почтового парохода. И чем больше он узнает своих невольных спутников среди опасностей и трудов долгого плаванья, тем большей любовью и уважением проникается он, а вместе с ним и читатель к этим простым и великодушным людям, соединяющим детскую чистоту сердец с хладнокровной отвагой закаленных моряков и откровенное невежество с житейской мудростью. И когда наконец, после долгих и разнообразных приключений, рассказ о которых неудержимо захватывает читателя, Гарвей опять встречается с отцом и матерью, уже отчаявшимися его отыскать, то перед ними совсем другой юноша – серьезный, бодрый, с несокрушимым здоровьем и с деловым уважением к чужому и своему труду. Само собою разумеется, что автор вложил много трогательного и забавного в счастливую развязку своего рассказа, который, в общем, производит такое же сильное, ясное и свежее впечатление, как и навеявшая его морская стихия. Переведена книга отличным языком и снабжена многими рисунками.
Рецензия на книгу Н.Н. Брешко-Брешковского «Опереточные тайны»
H.H. Брешко-Брешковский. Опереточные тайны (Петербург, 1905)
Вообще г. Брешко-Брешковский питает слабость к таким заглавиям, от которых, по выражению одного провинциального антрепренера, собаки воют и дамы в обморок падают. «Шепот жизни», «В царстве красок», «Из акцизных мелодий», «Тайна винокуренного завода», «Опереточные тайны» и т. д. и т. д. Вероятно, такие заглавия действуют раздражающим образом на любопытство читающей публики из Апраксина рынка. Недаром же столь колоссальным успехом пользуется и до сих пор добрый старый роман под соблазнительным заглавием: «История о славном и храбром рыцаре Францапе Венециале и о прекрасной королеве Ренцывене, с присовокуплением истории о могучем турецком генерале Марцымирисе и о маркграфине Бранденбургской Шарлоте». А «Гуак, или Непреоборимая верность»? А «Английский милорд Георг»? А «Суматоха в коридоре, или Храбрый генерал Анисимов»? Книжечки эти разошлись по России не в одном миллионе экземпляров. Но пусть же г. Брешко-Брешковский не забывает, что успех их – это лавры подкаретной литературы.
«Опереточные тайны» представляют собой окрошку из стареньких-престареньких кусочков, бывших в употреблении, по крайней мере, уж лет пятьдесят тому назад. Здесь и опереточный премьер с «яркими чувственными губами» и с «сочным бархатным баритоном», насвистывающий «бравурные» мотивы, и покровитель искусства корнет Белокопытов, и богач Крайндель (в прежних пьесах – толстый банкир), и пропившийся, но глубоко честный в душе старый актер Штейн, – словом, персонажи сильно подержанные. Как новость, затесался в этот роман художник Тарасович, который на сцене во время антрактов – что уже вовсе невероятно – пишет опереточные этюды. Затем, конечно, ужины, шампанское и, как всегда у Брешко-Брешковского, женщины с адски-зверски-пламенными темпераментами и с телами, похожими на «теплый, упругий, мраморный бархат». У Гоголя есть учитель истории, который, пока толкует об ассириянах и вавилонянах, еще туда-сюда, но как дойдет до Александра Македонского, то сам себя не помнит. Так и г. Брешко-Брешковский: когда речь заходит у него о женщинах, начинается какое-то разнузданное, истеричное, припадочное вранье, в котором даже нет настоящей здоровой чувственности, а просто так себе – упражнения чисто головного характера, тот нелепый, хвастливый и дикий разговор о женщинах, которым на гауптвахте сокращают свой досуг арестованные за буйство подпоручики. Помилуйте! «Чувственные губы, точно кровью вымазанные, жаждут крови». «Вся эта женщина была одно грешное, ослепительное, трепещущее от желаний тело, которое каждым нервом своим, казалось, вопияло (хорош глагол, нечего сказать!): «Возьми меня, ласкай, упивайся мною». «Она замерла в ожидании». «Дико, чудовищно не броситься и не покрыть ее поцелуями»… «Красавица созерцала свой пышный бюст»… Ну, и так далее. Литература… хе-хе-хе… для старичков-с… Общий же вывод из романа, как, впрочем, и из всех произведений г. Брешко-Брешковского, – это то, что автор любит женщин, и притом полных. Ему и книги в руки. Боюсь, что невольно делаю рекламу г. Брешко-Брешковскому. Есть этакие изданьица, вроде, например, «Тайны супружеского алькова», «Интимная красота женщины», «Верное средство в любви» и тому подобные. Писать о них, хотя бы и неодобрительно, это значит способствовать их распространению. Вот поэтому-то я и оговариваюсь: в произведениях г. Брешко-Брешковского звучит не страсть, а – passez le mot [90]90
Извините за выражение (франц.).
[Закрыть]– голая порнография, и притом холодно-риторичная, искусственно взвинченная, вымученная. Любители, купив его книжку, разочаруются. Притом я бы и вовсе не упоминал о романах г. Брешко-Брешковского, если бы, к крайнему моему сожалению, не видел, что этот автор все-таки может писать, и писать недурно. Он знает хорошо быт юго-западных окраин, не лишен наблюдательности, чувствует природу. Даже и в «Опереточных тайнах» есть два-три интересных свежих места, например, описание провинциального городка в самом начале романа, полторы странички в последней главе – ссора опереточного премьера с женой, рассказ о том, как Штейн бьет стекла в ресторане. Но эти крошки дарования тонут в огромном море пошлости, трафаретных приемов и преувеличенной, скучной лжи. Все это, впрочем, и раньше говорилось г. Брешко-Брешковскому. Говорилось ему также и о том, что неприлично упоминать в современных повестях фамилии ныне здравствующих людей, а у него на каждом шагу – то известный художник Новоскольцов, то знаменитый певец Северский, то обаятельный Немирович-Данченко. Неужели автор не понимает, как это должно коробить читателя? Но, очевидно, г. Брешко-Брешковского не переделаешь. По-видимому, этот молодой писатель отлился в окончательную форму и застыл в ней. И есть грубая, но меткая русская поговорка: «черного … не отмоешь добела».
Памяти Чехова (статьи)
Прошел ровно год с того дня, когда в маленьком немецком городке, вдали от истекающей кровью родины, умер Чехов, несравненный художник, гордость нашей литературы – угас светлый прекрасный человеческий дух. И последние его волнения, последние слова, последние тоскливые мысли были о России. Какие страшные грозы пронеслись над нами за этот ужасный и, может быть, величайший в нашей истории год! Потоки крови на войне, Ляоян, падение Порт-Артура, четырнадцать дней Мукденского боя, позорная паника, гибель флота у Цусимы. Этот год промчался, как один чудовищный, кровавый, бессонный и безумный день, и вот нам поневоле кажется, что только вчера похоронили мы Чехова.
Но тихой и покойной грустью смягчены воспоминания о нем. Так, вероятно, после землетрясения, разрушившего громадный город, грустили его жители о погибшем прекрасном храме.
Наше воображение пресытилось кровавыми картинами смерти, тысячами трупов, неутолимыми материнскими слезами, грозным заревом пылающих деревень, и нежная поэзия Чехова с его усталыми, спящими полями, облитыми кротким светом вечерней зари, с его росистыми утрами на берегах медленных, заросших камышами рек, с ночными дорогами среди искрящихся снегов, с пахучими летними полднями и шумными веселыми дождями, с прекрасными женскими лицами, так очаровательно улыбающимися сквозь светлые слезы, – вся эта драгоценная прелесть чеховской поэзии представляется нам далекой, бесконечно милой сказкой. И теперь, когда наступает время великих, грубых, твердых, дерзновенных слов, жгущих, как искры, высеченные из кремня, – благоуханный, тонкий, солнечный язык чеховской речи кажется нам волшебной музыкой, слышанной во сне. Но события проходят, и всему наступает конец. Во всех нас живет неумирающая вера в то, что Россия выйдет из кровавой бани обновленной и светлой. Мы вздохнем радостно могучим воздухом свободы и увидим над собой небо в алмазах. Настанет прекрасная новая жизнь, полная веселого труда, уважения к человеку, взаимного доверия, красоты и добра. И тогда-то имя Чехова засияет во мраке непреходящего бессмертия. Ибо он был истинным глубоко русским художником, каким до него был разве только один Пушкин. Никто так тонко и проникновенно не чувствовал грусти и шири русской природы. Русская жизнь зачерпнута им повсеместно до самого дна и отражена с мельчайшей правдивостью. Не его вина, если эта жизнь в художественном изображении выходила серой, тоскливой, низменной, неустроенной и дикой. Арестантского халата не напишешь кармином и берлинской лазурью. Он никогда не морализовал, не «обливал ядом презренья», не «жег смехом гражданской сатиры», не «клеймил» гневным словом. Он, как врач, вооруженный громадным знанием, чуткостью, хладнокровным опытом и необычайной наблюдательностью, вдумчиво прислушивался к течению русской жизни и рассказывал нам о наших болезнях, о равнодушии, лености, невежестве, грязи, халатности, мелком зверином эгоизме, трусости, дряблости. И как тонкий грустный скептик, изверившийся в паллиативе, он не досказывал,что одряхлевшему и обленившемуся больному, не встающему с кресла, всего нужнее недоступный для него свободный воздух и быстрые сильные движения. Но диагноз его был безошибочен. Если под Садова, по выражению Мольтке, победил школьный учитель, то с мукденских полей и сопок бежали, топча друг друга в безумной панике: чеховский мужик, оголодавший, одичавший, ослепленный тьмою и рабством, чеховский мещанин, развращенный жизнью городских окраин, чеховское милое, доброе, нелепое, вымирающее слабосильное дворянство, чеховский чиновник, офицер, интеллигент, разъеденные ничегонеделанием, выпивкой, винтом, сплетней, самохвальством, пустой и бесстыдной ленью.
И это Вершинины пускали себе пули в лоб на батареях, и его Астровы сходили с ума, подавленные ужасами кровавого побоища.
Но пусть даже исчезнут, переведутся эти люди – детища мрачного тупого безвременья, – Чехов всегда будет дорог для нас, как великий, недосягаемый мастер слова, как удивительный художник прекрасного русского языка. Вместе с замечательной простотой и скромностью фразы он сумел соединить ее изысканное разнообразие, непостижимую гибкость оборотов, изящную и благородную смелость формы, точность и новизну эпитетов – всю эту неувядаемую прелесть чеховской речи, которой долго еще будут удивляться и учиться писатели будущих времен.
Слова Чехова – это лучшие цветы, растущие на его могиле. Да будут же они благословенны вместе с его незабвенной памятью!
О Кнуте Гамсуне
I
«Большая книга вышла из печати, целое королевство, маленький шумный мир настроений, голосов и образов. Ее раскупали и читали. Имя его было у всех на устах, счастье не покидало его… Эту книгу он написал на чужбине, вдали от воспоминаний пережитого на родине, и она была крепка и сильна, как вино». «Милый читатель, это история Дидриха и Изелины. Она была написана в доброе время, во дни ничтожных работ, когда все легко переносилось, написана с сильной нежностью к Дидриху, которого бог поразил любовью».
Это все говорится о книге Иоганнеса, сына мельника, которого так же, как и всех героев Гамсуна, бог поразил прекрасной, трагической, пронизавшей всю его жизнь любовью («Виктория»). Но так и кажется поневоле, что Гамсун говорит здесь о другой книге, о своем «Пане», создавшем автору его теперешнюю, чуть ли не всемирную известность.
Первый перевод этого замечательного романа появился у нас около восьми лет тому назад – боюсь ручаться за точность – в книгоиздательстве «Скорпион», в очень хорошем переводе Полякова. Потому ли, что широкая публика относилась тогда еще недоверчиво к этому издательству с таким претенциозным названием и исключительным направлением или благодаря изысканной аристократической своеобразности, непринужденной простоте и глубине, пестроте настроений и новизне формы, которыми блистает это произведение, – но только первое издание его перевода расходилось довольно медленно. Правда, покойный Чехов один «из первых приветствовал его, называя этот роман чудесным и изумительным еще в то время, когда о Гамсуне очень мало знали даже на его родине, в Норвегии. И если теперь имя Гамсуна действительно на устах у всех образованных русских читателей, то это явление приятно заметить, как рост художественного понимания и повышения вкуса.
Что такое «Пан» как литературное произведение? Если хотите, – это роман, поэма, дневник, это листки из записной книжки, написанные так интимно, точно для одного себя, это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви. Роман написан так, как пишет гений: не справляясь о родах и видах литературы, не думая о границах дозволенного, приличного, принятого и привычного, без малейшей мысли об авторитетах предшественников и требованиях критиков. Оттого-то этот роман так и напоминает аромат дикого, невиданного цветка, распустившегося в саду неожиданно, влажным весенним утром. Остов романа так прост, что его трудно передать, не вызвав недоумения у того, кто еще не читал его. Некто Томас Глан, лейтенант, охотник, странный человек с тяжелым, звериным взглядом, проводит раннюю весну, лето и осень в горном лесу на севере Норвегии, над морем. Его друзья – лес и великое уединение. Он живет в одинокой лесной хижине, почти в берлоге, вместе с собакой Эзопом, добывая пропитание охотой и спускаясь вниз, в маленький городишко Сирилунд, для того, чтобы купить хлеба и соли. Случайно он знакомится с дочерью местного торговца. Ее зовут Эдвардой. Она подросток, только что начавший формироваться в женщину; она еще держится с той особенной неуклюжестью, которая свойственна этому девическому возрасту, ступая ногами внутрь, но у нее на бледном лице пламенный рот, и вся она, как и Глан, из тех немногих людей, над которыми любовь повисает, как рок, и отмечает их на всю жизнь неизгладимою печатью. Они любят друг друга, но гордость, ревность, каприз, подозрительность – все эти средства вековечной вражды двух полов – обращают их чувство в сплошное взаимное мучительство. Они расстаются: Эдварда выходит замуж за титулованное ничтожество, Глан предается оргиям в своих экзотических скитаниях, – но им суждено до конца дней стонать под гнетом единственной, неразделенной страсти. В романе есть еще несколько лиц: отец Эдварды, хромой доктор, влюбленный в нее, и маленькая самоотверженная женщина – Ева, с ее трогательной, наивной и горячей любовью к Глану. Но главное лицо остается почти не названным – это могучая сила природы, великий Пан, дыхание которого слышится и в морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, ползущим вверх по небу, и в железных очах осени, в шепоте листьев, и в их молчании, и в зове птиц и насекомых, и в тайне любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы. Нет возможности передать подробно содержание этой книги, с ее удивительным, самобытным, волнующим тембром, с ее прихотливыми отступлениями, с ее страстными легендами и горячим весенним бредом, где сон и сон во сне так тонко мешаются с действительностью, что не различишь их. Читаешь роман во второй, в пятый, десятый раз и все находишь в нем новые сокровища поэзии – точно он неисчерпаем.
II
Та же самая неразделенная, невознагражденная, мучительная любовь, какая была между Эдвардой и Гланом, проходит почти через все произведения Гамсуна, как будто бы этот сюжет наиболее близок его душе. В «Пане» есть маленькая притча о юноше и двух девушках. Одна отдала ему все, что он просил, и ей это ничего не стоило, и он даже не благодарил ее; но у другой он выпрашивал ласки, как раб, как нищий, и, если бы ей понадобилась его жизнь, он жалел бы, что она не попросила большего. Этот мотив, слегка видоизменяемый, звучит и в «Виктории», и в романе «Под осенними звездами», и в «Драме жизни», и в некоторых небольших рассказах. Даже внешность Эдварды, ее манера ступать на ходу носками внутрь, ее красный рот, бледность, высокие бедра – повторяются часто, точно автор видит перед собою все тот же знакомый образ.
Вот другой роман – «Виктория». Это история бесконечно глубокой, нежной, восторженной и мучительной любви между сыном мельника и дочерью господ из соседнего замка, – любви, которая начинается с детских игр, длится всю жизнь и вдруг расцветает бессмертным сиянием перед смертью Виктории в ее последнем письме.
Иоганнес делается известным писателем. Гамсун даже приподнимает перед читателем ту таинственную, закрытую для всех завесу, за которой совершается незримая работа ума и фантазии, выливающаяся в талантливых произведениях. Но для Виктории Иоганнес остается все тем же мальчиком с мельницы, так же как и она для него – барышней из замка, недосягаемым, высшим существом. Только смерть открывает ей глаза и показывает, как ничтожны в сравнении с любовью все остальные земные вощи, понятия и условности.
«Теперь я вас больше не увижу, – пишет умирающая Виктория, эта прежняя барышня из замка, – и я раскаиваюсь, что не бросилась перед вами на землю и не целовала ваших ног и земли, по которой вы ходили, и не высказала вам всю свою бесконечную любовь…»
«…Да, Иоганнес, я любила вас, всю свою жизнь я любила только вас», – Виктория пишет эти слова, и бог читает их из-за моего плеча».
«…Будьте счастливы, Иоганнес, благодарю вас за каждый день. Когда я буду отлетать от земли, я буду благодарить вас до последней минуты и про себя шептать ваше имя».
«…У меня не хватает больше сил писать. Прощай, любовь моя…»
Это плачет ее душа в последние минуты жизни. И теперь еще понятнее становятся те огненные слова, которыми Гамсун в этом же романе говорит о любви, вкладывая их в уста несуществующего монаха Вендта:
«Что такое любовь? Ветерок, проносящийся над розами, нет, электрическая искра в крови.
Любовь – это пламенная адская музыка, заставляющая танцевать даже сердца стариков. Это маргаритки, широко распускающие свои лепестки с наступлением ночи, это анемона, которая закрывается от дуновения и от прикосновения умирает.
Такова любовь.
Она может погубить человека, поднять его и снова заклеймить позором; сегодня она любит меня, завтра тебя, а в следующую ночь его, – так она непостоянна. Но она так же тверда, как несокрушимая скала, и горит неугасаемым пламенем до самой смерти, потому что любовь вечна. Что же такое любовь?
О, любовь – это летняя ночь с небесами, усеянными звездами, и с благоухающей землей. Почему же она заставляет юношу идти окольными тропинками и почему заставляет она старика одиноко страдать в его комнате? Ах, любовь превращает сердце человека в роскошный бесстыдный сад, где растут таинственные, наглые грибы.
Разве не она заставляет монаха пробираться в чужие сады и заглядывать ночью в окна спящих? Разве не она делает безумными монахинь и помрачает разум принцесс?
Она заставляет склоняться голову короля до самой земли, так что волосы его метут дорожную пыль, а уста его бормочут бесстыдные слова, и он смеется и высовывает язык.
Такова любовь.
Нет, нет, она совсем другая, и она не похожа ни на что на свете…
…Любовь – это первое слово, произнесенное богом, первая мысль, осенившая его.
Когда он произнес: «Да будет свет!» – появилась любовь. И все, что он сотворил, было так прекрасно, что он ничего не хотел переделывать. И любовь стала первоисточником мира и его властелином; но все пути ее покрыты цветами и кровью, цветами и кровью».
Как и почти всегда у Гамсуна, в «Виктории» есть третье лицо, любящее покорно и самозабвенно, той любовью, которая ни на что не надеется и готова отдать все. Это маленькая Камилла, когда-то спасенная Иоганнесом из воды на глазах у Виктории.
III
В «Пане» и «Виктории» Гамсун находит разные аккорды для изображения любви. В чувстве Глана и Эдварды слышится могучий призыв тела, трепет и опьянение страсти, весеннее бурное брожение в крови. Любовь Иоганнеса и Виктории вся обвеяна нежным, целомудренным благоуханием.
Но у Гамсуна – этого истинного поэта любви и природы – есть также и «роскошные сады, где растут таинственные, наглые грибы». В «Голосе жизни» молодая прекрасная женщина из общества в день смерти своего старого мужа приводит ночью, прямо с улицы, человека, писателя, знакомого ей только по имени, к себе в дом и со всем безумием страсти отдается ему в спальне, где еще стоят две постели, рядом с комнатой, где еще лежит на столе покойник. И опять новые приемы в этом маленьком, всего в пять страниц, рассказе: ни одного сомнения, ни колебания, ни недомолвок, язык сжат и почти груб, и вот, несмотря на кажущуюся вымышленность фабулы, получается рассказ удивительной выпуклости и правдивости, стоящий лучших рассказов Мопассана. В романе «Голод» передана потрясающая, кошмарная история человека, выброшенного обстоятельствами за борт благополучного существования. Внешний ужас положения не в голоде и его мучениях, среди большого столичного города, не в судорожных, истеричных поисках за работой, не в ночлегах на улице, а в тех реальных мелочах жизни, которые свирепее физических страданий: в непереваренном бифштексе, в волосах, которые вылезают от голода и лежат прядями на одежде и в умывальном тазу, вызывая насмешки горничной, в жалких, унизительных попытках заложить очки и пуговицы от жилета, в этих драных панталонах, которые приходится смачивать водой, чтобы они казались чернее и новее, в тощем укушенном пальце, из которого голодный человек высасывает свою кровь и плачет при этом от жалости к самому себе.
Но в сто крат ужаснее то, что делается внутри этого человека, раздавленного голодом и одиночеством. С трепетом присутствуешь при том, как его несчастный мозг, обескровленный голодом, приближается в ярких и страшных галлюцинациях к безумию, как болезненно разрушается и падает воля, как обостренное внимание напряженно и тяжко привязывается к изнуряющим мелочам вне и внутри себя. Страницы, в которых описывается ужас темноты, налегшей на человека в камере для бесприютных при полицейском участке, – одни из самых потрясающих страниц в мировой литературе…
Но и в это удивительное произведение Гамсун вплетает любовный эпизод, по своему психологическому значению, может быть, самый глубокий из всего написанного им о любви.
Этот оборванный бродяга, похожий на нищего, находящийся от долгого голода в постоянной власти болезненных фантастических грез, встречается случайно на улице с красивой молодой женщиной – «Илайали», как он называет ее мысленно, по странному капризу. Он поражает ее воображение и, наконец, чувство своим необычным видом, своим странным языком, какой-то диковинной обособленностью от всех людей, которых она встречала до сих пор. Она готова считать его пьяным, немного сумасшедшим, может быть, вором или убийцей и тем не менее почти отдается ему, но когда она узнает о том, что он только голодный, то страсть сменяется у нее отвращением, жалостью и ужасом.
Гамсун как будто бы чуждается внешних сторон быта, обходя их или пренебрегая ими. Но он может быть и прекрасным наблюдателем. У него есть неоцененная особенность: рассказывая о чужой стране и чужих людях, находить те именно характерные, мелкие черты, которые до него никому не бросались в глаза, и рисовать их сжато, в двух-трех словах. Таков он в рассказах: «В Прерии», «Уголок Парижа», «В стране чудес» и так далее.
«В стране чудес» – это путешествие по России и главным образом по Кавказу. Увы! Талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара.
IV
Гамсун не создаст школы. Он слишком оригинален, а подражатели его всегда будут смешны. Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред, которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его неподражаем – этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык, которым он как будто бы рассказывает свои повести, один на один, самому близкому человеку и за которым так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и нежная улыбка. Но имя Гамсуна останется навсегда вместе с именами всех тех художников прошедших и грядущих веков, которые возносят в бесконочную высь ценность человеческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть существования и доказывают нам, что «сильна, как смерть, любовь»; и что ничтожны и презренны все усилия окутать ее цепями условности. И я без преувеличения скажу, что «Пан» и «Песнь Песней» – это только звенья одной и той же цепи вечных художественных произведений, ведущих к освобождению любви. Я ничего не знаю из биографии Кнута Гамсуна, да и нахожу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателя, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло. Но у меня есть его портрет. Длинное, худое, красивое, несколько суровое лицо, пенсне, внешность доктора или адвоката, но под спутанными, волнистыми, белокурыми волосами, почти закрывающими лоб, пристальные глаза смотрят тяжелым, звериным взглядом лейтенанта Глана.








