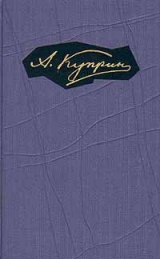
Текст книги "Том 9. Очерки, воспоминания, статьи"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название «Hotel du port» [56]56
«Портовая гостиница» (фр.).
[Закрыть]. Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большой части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира. По крайней мере, при мне за табльдотом собирались два китайца, японец, сингалез, несколько греков и еще какие-то диковинные цветные люди, имевшие совсем несуразный вид в европейских одеждах. Прислуживал нам некто Андри, мрачный человек с типичным лицом наемного убийцы. Хозяин был добродушный, неповоротливый человек с лысиной на голове и с ласковой улыбкой на губах, марселец родом. Мы часто подзывали его к нашему столу и потчевали вином или кофе. Он оказался тоже бывшим моряком и охотно рассказывал нам о своих прежних плаваниях:
– Это не так легко, господа, как думаете вы, береговые люди. Сначала я служу четыре года, от двенадцати до шестнадцати, в качестве «mousse» (мошка). Это значит, что всякий может мне дать колотушку и за дело и так себе, для собственного удовольствия. После этого я уже становлюсь «novice» (новичок), и это опять на четыре года, и вот, только после восьмилетнего испытания, я уже могу считать себя «un matelot» (матрос) и, в свою очередь, могу, когда мне понравится, стукнуть по затылку любого «mousse» или «novice».
И он с необыкновенной простотой, немного лениво и небрежно, как будто речь шла о самых незначительных предметах, рассказывал нам живописно о всех портах земного шара, о страшных драках на берегах между матросами разных наций, о бурях и крушениях, о всех необыкновенных случаях, когда жизнь его висела на волоске. Словом, это был простодушный, кроткий и уравновешенный человек с той ясностью взгляда и спокойствием души, какие так часто приходится наблюдать у бывших морских людей.
– Я всегда пил очень мало, – рассказывал он, – я не любил понапрасну тратить деньги, а потому, когда мои ревматизмы заставили меня оставить службу, то я вышел из флота с небольшими сбережениями. А потом я встретился с Долорес. У нее тоже было небольшое приданое. Мы поженились и открыли сначала маленькую табачную и колониальную лавочку, а потом арендовали вот эту гостиницу.
Долорес, в противоположность своему флегматичному мужу, была живая, подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не утратившая тяжелой, горячей южной красоты. Она всегда была в движении, появлялась как-то одновременно и в комнатах, и на кухне, и на веранде, приветливо-задорно улыбаясь посетителям, подходила к столикам, на минуту присаживалась и сейчас же неслась дальше.
Я был однажды свидетелем такой сцены. Какие-то цветные люди, не то шоколадного, не то бронзового цвета, все как на подбор маленькие, худые, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в дело ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем на клекот птиц, страшно выкатывали желтые белки и скалили друг на друга белые сверкающие зубы. И вот Долорес быстро накидывает на себя черную мантилью, вытаскивает из волос розу и берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо поднятой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела, стала почти красавицей: гневные черные глаза, ноздри, раздутые, как у арабской лошади, и эта пунцовая роза в красных чувственных губах, – прямо загляденье! Коротким повелительным движением, картинно вытянутой рукой она указала на дверь и с непередаваемым выражением презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:
– Sortez! [57]57
Уходите! (фр.)
[Закрыть]
И буйные матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты.
Об этих двух людях я нарочно упоминаю с такими подробностями, что впоследствии, через несколько дней, мне пришлось воспользоваться их услугой при таких обстоятельствах, когда с необыкновенной прелестью проявились их простые, милые души.
В путешествии, при остановках в разных городах, меня не влекут к себе ни музеи, ни картинные галереи, ни выставки, ни общественные праздники, ни театры, но три места всегда неотразимо притягивают меня: кабачок среднего разбора, большой порт и – грешный человек – среди жаркого дня – полутемная, прохладная старинная церковь, когда там нет ни одного человека, кроме древнего, заплесневелого сторожа, и когда там можно спокойно посидеть и погрезить в глубокой тишине, среди установившихся запахов свечей, ладана, чуть-чуть мертвечины и каменной сырости.
От нас до порта было рукой подать, и неизменно каждый день мы бродили по его гаваням, эллингам, пристаням и молам. И все-таки мы не успели обойти даже половины этого гигантского сооружения. Самый главный мол, непосредственно ограждающий порт от моря, тянется на пространстве более трех с половиной верст, а высотою он около пяти сажен. Он так широк, что на нем совершенно свободно могут разъехаться две тройки, и снаружи, для большей устойчивости против волн, завален массивными камнями и саженными цементными кубами, внутри же, между берегом и молом, бесчисленное множество других молов, больших, маленьких и средних раздвижных мостов, всевозможных зданий, пакгаузов, таможен и маленьких кабачков. Тысячи судов, паровых и парусных, одновременно разгружаются и нагружаются. Как густой лес, торчат кверху трубы, мачты и мощные, подобные исполинским железным удочкам, паровые краны; по железным эстакадам и по рельсовым путям на молах то бегут, то медленно тянутся пустые и нагруженные поезда, свистят паровозы, гремят цепи лебедок, звенят сигнальные колокола, шипит выпускаемый пар, дробным звенящим стуком звенят молотки клепальщиков. Идешь, точно в каком-то сумбурном сне, через сотни самых разнообразных запахов. Пахнет смолой, дегтем, сандальным деревом, масляной краской, какими-то диковинными восточными пряностями, гнилью застоявшейся воды, кухней, перегорелым смазочным маслом, керосином, вином, мокрым деревом, розовым маслом, тухлой и свежей рыбой, чесноком, человеческим потом и многим другим. Эта быстрая смена обонятельных ощущений совсем не противна, но как-то ослабляет, кружит голову и точно пьянит. Сотни судов грузятся углем, перед тем как пуститься в далекое плавание – куда-нибудь в Нью-Йорк, в Мельбурн или Владивосток. Часами я наблюдал за этой ловкой работой. На вертикальном высоком стержне вращается горизонтальное коромысло, к концам которого прикреплены железные бадьи, каждая около тонны вместимостью. Все сооружение похоже на весы исполинских размеров. В то время когда одна чаша этих весов высыпает свое содержимое в трюм парохода, другая уже черпает уголь из высокого, в два этажа вышиною, штабеля. Все это занимает не более пяти-шести секунд. Звонок – и коромысло весов начинает вращаться. Наполненная бадья останавливается над трюмом, где ее быстро переворачивают, а пустая дожидается своего наполнения около штабеля, – и так беспрерывно работает этот угольный кран с утра до вечера.
Вдоль берега тянутся непрерывно, в несколько рядов, пакгаузы и таможни, а между ними движутся поезда. Огромный амбар, в котором свободно уместилась бы пара аэропланов, весь почти доверху набит земляными орехами (такие орехи-двойняшки, с желтой чешуйчатой хрупкой скорлупой), другой наполнен драгоценной, терпкой на запах кошенилью, третий – винными бочками, четвертый – тюками тканей и так далее. На мостовой, под открытым небом, громоздятся целые горы серы, привезенной из Сицилии, дубовых клепок, доставляемых сюда с юга России; под толстым грубым брезентом сложены миллионы мешков пшеницы, овса, ячменя и кукурузы; правильные красные валы – целый городок, сложенный из марсельской черепицы. Беспрерывно везут на телегах живность, предназначенную для пароходов: свиней, быков, телят и солонину.
Подолгу также простаивали мы у наружных ворот таможни. В этих темных, больших, мрачных зданиях, где всегда разгуливает жестокий сквозной ветер, задерживают совсем ненадолго измученных пассажиров. Быстро, в несколько секунд, оглядели ручной багаж, поставили на нем крестик, и путник, изморенный несколькими неделями плавания, измученный морской болезнью, стосковавшийся по суше, с чувством живой радости выходит на улицу навстречу зною, шуму и толпе.
На каких только людей не насмотришься в эти минуты прибытия парохода! Вот, например, идет кучка арабов. На них висят длиннейшие бурнусы с подолом, перекинутым через плечо бессознательным, привычным движением, но поглядите, какими художественными складками ложится это платье… Белые одежды на арабах грязны и разорваны, и часто сквозь них увидишь темное мускулистое тело, по сами они высоки, стройны, прекрасно сложены, и в их серьезных лицах, в медленной, гордой походке чувствуется настоящая царственная важность.
Фески, зеленые и белые чалмы, какие-то странные чалмы, сплетенные из соломы; маленькие, полуголые, похожие на обезьян люди, черные, как вакса, с курчавыми волосами, сбитыми, как войлок. Огромные красные губы, сверкающие зубы и белки… Пунцовые береты, неаполитанские колпаки, зеленые восточные халаты – все это густо и тесно выливается из ворот таможни и расплывается, рассеивается веером во все стороны.
Но, даже и не посещая порта, мы тесно связаны с ним. Как бы мы поздно ни легли накануне, все равно нам приходится неизбежно встать в пять часов утра, потому что в это время из порта везут нагруженные телеги. Эти телеги стоят того, чтобы о них сказать несколько слов. Они двухколесные, причем каждое колесо величиною в хороший человеческий рост; оно составлено из массивных кусков мореного дуба и обтянуто железным обручем в три пальца толщиною. Между колесами покоится массивная платформа, на которой свободно умещается сто или даже полтораста обыкновенных мешков с мукою, весом, как и всюду, около шести пудов каждый. В эту повозку, весом в несколько сотен пудов, впрягаются от трех до шести лошадей, но это не лошади, а что-то скорее более похожее на слонов. Огромные, вершков восьми ростом, с задами, на которых можно разбить палатку, с копытами величиною с суповую тарелку, с мохнатыми щетками над бабками, с гривами и хвостами до земли, в большинстве серой масти, с добродушным взглядом влажных темных глаз – они всегда производили на меня необыкновенное впечатление страшной силы, большого терпения и кротости. Хомуты и чересседельники, надетые на них, прямо поражают своими размерами, особенно на кореннике, которому приходится уравновешивать своей спиною всю тяжесть повозки. У каждой лошади на хомуте – я уже не знаю, для какой надобности – торчит кверху высокий кожаный рог. Впереди всей упряжки обыкновенно идет мул – это наиболее умное, наименее нервное и самое выносливое из всех вьючных животных.
Теперь представьте себе, что шесть таких серых мамонтов, в сто пудов весом каждый, идут вместе, согнув свои массивные шеи, напряженно вваливаясь всей своей тяжестью в хомуты и ступая одновременно своими чудовищньми копытами по мостовой, а вслед за ними грохает по камням исполинская повозка! Стены нашей гостиницы дрожат от основания до крыши. В окнах дребезжат все стекла, шатается, скрипит и, наконец, распахивается настежь древний шкаф, а на столиках подпрыгивают и звенят графины и стаканы. И целый день, с шести часов утра до шести вечера, тянутся нескончаемой вереницей по всем улицам Марселя из порта и в порт эти огромные лошади и чудовищные грузы, на которые с непривычки страшно глядеть. Часто случается, что длинный обоз займет всю ширину трамвайных рельсов, и тогда вагон должен черепашьим шагом, еле-еле тащиться у него в хвосте, а ежели грузовикам нужно почему-либо свернуть, то трамвай совсем останавливается, и никому из пылких марсельцев даже в голову не придет протестовать против этого. Интересы порта – самые священные во всем городе.
Глава XVII. Старый городВ то время когда новый город вместе со своей прекрасной улицей Каннобьер погружается около одиннадцати часов ночи в глубокий, буржуазный сон, – в это время оживает старый город.
Старый город – это какое-то капризное диковинное; сплетение кривых, узеньких улиц, по которым невозможно проехать даже одноконному извозчику. Что за невообразимая вонь, грязь и темень царят в этой запутанной клоаке! Всякие хозяйственные отбросы, помои, зелень, скорлупа от устриц – все сваливается на улицу или попросту выбрасывается из окна. И совсем не редкость увидать на улице черномазого мальчишку или девочку лет шести, семи, которые отдают долг природе в одной из тех поз, которые с таким наивным искусством, изображали в своих картинах Теньер, Ван-Бровер и Теньер-младший (Тенирс). Есть в старом городе такие узкие, темные даже в полдень, переулки, через которые пробегаешь, зажав нос руками и затаив дыхание.
И вот, когда наступает ночь, старый город оживляется. Ближе к центральным улицам он еще немножко приличен, но чем ближе к порту, чем ниже спускаются улицы, тем старый город становится все веселее и разнузданнее. Налево и направо только одни кабачки, весело освещенные изнутри. Повсюду слышна музыка. Ходят по шестеро и по пятеро вдоль улиц, обнявшись друг с другом за талии и за шеи, матросы и юнги, французские, итальянские, греческие, английские, русские… Бары переполнены народом. Табачный дым, абсент и ругательства на всех языках земного шара.
Конечно, и бедекеры, и сведущие люди нас предупреждали о том, что в порт опасно ходить даже днем. Поэтому вполне понятно, что мы отправились туда ночью, и опять я в сотый раз повторяю, что все бедекеры лгут и что самый милый, кроткий и простой народ – это подвыпившие матросы. Мы входим в маленький, низкий, душный кабачок и скромно спрашиваем амер-пикон с лимонадом и со льдом (ночи стоят душные, и томит жажда, а лучшего средства для утоления ее не существует). Сейчас же около меня и около моего товарища садятся две грубо намазанные девицы, и каждая из них кладет под столом свою ногу на колено соседа. Это – специальное морское кокетство. Они требуют от нас разных напитков. Мы охотно повинуемся: надо же выдержать тон и вкус места. Проходит четверть часа. Наши дамы видят, что мы вовсе не принадлежим к породе тех людей, которые в продолжение трех или четырех месяцев бултыхались среди бушующего моря и за это время не видали ни одной женщины. Они просят на булавки. Пять франков не только успокаивают их, но даже приводят в восхищение, и они нам доверчиво рассказывают некоторые тайные стороны своей жизни. С боцманов или капитанов, в особенности если они постарше, они берут два-три франка, с матросов – франк, а иногда даже пятьдесят сантимов. Здесь же, наверху, над баром, есть несколько запутанных коридоров, с номерами-стойлами налево и направо. Мгновенная любовь или ее подобие – и люди разбежались в разные стороны. Много ли нужно матросу?
– Но плохо одно, monsieur, – сказала серьезно долговязая Генриетта, – что иногда они выпьют слишком много сода-виски и тогда начинают драться.
Это очень неприятно, опасно и хлопотливо для нас. И именно их всегда валит с ног или делает бешеными не что иное, как сода-виски. Впрочем, абсент тоже. В этот день мы никак не могли найти дорогу к себе домой в гостиницу «Порт». Мы путались, как слепые щенята, около грандиозных молчаливых Вобановских укреплений и раз десять, сделав круг, возвращались на прежнее место. Наконец нам попалась навстречу пьяная гурьба матросов. Мы вежливо спросили их о дороге, и вот они все вместе, человек десять – пятнадцать, заботливо и предупредительно проводили нас до самого нашего жилища. Помню я еще другую ночь. Мы сидели в испанском баре на одной из этих бесчисленных улиц, в которых, кстати сказать, я не умел никогда ориентироваться. Рядом с нами прочно засела компания англичан, вероятно, из судовой аристократии, что-то вроде шкиперов, машинистов или боцманов, все рослые, суровые, крепкие люди, с загорелыми, обветренными, облупленными лицами. Один из них, бритый человек, с головой голой, точно бильярдный шар, закурил трубку. Я узнал по запаху мой любимый мерилендский табак и, слегка приподняв шляпу и повернувшись в сторону бильярдного шара, спросил:
– Old Judge, sir? [58]58
Олд джадж (сорт табака), сэр? (англ.)
[Закрыть]
– О, yes, sir [59]59
О да, сэр (англ.).
[Закрыть]. – И, добродушно вытерев мундштук между своим боком и крепко прижатым локтем, он протянул мне трубку: – Please, sir [60]60
Пожалуйста, сэр (англ.).
[Закрыть].
К счастью, у меня еще оставались русские папиросы (и их по-настоящему оценишь только во Франции, где все курят прескверный монопольный табак), и я предложил ему портсигар. Через пять минут мы уже жали друг другу руки так, что у меня кости трещали, и мы орали на весь старый город: «Правь, Британия, царствуй над волнами!»
Еще один случай, о котором я до сих пор вспоминаю с глубокой, радостной нежностью.
Это случилось на исходе ночи, так часу в третьем, четвертом. В маленьком кабачке был, что называется, самый развал. Прислуга едва успевала ставить на столики самые разнообразные «ударные» напитки всевозможных цветов: зеленого, золотого, коричневого, светло-голубого и других. В густом табачном дыму, щипавшем глаза, едва виднелись темные контуры людей, которые, точно в кошмарном сне, шли, точно утопленники под водою, двигались, качались и обнимались друг с другом.
И вот в открытую настежь дверь входит чрезвычайно странный человек. Он уже стар, лет пятидесяти – шестидесяти, мал ростом и тщедушен. Седые густые волосы падают ему на плечи и на спину пышной прекрасной гривой. Высокий широкий лоб мощного, прекрасного строения, тяжелые, нависшие веки, прищуренные глаза и под глазами черные мешки. Цвет лица темный, землистый, нездоровый. Множество морщин, серо-пепельные усы и борода. В руках у него диковинный музыкальный инструмент. Это обыкновенный сигарный ящик, на котором ещё сохранились черные, овальные фабричные клейма «Colorado», в верхней крышке выпилено круглое отверстие. Узкая длинная дощечка, грубо приклеенная к ящику, служит вместо грифа. Самодельные колки и шесть тонких струн.
Человек этот ни с кем не здоровается и как будто даже никого не видит. Он спокойно опускается на корточки наземь, около стойки, затем ложится вдоль ее, прямо на полу, лицом кверху. В продолжение нескольких секунд он настраивает свой удивительный инструмент, потом громко выкрикивает на южном жаргоне название какой-то народной песенки и начинает лежа играть. Я очень люблю гитару, этот нежный, певучий, выразительный инструмент, и мне часто приходится слышать артистов, виртуозно владеющих этим инструментом, вплоть до знаменитостей, известных всей России. Но все-таки я никогда до этого случая не мог себе даже представить, что деревяшка со струнами и десять человеческих пальцев могут создать такую полную и гармоничную, певучую музыку. Сигарный ящик этого диковинного старика пел серебряными звуками, точно отдаленный прекрасный хор, составленный из детей, женщин или ангелов. Шумный базар сразу стих. Попрятались куда-то трубки и сигары. Матросы забыли о своих пивных кружках, и мне показалось, что сразу как-то светлее и чище стало в мрачном питейном заведении. Первыми женщины, а вслед за ними и все посетители встали со своих мест и обступили лежавшего старика. Из соседнего вертепа слышались звуки гармонии-концертино. Кто-то на цыпочках подошел к двери и беззвучно затворил ее.
Старик окончил одну песню и сейчас же выкрикнул название другой и опять заиграл, ни на кого не глядя, устремив свои прищуренные глаза в потолок. Так, при общем, – да, теперь уместно будет сказать, – благоговейном молчании, он проиграл несколько песенок, то медлительных и страстных, то игриво и лукаво задорных, песенок, в которых чудилась невольно старинная арабская вязь, сладострастная, лениво-истомная. Проиграв основной мотив, он начинал его варьировать, и вряд ли я ошибусь, сказав, что эти вариации ему приходили в голову только сейчас, когда он лежал на заплеванном полу и импровизировал. Наконец он сказал на чистом французском языке:
– Теперь я вам сыграю вальс Шопена. Valse brillante, – пояснил он.
Кто не знает этого вальса в фортепьянном исполнении, весьма трудного по технике? И я с радостью и изумлением не только услышал, но, мне кажется, почти увидел, как со струн, натянутых на сигарный ящик, вдруг посыпались блестящие, редкой драгоценности камни, переливаясь, сверкая, зажигаясь глубокими разноцветными огнями. Бог жонглирует брильянтами.
Окончив, старик взял в правую руку инструмент, а левую протянул вверх. Сначала его не поняли, и он с некоторой настойчивостью повторил свой жест. К., мой спутник, первый догадался, в чем дело, и взял старика за руку, помогая ему встать. Тотчас же десятки рук почтительно и осторожно подхватили старика и поставили его на ноги. На несколько мгновений толпа совершенно скрыла его из моих глаз, и тут-то я сделал оплошность, вспоминая о которой краснею даже сию минуту, когда диктую эти строки. Я не заметил того, что многие из слушателей потянулись к старику с деньгами и что он вежливо и настойчиво отказывался от подачек. С разнеженным сердцем, с обычной в этих случаях для всех людей неуклюжестью, я протискался поближе к старику и протянул ему горсть серебра. Но, должно быть, мой скромный дар, сделанный от чистой души, был именно той каплей, которая заставляет кубок пролиться. Старик поглядел на меня, презрительно щурясь, – у него были прекрасные, темные, глубокие глаза, – и сказал сухо, отчеканивая каждое слово:
– Я играл не для вас и не для них. – И он свободным жестом обвел всех зрителей. – Но если вы действительно слушали меня с вниманием и если вы что-нибудь понимаете в музыке, то это такая редкость, за которую не вы должны благодарить, а я. – И, засунув руку в карман широчайших брюк, он вытащил оттуда целую кучу медной монеты и величественно подал мне.
Совершенно растерявшийся, смущенный, я начал лепетать бессвязные извинения:
– Мне ужасно стыдно, maître, за мой поступок… Я в отчаянии… Вы мне сделаете большую честь и успокоите мою совесть, если согласитесь присесть за наш стол и выпить глоток какого-нибудь вина.
Старик смягчился немного и почти улыбнулся, но от приглашения все-таки отказался.
– Я не пью и не курю. Да и вам не советую. Хозяин! Дайте мне, пожалуйста, стакан холодной воды.
Никогда, должно быть, за всю свою пеструю жизнь этот хозяин, кряжистый, заросший волосами великан с обнаженной воловьей шеей, не наливал никому вина с таким глубоким и внимательным почтением, как он наполнил для музыканта водою стакан. Старик выпил воду, небрежно поблагодарил хозяина, сделал нам рукою приветственный знак, исполненный величественной грации, и вышел в темноту ночи. Впоследствии я обегал все трактиры, бары и пивные лавки старого города в надежде поймать след моего таинственного музыканта, но он скрылся куда-то, исчез, точно уплывшая вода, точно пробежавшее и растаявшее облако, точно волшебный сон. Но одно утешает меня, когда я возвращаюсь воспоминаниями к этому удивительному человеку: ни один американский миллиардер, ни один англичанин, в специальном костюме туриста, с пробковым шлемом на голове, с бедекером под мышкой, с кодаком в одной руке, с альпенштоком в другой и с биноклем через плечо, ни путешествующий инкогнито принц крови, – никогда не увидят и не услышат ничего подобного. И эта мысль невольно радует меня.








