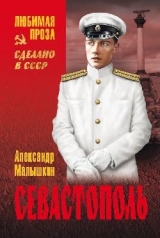
Текст книги "Севастополь"
Автор книги: Александр Малышкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мгла лихорадочно курилась с мостовых, скалывали лед по улицам, и извозчичьи шины проваливались в грязные колдобины и лужи, – в такой вечер Шелехов покидал Петроград.
И мгла сочилась через высокие двери в анфилады Николаевского вокзала. В фойе и коридорах, уводящих на мутный перрон, маялись толпы солдат с котомками за спиной – кто их знает, отпускные или дезертиры, ждавшие только знака, чтобы первыми ринуться к вагонам, натискаться в них, облепить их вплоть до крыш, умотаться поскорее от осточертелой казармы, от разворошенного бесхозяйного Петрограда, наплевав на все… Шелехов заранее почувствовал себя потерянным, пропащим: никого из товарищей по школе не было видно, предстояло ринуться в рвачку одному.
Билет второго класса и плацкарта лежали в кармане. Но что они могли теперь значить? Носильщики наотрез отказывались помочь, со злорадством кивая на солдат: мол, сами довели, ну и расхлебывайте! И носильщики тут же рассказывали друг другу, наверно, в сотый раз, какой негодящий и шеромыжный стал солдат, – на фронте отступление, а они тут подрабатывают, таская багаж пассажирам и отбивая хлеб у людей, а то спе– куляничают семечками… От всего этого безнадежно за– нывало…
Шелехов присел на чемодан в буфетной комнате. Огни засветились над столиками, восстанавливая ежевечерний вокзальный быт, помесь старого с новым. Звякали ложечки и стаканы, прикусывали и жевали люди у стойки, метались растопыренные барыни, водя за собой ободранных окопных солдат, нагруженных чемоданами. За залом чувствовался сырой и мрачный Пет – роград, докатывающий до вокзальных дверей гулы своей чудовищной необозримой населенности, и где‑то там давняя, похороненная юность, похожая на солнечные осколки, заплаканное личико Аглаиды Кузьминишны под тусклым лестничным окном, тяжеловесное, горестное бабье ее объятие…
Скорее отсюда, вскачь, не оборачиваясь назад: скорее скинуть с себя эту постылую, черт знает чем бредящую засырелость!
Стоило вспомнить последние петроградские дни. В разговорах, во встречных взглядах, в толпяной толкучке проглядывало что‑то новое, зряшное, резкое. Дерзела, сама порывалась хозяйничать какая‑то тьма. Нет, до Севастополя не докатится, далеко, – притушит Россия!
Им овладело тошнотное и сонное оцепенение. Было невероятно, что сейчас надо броситься на холод, в свалку, окунуться в огромное мчащееся тысячеверстье. Мелькания, огни, сырой ветер от ног… все жило где‑то вне, призрачно, казалось – не кончится никогда.
И, наконец, оглушительно задышало в гулких перронах.
Подавали поезд. Ночь сразу наполнилась пожарным гомоном. Шелехов, забыв про все, схватил в одну руку чемодан, в другую – сверток с постелью и, волоча их за собой, втиснулся на перрон. К вагонам бежал, почти не дыша, взвалив кое‑как поклажу на плечи и терзаясь от невыносимой ломоты, но все‑таки бежал; нужно было перестрадать во что бы то ни стало, нужно было выжить все, зубы скрипели и ездили от злобы и силы.
«Может быть, во второй класс сразу не решатся…» – ободрял он себя, а глаза на бегу скакали, шарили лихорадочно вдоль поезда: где же он, вагон № 4?
Но и около вагона № 4 уже бушевала солдатская вольница. С дракой, с паром ломились в двери, другие, половчее, скакали на буфера и оттуда уже на площадку; вагон стонал, дрожал. Шелехов попробовал было толкнуться в толпу, но его тотчас выбросили обратно. Он стоял и бессильно глядел на свалку, злой, убитый отчаянием; безысходность – как ночь – нависала.
«Ну, куда же к черту лезут во второй класс, сволочи, дезертиры!»
В вагоне натискалось народу до отказа, теперь брали с боя площадку и ступеньки. Толпа еще билась об них, но лезть больше было некуда. На площадке, после боя, устраивались поудобнее, закуривали, собираясь в дальний путь. Роптали:
– Господа по купам расселись, а ты стой здесь.
– Вскрыть их, купы‑то!..
Шелехов, не помня себя, в ярости и отчаянии бросился к ступенькам.
– Товарищи! – крикнул он, и голос его звенел стыдными слезами. – Я офицер революционного выпуска, еду на фронт, у меня плацкартное место, и никак не могу пройти. Мне же нужно пройти!
На площадке загалдели, совещаясь:
– Тут самим дыхнуть негде.
– Да хто он такой?
– Прапор. Видать, моложак…
– Говорит, револю – ци – оннай…
– Раз наш, давай сюды!
Солдаты, видимо, подобрели, немного раздвинулись, кто‑то за руки втянул Шелехова на ступеньки.
– Идем, браток. Раз плацкарта, валяй в купу!
– Давай вешшы!
Сверток с постелью вырвали из рук и поверх темно– головья толкнули куда‑то в коридор. Туда же, кувыркаясь, пролетел тяжелый чемодан.
«Эх, все равно, – подумал Шелехов, мысленно прощаясь с вещами, – самому‑то втиснуться бы».
– Влазь! – сказал рослый бородатый солдат с площадки.
Там подались немного, Шелехов толкнулся было, но все‑таки проломать человечью стену никак было невозможно. Тогда рослый охватил Шелехова, сказав:
– Эх, браток!..
Поднял его над собой, какие‑то другие руки приняли Шелехова дальше, пронесли над головами и задержали где‑то в темноте.
А в дверь купе уже ботали ногами:
– Открывай, тут плацкартный!
– Открывай, не бойся! Офицера нашего прими!
Шелехова бережно опустили за дверь, за ним вкатили сверток и чемодан. Какой‑то круглоголовый бритый офицер сердито закрыл за ним дверь и запер ее на цепочку. Ослабев от пьяной радости, Шелехов лег молча на чемодан.
И мягкие плюшевые сумерки купе замкнулись, приняв его в себя.
Они будут качать и баюкать, когда настанет долгая мчащая ночь. А вот эти самые вагонные стены он увидит, проснувшись однажды утром уже в Севастополе, в невероятном Севастополе, и в окно пахнет дыханием близкого моря.
В купе ужинала семья бритого офицера, оказавшегося казачьим есаулом. Одутлое, наглое лицо с водя ными глазами навыкате казалось виденным тысячу раз раньше. Несомненно, где‑нибудь поблизости лежала и черная заскорузлая нагайка, без которой эти жирные воинственные ляжки в синих галифе были немыслимы. Шелехов его уже ненавидел, – точь – в-точь такой зарубил когда‑то у трамвайной остановки его товарища – сту– дента за непочтительность.
Офицер, не стесняясь, расположился с кульками, корзинками и свертками по всему купе, заняв и столик и обе нижних койки, из которых одна принадлежала юному артиллерийскому прапорщику; тот не протестовал и виновато отодвинулся в темный уголок к двери. Дама, ехавшая с офицером, была очень молода; но тонкая женственная прелесть ее казалась какой‑то замученной, и губы, когда‑то кроткие, имели склонность к плаксивому страданию. Почему‑то думалось, что этот человек со звериной ненасытностью приучал ее к разным постыдным штукам…
«Животное», – подумал Шелехов. С ними ехала девочка. Есаул ухаживал за обеими с жестоким подобострастием.
Последние звонки били торопливо, накануне бездонной, готовой поглотить в себя ночи. Бежали отсталые под фонарями перрона. В коридоре буйно затискались, зацарапали сапогами по перегородке, прорыдала гармоника. И медленно проплывали какие‑то светы.
– Урра! – дружно заревели в коридоре.
Там было набито тяжело и грузно, хахало, кричало и веселилось сквозь грохот глухо и плавно переплетаемого железа.
…Петербург! Шелехов встал, жадно пил глазами последние фонарные сумерки окраин, сияния каких‑то многоэтажных корпусов, кончающиеся дебри города, ставшего понемногу чужим, нежеланным. Чему в нем сказать «прощай»?.. Дама, бледная и прямая, крестилась. Есаул багровел от гнева. Его бесил шум солдат за дверями.
К– Разврат! – сказал он осипло, глаза его глядели яростно куда‑то в ноги Шелехову. – Вы скажете, это хорошо? Хамят, безобразят, никого не признают. Ваш петербургский солдат стал не солдат, а зараза! Дезертиры и хулиганы! Меня, георгиевского кавалера, выгнали из полка, из Финляндии, вот такая сволочь выгнала. Монархист? Да, был и останусь монархистом, а под дудку предателей родины, господ Керенских, плясать не стану!
– Игорь… – плаксиво пролепетала дама.
Артиллерийский прапорщик пересилил себя и любезно спросил:
– Вы тоже в Севастополь?
Есаул минуту презрительно промолчал. Никаких прапорщиков для него не существовало.
– Я еду на Кавказ, к великому князю Николаю Николаевичу. Его высочество меня знает лично.
– Игорь, шоколад… – лепетала женщина.
Ее незабудковым глазам были безразличны солдаты, великая ночь, князья, бушевание времени. Игорь оберегал от всего ее закутанные цветковые миры.
И девочка, стесняясь чужих, капризно украдкой терла глаза:
– Спа – ать…
Качало и несло в ночи, в неведомых полях.
Есаул, держась как полновластный хозяин всего купе, начал стелить постели. Кряхтели чемоданы и корзины в напруженных багровых руках, стонали от насилия. Это была не сила, а злоба, злоба… Себе стелил наверху, против койки Шелехова, жене внизу. Закончив с этими двумя, есаул, не спрашивая артиллерийского прапорщика, начал стелить третью постель на его койке – очевидно, для девочки.
– Позвольте, – недоуменно и обиженно привстал тот. – Вы…
– Я знаю, что я «вы», – грубо отрезал офицер. – Что же, вы хотите спать, а ребенок нет?
Артиллерист молчал, долговязый, растерянный.
– Может быть, господин прапорщик будет спать, а штаб – офицер будет стоять? Или вы хотите, чтобы дама вам уступила место?
Вот такая, такая наглая дрожащая рука выхватила шашку и рубила. Шелехов горел; он распахнул шинель и, опустив пальцы в карман, нащупал рукоятку браунинга. «Ну, скажи мне, скажи мне, – молил он, – скажи, хам, животное, сволочь! Если… то я отворю дверь, и мы разорвем тебя в клочья…»
Артиллерист только пожал плечами.
– Странно… – жалобно сказал он и сел опять на уголок.
Шелехов уничтожающе промерцал на него глазами. О, задели бы так его!.. Полный досадной злобы, он полез устраиваться наверх.
– Любань! – крикнул голос в коридоре.
Имя станции пело полевою глухоманью, встречными бродяжьими огнями, у которых повиснут на мгновенье поезда, чтобы падать потом, падать опять в недряные тьмы России. Светы станции проползли через купе, где есаул, ложась спать, наглухо потушил фонарь… Резко загалдело опять и забушевало в коридоре, сотрясая стены. На площадке, должно быть, опять шла свалка. Шелехов стоял у окна, нарочно утомляя себя, отдаляя минуту, когда лечь, укачаться, поплыть неслышимо в ме– чтаемый воздушный мир. Было приятно предощущать, как поезд будет мчать его, спящего, через ветер и мрак, через резкую быль городов, станций, деревень, через тысячеверстные пространства.
В коридоре прокатилось новым будоражным гулом. Там опять втаскивали кого‑то и, донеся до двери, обрушились на нее кулаками.
– Открывай, эй! Женщину примите. Сестру.
– Плацкартная, открывай!
Есаул заворочался на своей койке – в полумгле станционного освещения – и пытался поднять голову. «Ага!» – сказал себе Шелехов, со злобной удовлетворенной радостью кинулся к двери и отпер ее – назло есаулу. Оттуда просунулся чемодан и женщина за ним: едва не упав, спеша благодарить, она тотчас же присела и начала поправлять прическу.
Духи пахнули беспокояще – такой землей, убегающим по солнечному пригорку белым платьем. Когда‑то так снилось.
Шелехов отошел от двери и с выжидающим торжеством глядел на есаула. Тот, однако, не шевелился.
– Можете ложиться на мою койку… Наверху… – сказал он женщине.
Лица ее он так и не разглядел. Она, тонкая и высокая, устало – ласково спросила:
– А вы?
– Я не хочу спать. Посижу.
И, волнуясь и веря во что‑то необыкновенное, убрал с полки свою подушку и помог женщине подняться наверх.
Есаул храпел. Артиллерист посапывал тоже в своем углу, уронив голову на грудь. Томно вдруг стало и Шелехову. Он присел на чемодан, попробовал дремать. Поезд отгрохивал где‑то за Любанью, в плотной темноте; пассажирка наверху устраивалась ощупью. И вдруг в ночи цветные огни махнули пожаром и пропали.
«Праздник. Ведь нынче праздник!» – вспомнил Шелехов: поезд вышел как раз в страстную субботу. Какой‑то огромный ночной луг представился из детства, внизу уездный городок рассыпал чахлые свои огоньки, и огненным кораблем стояла церковь на горе… И ветер и ожиданье кого‑то, с кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье!.. И захватывающая неисполнимая грусть… Стучали и протяжно ныли колеса о чем‑то знакомом, напетом, и в такт звенело в ушах. О чем?
– Та – ра – рам… та – а-ам…
Марсельеза. Беспокойно набегали сквозь дремоту и будили какие‑то силовые волны. Стуки вагона отчетливо выговаривали мотив…
Шелехов попытался освежиться и выйти на площадку. Нужно было сделать это так, чтобы никто из коридорных обывателей не проник в купе. Он выглянул с опаской за дверь. В желтоватых потемках – от скудного фонаря – люди лежали вповалку на полу, как неразличимые темные узлы; только колени в серых штанах торчали кое – где вверх. Неслышно закрыв дверь, он побрел в конец коридора. Там, спиной к печке, сидел человек и в полудремоте растягивал гармонику; двое или трое не спали, влежку гуторили, и получалось очень уютно, как у костра в лесу. Гармоника, как жалоба, чуть подыхивала, человек подпевал что‑то.
Может быть, это те самые, которые пронесли его на руках. Его охватило теплое, безбрежное чувство благодарности. Хотелось сказать им что‑нибудь самое сердечное, чтобы поняли, что он не из прежних, высокомерных, чуждых им людей в погонах, а офицер – товарищ. Он наклонился к солдатам и предложил им папирос.
– На побывку едете?
Солдаты ощупью, неуклюже зацепили по папиросе, неторопливо закурили, один из них согласливо, но как– то между прочим ответил:
– На побывку.
И, помолчав, продолжал свой дремотный разговор:
– Наша Растеряха… она от вашего этого Саранска верстов на восемьдесят будет. Вот ты, какая статья, земляка где нашел, а?.. Теперь недельки две о праздниках погулям, а там и яровое поднимать.
– Погуляешь… по печке затылком! – угрюмо отозвался другой. – Небось и все семена‑то подъели.
– По новым правам солдата обсеменить должны!..
– Где они, новы‑то права? Слыхал, подождать велят…
Шелехов, весь пронзенный добротой, вступился.
– Нет, товарищи, революционное правительство заботится о народе, оно же и поставлено для этого самим народом. Может быть, только у вас, в глухих местах, это еще не доходит, так вы сами, как сознательные, должны все выяснить и потребовать. Очень просто!
Солдаты молчали, раздувая прилежно папиросный жар, освещавший закрытые их глаза. Что им сказать еще, чтобы поняли, какие, за теменью жизни, светлые завтра ждут впереди?
– Потерпеть нам, товарищи, еще недолго. Германия, она ведь до нового урожая не дотянет, это точно высчитано учеными. Вы, когда опять на фронт поедете, только к шапочному разбору, пожалуй, попадете!
– На фронт? – смутно переспросил один из солдат.
Шелехов не увидел, а только далеким каким‑то сознанием угадал на его лице ядовитую, спрятанную за молчанием ухмылку. Гармонист подсвистнул, растянул мехи и зажалобился:
На што мне чин,
На што мне сан,
На што мне жисть
Са – а-лда – тская!..
Шелехов постоял еще в каком‑то странном замешательстве, докурил папиросу и, задумавшись, прошел в уборную. Впервые подумалось о том, что впереди, в Севастополе, его ждут такие же неведомые люди, его будущие подчиненные, матросы, с которыми придется быть все время. Сумеет ли он подойти к ним? Заставит ли смотреть на себя, младшего по годам, с доверчивостью и любовью? Он представил их себе издалека, крутогрудых, мощных, обвеянных солнцем и не слышавших никогда ласкового слова от своих офицеров, представил себя, бывшего студента, среди них – и ликующая, горячая сила заиграла в нем.
Да, да, сумеет, и сумеет так, что старое черносотенное офицерье вроде есаула скорчится от желчи и зависти. Только скорее бы, скорее!..
Рама в окне была опущена, за ней, задуваемые весенним ветром, подрагивали огни деревень; пролетая, вдруг резко прогрохотал полевой мостик. Церковка плыла где‑то на косогоре.
Весна.
Человек все громче играл и пел за дверью. Или вон там, за косогорами, за церковкой, в мокрых плакучих ветлах, в тех лугах детства?..
Под ночью лежали нищенские поля, ожидавшие далеких, забредших в кровавую землю хозяев. Под ночью – неразгаданное, необоримое дыхание войны, деревенские росстани, помнящие о криках женщин, заплеванные разлушные вокзалы. И там ведь, в брезжущих за ночью странах – война, и он – на войну.
Гудело железом, ухало, как вопль, текло в лощины беспощадным обрекающим гудом. Прапорщик Шелехов, ведь это не счастье, а война, война!..
«Я офицер революционного выпуска!..»
Он чувствовал под рукой холодную медь кортика – это офицерское достоинство и отличие, и чувствовал эту ночь и в ней всего себя, офицера, вот стоящего в вагоне, одинокого во всем мире, облеченного достоинством и долгом. Он принимает и эту ночь в коридоре и поля, задавленные войной, и будет вот так же спокоен, когда однажды, в такую же ночь, так же резко и действительно ощущая жизнь, пойдет на гибель, на безыменность.
…В купе спали все. Он опустился на пол и начал поудобнее устраиваться на чемодане. Сверху зашелестело, и женский голос прошептал:
– Моряк, слушайте: вы будете мучиться, идемте, здесь можно устроиться вдвоем.
Он сказал нерешительно:
– Я вас стесню.
– Нет, ложитесь… головой к стене, где мои ноги. Я ведь тоже военная, привыкла.
Шелехов подумал и медленно, с замирающим отчего‑то сердцем полез наверх. На минуту зажег спичку, чтобы уложить подушку. Девушка сидела, подобрав колени; осветилось серое ее платье, белый передник – и резкие, смеющиеся, давно в жизни ожидаемые губы. Духи пахли женской спальней и той же уводящей прозрачностью летнего дня, чего‑то ловимого, несбывающегося. Он лег в неспокойной сладостной дремоте. И как хорошо, до блаженной ломоты, как хорошо было вытянуться на краю койки во весь рост, отдать усталое, словно избитое тело расслабляющему качанию. Та, которая была рядом, неизвестная, стала вдруг самой близкой, смутно – любимой. Как будто вдвоем они одни знали, затаили то, чего во всем мире не знал никто… И железный оркестр пения и грохотов объял его с головой. Да, настоящая жизнь уже началась. Оркестр повиновался ему, он играл то, что хотел Шелехов, и торжественно восходила – музыкой шумных толп, криков, праздника – марсельеза.
Тара – там – там… там – та… та – а…
…Закат ночи, может быть, был. Спал он или нет? Тьма висела в купе, как глухая древность. Пахло духами, словно давно когда‑то, после бала. Девушка лежала тихо. Наполовину в снах, Шелехов подвинулся к ней и положил ладонь на теплую ее ногу. Она шевельнулась чуть – чуть – ему почудилось, что она лежала с открытыми глазами и мечтательно улыбалась про себя. Тогда бережно, почти воздушно, он привлек к себе эту безумную теплоту и, забываясь, блаженно припал к ней щекой.
Пьяно гремела, буйствовала марсельеза!
Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прапорщик Шелехов записывал в вахтенном журнале:
«30 апреля… В 11 ч. 45 м. дан сигнал на митинг всем тральщикам, стоящим на рейде Стрелецкая бух та. Митинг состоялся на транспорте «Кача». Старший офицер зачитал воззвание Совета матросских, солдатских и рабочих депутатов о всемирном празднике пролетариата – 1 Мая. Постановлено в этот день отпустить часть команды на берег для участия в демонстрации».
«14 часов. Вернулись из контрольного траления тральщики «Витязь» и «Трувор».
«18 часов. С рейда Севастополь прошла в море подводная лодка «Нарвал»…»
У вахтенного журнала – глаза ненасытного соглядатая. Строчка за строчкой собирает и запоминает на какой‑то особый грозный случай все ежечасные события жизни, той, что на корабле, и около, в море. Шелехов на первой своей самостоятельной вахте старается обойтись без подсказов любопытно благоволящего к нему вахтенного матроса и не пропустить ничего.
А на палубе штабного транспорта «Кача» плетется вперевалку вечерняя жизнь. Щеголи из молодых матросов чистятся и охорашиваются, собираясь на ночную гулянку в Севастополь. Досушивается развешанное поперек палуб матросское белье. В бухте, под бортом «Ка– чи», грязно – серые, струящиеся в тихой вечерней воде корпуса тральщиков, войско мачт, снастей, труб. Там и сям на берегу – свалки разоруженных мин, глазастых, красных от ржави. Глухие вздохи машин под ногами, в глубочайших недрах.
Шелехов глядит через борт, покуривая, он еще никак не может перестать удивляться…
Вахтенный, пожилой матрос со слезящимся взглядом, подходит бочком, напоминает:
– На флаг не пора, господин прапорщик?
На дне его скучливых глаз – далекая Екатеринослав– ская губерния, пароходные гудки на Днепре, ночевки на бахче. Прапорщик его не понимает. Желать, чтобы кончилась эта жизнь? Но ведь она почти еще не начиналась! Шелехов забегает на минутку в офицерскую кают – компа– нию, где висит расписание закатов солнца, – флаг спускается на судне точно в секунду заката, – и там портрет Александра Федоровича Керенского ободряет его япон– ски – мечтательными глазами. Да, это только начало, только начало прекрасного восхождения. Могучая грот – мачта в пепельной синеве, зеркальные иллюминаторы, отсвечивающие розовой водой, гаснущее безбрежное надморье…
Команда строится на палубах тральщиков. Церемония спуска флага близится.
На адмиральском «Георгии – победоносце», в Севастополе, в шести верстах от бухты, через две минуты грохнет пушка.
Шелехов, горделиво замирая, поднимается наверх, на последнюю высоту корабля. Все суда бухты послушно ждут его команды. Здесь, на высочайшей площадке, только неохватный ствол трубы, железные зевы вентиляторов, вдыхающие море, подвешенные на шлюп – балках белоперые шлюпки, плоская бездна берега внизу, сквозь паутину рей, канатов, блоков.
Из шлюпки соскакивает дремавший там румяный, расфранченный горнист с томной челкой до самых бровей.
– На фла – аг… смиррр!..
Две шеренги матросов, в грязных парусиновых блузах до колен, покорно окаменевают на палубе. Горнист уставляет в небо трубу, лицо его от напряжения становится плачущим.
Опять – зоря…
Тошно схватывает за сердце. Февральский вечер в осажденных юнкерских казармах, мокрая пурга, а ночью под окнами, в зеленоватом круге фонаря, люди в лохматых папахах, с винтовками. Чего там столкнулись лбами, сговариваются?.. Тогда горнист играл вот так же, закинув в мутную высь безглазое лицо, выплакивая туда тошную свою тоску, царскую службу, темь, темь, темь… Тогда казалось – не пронести себя живым через страшную, настороженную невидимыми засадами и убийствами ночь… А потом вышло, что революция – совсем другое.
Шелехов зажмурил глаза, шагнул к самому краю площадки и взывал, чтобы слышала вся бухта:
– Фла – а-аг… под – нять!..
Шеренги внизу беспокойно задвигались и, нарушая все правила службы, любопытствуя, задрали лица вверх, к прапорщику. Матрос у кормового флагштока тоже смутился было, но тотчас же решительно засучил руками и спустил флаг. Шелехов, съежившись, почуял неладное.
В ушах отголоском повторилось: «поднять»…
Это было ужасно… непоправимо…
Флаг поднимают утром, а сейчас… Осел, надо было флаг спустить… Осрамился на глазах у всех матросов, осрамился в первый же раз!.. Он мысленно с остервенением сбросил себя вниз с этой площадки так, что череп разлетелся на тысячу кусков. «Осел, осел!» – мельком, беспомощно повел глазами на горниста: тот, шумно продувая рожок, усмехнулся извиняюще, даже поощрительно.
Прапорщик полез по трапу вниз как оплеванный.
Вахтенный при виде его сконфуженно повернулся спиной и особенно внимательно стал смотреть за борт, где зауряд – прапорщик Маркуша, в затрапезном кительчике, удил рыбу со шлюпки, намотав лесу прямо на палец. В другой раз и Шелехов посмотрел бы охотно на эту забаву, даже спустился бы вниз, к уютному Маркуше, но теперь невыносимый стыд звонил в нем во все колокола.
Юркнул в кают – компанию, она – пустая (все офицеры вечером уезжают к семьям или на бульварах, на берегу), зажег свет и, прикорнув у стола, начал рвать зубами папироску.
Нет, какой позор!
Взгляд его встретился с глазами Александра Федоровича. Они проницали вперед, в туманы, в тревогу, в славу… Они как бы приглашали стать выше мелких неприятностей жизни.
И прапорщик откинулся назад, успокаиваясь, мечтательно стихая. Ну что ж, ошибка вполне естественная и простительная для новичка. Но ведь самое главное все‑таки еще не начиналось! Оно должно было начаться скоро – в этот вечер, сейчас. Вот тогда… посмотрим, что тогда!
Вахтенный приоткрыл дверь, осторожным голосом позвал:
– Господин прапорщик, вы бы вышли, сами посмотрели за тую бухту: есть подозрительность…
– Что такое?
Шелехов тревожно выскочил за ним на шканцы. Стояли уже сумерки, бескрайно и неподвижно лились вокруг небо и море; берег тепло мутнел. Вахтенный показывал пальцем за борт:
– Вот за теми камышами огонечек то вспыхнет, то погаснет. Это, может, знак такой? А энти там, в море, принимают.
– Да, да, это подозрительно…
– И ребята внизу смотрят, говорят – неладно, моторку бы, что ли, послать туда, разведать.
– Да, конечно, сейчас же моторку, – обрадованно подхватил Шелехов. – Давайте!
Вахтенный свистнул в дудку, крикнул негромко, накренясь за перила: «Моторист!» Внизу, на полутемной палубе, затопало, пробежало, в каких‑то низинных дебрях корабля зычно заорало: «Мото – рист!..» Шелехов спустился на палубу, отдавал распоряжения – разные заведомо зряшные слова:
– Поедете с приглушенным мотором, без огня…
На него надвинулся в упор как раз тот румяный ухарь с челкой, горнист, – а Шелехов считал, что он давно где‑нибудь в Севастополе, на Приморском бульваре, с портовыми маруськами, – баловливо ухмыляясь, просил:
– Разрешите в числе команды и мне, господин прапорщик, на разведку. Скушно!
За ним еще наступали, перебивая друг друга:
– И меня, и меня…
Шелехов, стараясь держаться спокойно и независимо, назначил ухаря – горниста и еще четверых. Мотор где‑то под бортом затараторил, заплескал, одушевил вечер.
Разведчики бурей сгрохали по трапу вниз, в кубрики, и тотчас же выросли перед Шелеховым – уже с винтовками в руках. Было весело и невероятно, будто все снилось. Горнист, застегивая патронную сумку, заржал:
– Живьем взять?
– Живьем, – сразу обвыкшись с ним, так же смешливо ответил Шелехов. От парня струились беззаботность, благодушная удаль – с такими ребятами славно будет жить.
Глухой рокот шлюпки вынесся на середину залива, как‑то внезапно стих там, по ровной далекой воде, на которой сверкнула зеленью заморская звезда. Шелехов невольно обернулся, ощутив на себе теплое и близкое дыхание. И заробел: кругом темной молчаливой кучкой сгрудились матросы, словно чего‑то настойчиво ожидая.
В первый раз очутился с ними один на один.
Впереди всех заметен был рослый, костлявый, неустанно скаливший белозубую пасть. Шелехов, в полу– замешательстве, потянулся прежде всего именно на эту улыбку.
Выбормотал первое, что попало на ум:
– А что… разве здесь были такие случаи и раньше?
– А то ж!
Костлявый заходил ходуном, рванул в восторге рубаху на груди.
– А недавно у Севастополя, под той… под купальней. Его так же ж вот ребята с катера, с моря заприметили. Что ето, дывятся, огонек мигает и мигает? А он сигналы давал, сукин сын! Как сзади подкралысь, смотрют – сидит себе под купальней, фонариком грает… И усе как у буржуя: котелок, манишка, бородка конусом.
– Теперь кто же по этому делу, кроме буржуя подойдет, – вступился невидный, чувствовалось – хилявый, подкашливающий не спеша, рассудительный. – Им на нашу свободу завистно.
Матросы сдвинулись ближе, теплее.
– Вильгельмовы денежки орудуют.
– Они теперь ждут, – вдохновенно горячилась белозубая пасть, почти выкрикивала, – они теперь, когда между нами эта партейная драка пойдет, – скажем, кто кадет, кто меньшевик, кто есер. Етой драки не только Виль– хельм, а и Миколашка наш ждет. Правильно, ваше благородие?
– Во – первых, господин прапорщик, а не благородие, – с улыбкой, но строго поправил Шелехов.
Матросы засмеялись.
– Он у нас, Фастовец, с пятого года, по старому режиму привык.
– Так вот, товарищ… Фастовец. Видите ли, это не драка, но каждый в своей программе видит какую‑то правду, и так уж собственно во всякой революции всегда было…
(«Черт знает, говорю, как репетитор на уроке, надо бы по – другому, зажечь…»)
– Ваше благородие… тьфу, господин прапорщик…
Фастовец несуразно, мучительно развел стиснутые кулаки, застонал даже, торопясь вытолкнуть из себя непод– дающуюся, страстно сотрясающую его мысль.
– Так она ж одна, правда! Одна! Возьмите, кто робит… что ему нужно? Земля и воля, во! А это все есть в прохрамме есеров. У нас весь флот – есеры. Какая же есть еще правда? Если вы про кадетов говорите, то кому ихняя прохрамма нравится? Кому?
Он с яростным торжеством выбросил по направлению к офицерскому спардеку длинную узластую руку, руку землероба. Захлебывались оскаленные горильи челюсти.
– Та все тому капитану Мангалову да поручику Свинчугову. Господам офицерам! Ихняя прохрамма… чтоб над нами, как при Миколашке, с аншпугом стоять…
Матросы все сразу заболтали несвязное:
– Мангалов… он три года червивым борщом душил… экономил… А сам небось поперек себя ширьше.
– А как Миколашку сшибли, сичас же красную рубаху надел, пузо подобрал, давай около матросов канючить: «И нам, говорит, товарищи, цари‑то насолили, ну их к черту!»
– Воны без мыла в матроса влезут.
Шелехову стало немного не по себе. Услышат еще там, на офицерском верху, подумают, что нарочно подзуживает матросов против своих же офицеров. А Фа– стовец… вот так кликуши в Кронштадте накручивали голову толпе, а потом начиналось зверство. К счастью, тот – покашливающий, рассудительный – вступился опять:
– Я так думаю, господин прапорщик… Уси эти про– храммы, пока война, наше народное правительство… должно порешить. Оставить одну, правильную: есерскую. Война кончится, Вильхешку прогоним, тогда на тебе, галди, по какой хошь.
Издалека, по седой воде, опять послышался рокот: разведка возвращалась. Мотор разбултыхал и ночь и воду, трап заскрипел под многими взбегающими ногами, сразу стало людно, суетно. Лихой горнист явился перед Шелеховым и, приложив руку к фуражке, рапортовал:
– Дозвольте доложить – никаких происшествий, кроме рыбалки. Просто костер жгли…
– Какие рыбалки‑то?.. Рыбалки разные, – хмуро бормотал около Шелехова вахтенный.
– Ну, Сенька из порту, мальчишка. Не знаю, что ль!
Беседа вдруг порвалась. Между людьми стала бездыханная ночная тишина. По земле можно было ходить только на цыпочках. Оказалось, что звезды давно взошли, осыпали купольную ужасающую пустоту. Одна, самая крупная звезда сверкала, томилась, переливалась совсем недалеко, где‑нибудь над Босфором, роняя в море би – рюзовый тусклый путь. Может быть, шли им сказочные корабли.
…За прибрежной степью, за перевалом лежал Севастополь невидимым амфитеатром; окна его, обращенные к морю, были черны, наглухо закрыты, чтобы с моря не нащупал подкравшийся враг… Но у кофеен и на темных тротуарах празднично и тесно от гуляющих, разряженных по – летнему, гремят органы кино, в бульварной гущине шепоты и смех: флот вышел на берег. Не там ли где‑нибудь и недавняя вагонная спутница, на чьем теплом сестринском колене продремал он всю ночь среди солдатской давки? Она убежала на рассвете, даже не показав своего лица, смеющаяся, неуловимая, а он, чудак, совсем было воображал ее своей!.. А поезд трубил победно, сразу ворвавшись после гнилой невской зимы в солнечное лето, в горячие, цветущие миндалем сады, – то начиналось невиданное еще, выигранное им на счастье царство… И, конечно, она жила там, она ждала каждый вечер, чтобы он пришел, отыскал ее.








