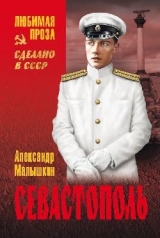
Текст книги "Севастополь"
Автор книги: Александр Малышкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Полмесяца минуло, как под музыку, под прощальный рев орудий, под озорное «ура» отвалила на Ростов утлая ударная флотилия.
И Шелехов с бульвара помахал «Джузеппе», который под предводительством Лобовича замыкал кильватер. Единственный офицер, рискнувший пойти с ударниками в неведомую авантюру – из странных, почти евангельских побуждений, – Лобович нисколько, казалось, не сознавал необыкновенности своего поступка. И на «Джузеппе» – с трубкой во рту, по – обычному озабоченный, шутливо – сердитый. Нерасстанная, «Кача» тоже отправилась за ним в поход. Зинченко, Любякин и Бесхлебный шли впереди – на «Сакене». На безлиственном сумрачном бульваре, среди провожающей немноголюдной толпы почудился заплаканный носик Тани… На рейде орудия палили разгульно, бессчетно, – братва дорвалась побаловаться, не жалела холостых патронов, – словно с ликованием хоронили суденышки, отважно пропадавшие за горизонтом.
А в Севастополе, на палубе и в кубриках опять закопошилось ежедневное. Кто балакал о прибавке к жалованью, кто ждал выдачи обмундирования, кто считал дни до демобилизации. Вились по утрам камбузные дымки. Правда, тяжелела над этой ежедневностью непонятная хмурь… Однако на «Витязе» жили празднично. Случилось то, о чем месяц назад смели только мечтать: пароход отправлялся на днях в товаропассажирский рейс в Одессу. Ровесники «Витязя», прочие пароходы акционерных обществ, состоящие в бригадах гидрокрейсеров или заградителей, давно гуляли по морю как хотели. Для «Румынии», «Принчипессы Марии» – этих счастливцев, не потерявших и с войной стройного щегольского изящества, – то и дело отворялись боны, за которые удалялись они с видом увеселительных яхт: на Батум, Новороссийск, Трапезунд, Одессу. И правда – команды иных судов, пользуясь случаем, перехватывали в кавказских портах то, по чему голодал Севастополь, – кожу, сахар, муку, и по возвращении приторговывали, не скрываясь, тут же на рейде, ошвартовавшись у городской горки; нередко у сходни толпился разноцветный чередок.
Боевые суда негодовали и выносили суровые резолюции, клеймящие мародеров. Ведь ударники в это время жертвовали жизнью под Ростовом! Но иные завидовали гидрокрейсеровской вольнице, ее раздольному житью, гульбе, всегда полному карману. Вольнонаемные на тральщиках требовали и для себя равенства. Через свойские судовые комитеты поднажали на Центрофлот, через покорное начальство – на штаб и добились своего.
Среди команды и вольнонаемных до поздней ночи шло балаканье насчет всяких приятностей и чудес, которыми удивит Одесса – мама.
И матросы бирилевского штаба деловито шушукались. Ваську Чернышева, посыльного, гоняли на «балочку», – так назывался севастопольский базар, – губили робу и казенное масло: на оборот требовалась монета. Шелехову, как своему, пояснили:
– Наберем сообча со всей команды шевра: там шевро, в Одессе‑то, на ять.
– А что вас на деньги такая жадность взяла? – вяло допытывался мичман.
– Засолим. Деньгу до дома засолим, до самой демобилизации.
– У нас вот кому больше всех надо. – Чернышев, плотовщик из Кунгура, не обломанный еще службой, пугливо стыдился, тупя глаза, как дитя. – Отмочу, говорит, новый шикарный клешик у вольного портного, остры– гусь под польку – ив деревню. И как, говорит, только туда заявлюсь, сичас же на луг, а девки, говорит, кругом меня, кругом да кругом, да все с…ть!
Поярчели зеркала в салоне, малиновее стали бархатные диваны; даже вид витязевских труб, словно отплывающих уже, тонущих в морскую невидаль, рождал в береговом сердце томливую зависть. Качинские лазили к нач– бригу наверх, клянчили насчет похода… Но мест в каютах оставалось мало: в рейс шел сам Скрябин, и с ним в качестве гостей несколько именитых лейтенантов из минной бригады. Каждый из гостей вдобавок старался устроить своего пассажира или пассажирку. Шелехов тоже, с застенчивым волнением, попросил у Бирилева разрешения – провезти в своей каюте одну знакомую.
Приходил на «Витязь» Пелетьмин, блестящий Пелетьмин, бывший боцманмат юнкерской школы. Возможно, он был знаком с Бирилевым где‑то за пределами службы. Он хотел бы поручить господину старшему, – «ну – ну, просто Вадиму Андреевичу!» – поручить Вадиму Андреевичу свою драгоценную половину. Ей, Вадим Андреевич, необходимо перебраться в Одессу, потому что, говорят, скоро возвращаются эти горе – ударники и ожидаются всякие… Ерунда, конечно, но дамы так нервничают!.. Да, да, Бирилев готов был с удовольствием взять на себя это обязательство, приятное обязательство, и даже, если позволите, развлекать даму дорогой!..
Бирилев говорил с ним настоящим, жизненным, а не служебным голосом, как с человеком своего круга, – это у них обоих вышло само собой. С Шелеховым Бирилев не говорил так никогда. Шелехов сидел при этом разговоре у стола, водил пальцами по костяшкам случайно оказавшихся на столе счетов. Пелетьмин, узнав его, только сказал наскоро «а – а» и поздоровался, не задержав руки.
Может быть, вспомнил о стыдной, недостойной офицера сцене во время раздачи вакансий в адмиралтействе? В этот раз он был особенно красив и высокомерен.
…Так красив и уничтожающ, что после – метаться по пустой кают – компании, изливая горечь издерганными, искусанными губами:
– А – а, калединцы, сволочь!..
Однако стоило только подумать о том, что через два– три дня он увидит в своей каюте Жеку, что близится неминуемый срок обещания… Стоило только подумать! «Витязь» покачивался чуть – чуть, весь окутанный невероятием.
Скудные и темные доносились вести об ударниках. К Дону удалось прорваться с большой натугой. Соглашательская Керчь не хотела пропускать большевистскую флотилию. Пришлось остановиться, достать жару из братвы, сидевшей на батареях и охранявшей пролив. В устье Дона казацкие генералы распорядились затопить баржи с углем, потушить маяки, снять вехи. Водники не исполнили приказания.
Ночью того же числа, когда флотилия ошвартовалась у Ростова, офицерские и юнкерские отряды, в ответ на матросский ультиматум, захватили в кино «Марс» часть ревкома и красногвардейского штаба, перекололи и бросили в Дон.
Неделю длились зверские бои у ростовского вокзала. Целую неделю длилось безвестье. Флотилия расстреляла все снаряды, но севастопольский Совет и штаб, неодобрительно поджидавшие конца бесчинной затеи, на просьбы о подкреплении отвечали молчанием. Каледин опять вошел в Ростов. Победители вырезали и потопили в Дону четыре тысячи красногвардейцев. Черная память залегла в матросской душе. Флотилия ушла обратно, нагруженная ранеными, позором и яростью, еще издали, по радио пообещав кое‑что, с проклятиями, меньшевистскому совету.
А многие, гульнув по дороге в Мариуполе, погромив там соглашательскую раду, повернули сухопутьем на север, на присоединение ко второму, более грозному ударному отряду. Две с половиной тысячи человек при трех орудиях и нескольких самолетах, под командой мичманов Толстого и Лященки, двигались наперерез Корнилову, подававшемуся на Дон с запада.
Закачалась по Украине пьяная и лютая матросская слава. Гололобые отряды, глуша контрреволюцию прикладами и гранатами, взвивались от Мариуполя к Харькову, от Харькова к Белгороду, от Белгорода к Александ– ровску – туда, где горело и трещало посильнее. Впервые хлебнув крови, матросы не знали теперь предела своей беспощадности. Из высокомерия перед ненавистными золотопогонниками, даже под ураганным огнем не хотели ложиться, шли в атаку стоя. Остервеняли себя легендами о собственной храбрости. У Псела гнали на сто пятьдесят верст шестнадцатитысячный скоп корниловцев, несмотря на полуторааршинный снег и железный мороз, злее пуль хватавший под куцые бушлаты. Под Пселом и своих – замороженных и убитых – была наворочена куча. Ударники подобрали всех, снесли в эшелон. Боцман Бесхлебный признал в одном трупе с разорванным животом сигнальщика Любякина, бригадную красу.
Для Севастополя то были дальние, объятые теменью дела. На улице после ростовской неудачи подул обратный ветер.
– Братоубийственная смуть… Зачем было наскакивать матросу, неуемничать, путаться не в свое дело? Конечно, ударилась на это самая бражка, которой было бы где повольничать и пограбить!.. – Так высказывались смир ные, рассудительные годки вроде электрика Опанасенко, доказывавшие, что все надо было тишком да ладком.
– Вот поцарюют захватчики до Учредительного, а там стоп. Народ стал не дурень, теперь на шарап не проживешь!
Годки лезли в уличные споры, дерзче становились на язык.
Да и в самом Совете громчели голоса насчет того, что «спасение народа и революции не в междоусобной резне, а в создании нового временного правительства. Не правительства буржуазии или большевиков. А правительства, основанного на соглашении всех социалистических партий…»
Блябликов, сидя в кают – компании за жареными бычками, умилялся:
– Приятно стало, господа, по улице прогуляться, душа отдыхает. Говорил я… Вот того… обратной водой уж пошло!
Однако на улице же электрик Опанасенко нарвался один раз на неприятность. Опанасенко вообще хаживал только в два места: на Корабельную – к одной бессемейной вдове – и на Нахимовский, в городскую раду – «послухать, как хлопцы вола гоняют». На Нахимовском не понравилось ему, как один малец, не по годам языкастый, растолковывал народу, что такое война с буржуазией, которую проповедуют большевики, и почему это не есть война братоубийственная.
– А по мне бы так, – перебил его Опанасенко, сплевывая цигарку и степенно ее затаптывая, – по мне бы, взять этих главных большевиков да Каледина, да усех бы на одну веревочку. Шоб нам потом дружно було жить!
– Странно, товарищи, наши же братья – матросы дают за эту идею свою кровь…
– Та какие мы тебе, жидку, братья? – ласково осерчал Опанасенко, которому бойкость паренька въедалась почему‑то в самое нутро.
За паренька вырос теневой, коренастый – чугунной тумбой.
– А ты кто такой, спросить, за факел?
– Я не хвакел, годок, а такой же матрос…
– Не матрос, а отброс… Ну, катись, пока жупан не вывернули, не пощупали, кто такой ты есть.
– Не пыли, – мог только ответить смутившийся Опанасенко.
– То не демократ уж был, а идиот какой‑то, – жаловался он потом штабным. Опанасенко ревностно блюл свое достоинство члена судового комитета.
Про ударников погодя прошел слух, для иных очень облегчительный, что все они поголовно порублены.
И мало кто, конечно, ведал, с каким похмельем в башках и с какой страшной кладью в эшелоне гремит обратно ударная вольница, поклявшаяся прочкнуть глаза братве и дощупаться хорошенько дома до своих собственных гадов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Под вечер, в бесснежном декабре, «Витязя» подвели к городской пристани. Шелехов, торопясь на катере через рейд, злился на Бирилева, который (нашел время!) перед самой посадкой, когда каждая минута была на счету, вздумал послать его на «Гаджибей» с запиской к Пелеть– мину, – несомненно, по тем же дамским делам; и лишь по мягкости характера Шелехов не сгрубил, даже, для спокойствия Бирилева, принимая поручение, согнал обидчивую кислоту с лица. Жека, если бы узнала, наверно презрительно отвернулась бы от такого… Вдобавок на катере задиристо балаганил какой‑то подгулявший портовый, – правда, на дальнем конце судна, но самое неприятное долетело и до Шелехова:
– …А всех офицеров бы на баржу, в море вывезти – и туда!
Портовый для ясности большим пальцем козырял в воду.
Хуже всего, что рядом с портовым стоял офицер, по необходимости – слушал, и по затылку было видно, что насильно, унизительно, в лад всем окружающим тоже улыбался.
– А ты? А тебя тоже следом? – зубоскалили над портовым матросы – пассажиры.
– Ни – эт… я туда не хочу…
За воду, за облезлый утюг «Георгия – победоносца» западал бессолнечный закат. В небе стоячей пеленой затек дым. Над рейдом, как и все эти дни, коснело запустение, неуяснимая мрачность… Время подходило к посадке, а надо было еще прибрать кое‑что до прихода Жеки.
«Витязь» притих – празднично – пустой, распахнутый гостеприимно, немного чужой в своей принаряженности. Даже в собственной каюте Шелехов уловил это чужое, мечтательно глядящее куда‑то поверх него, временного и бесплатного жильца, – может быть, то воскресали тени давних рейсов, иных, перебывавших тут и ушедших пассажиров, теперь перевенчавшихся или убитых… мало ли что могли припомнить каютные стены!
Воровато и беззвучно запер двери, словно боясь, чтобы кто‑нибудь не застал его за постыдным занятием. Достал из стенного шкафчика одеколон, опрыскал малиновый диван, полог постели, подушку и простыни… А какими У словами ее встретить? Например: «Как вам нравится моя каюта?» Или: «В этой комнате каждый кусочек пропитан мыслью о вас…» Или: «Ну, вот сейчас я увижу вас при свете, увижу, наконец, какая же вы!»
Носком ботинка отшвырнул подальше под койку вихор грязного белья, свернутого жгутом и кинутого туда по, студенческой привычке. Тщательно смел ладонью табачные крошки с дивана и с ковровой скатерти на столе. Отошел к двери, оттуда еще полюбовался на каюту, уронив голову к плечу. Кажется, все в порядке. «Ну, вот сейчас я увижу вас при свете, увижу, наконец, какая вы!..» И вдруг лизнул под сердцем огненный жуткий язычок: жутко стало, словно только сейчас уяснилось до последней резкости, для чего он делал все это – и с одеколоном и с крошками, к чему он готовился. Да ведь это Жека придет сейчас, останется здесь на всю ночь… На всю ночь с ним! Он все‑таки не верил. Неужели через час вот на этом полу будут ступать, будут теплеть ее ноги? Шелехов опустился на колени, чтобы получше разглядеть ковер, – нет, чтобы самому прикинуться на минуту ковром, увидеть на себе ее ноги, увидеть проносящуюся, недозволенную глубь платья. Мастеровой и насильно улыбающийся офицер, занесенные сюда с катера, отошли, стерлись туманно…
А наверху, судя по разбойному топоту, начали прибывать пассажиры. Мордастый и нахальный помощник капитана Агапов проверял у сходни пропуска. Шелехов, укрывшись за его спиной, в ознобе нетерпения таращил глаза на пристань. Палуба засеялась неизвестным народом – из тех, кто попроще, которым не полагалось места в каюте; кряхтя, полз обычный дорожный скарб – узлы, сундучки, торбы с котелками и чайниками; чинные лей – тенанты вели под локотки ахающих на зыбкой сходне, щуристых дам. Мордастый Агапов каждой женщине старался заглянуть в глаза, а потом еще взад на ноги; у тех, которые попроще, задерживал пропуск вместе с пальцами в вязких своих руках, изловчась в то же время свирепо, всей скулой подмигивать Шелехову:
– Вот товар!
Агапов был прочный, деловой парень, все существование которого составлялось из очень несложных, но просто и доброкачественно отправляемых функций: пищу, например, он не ел и не кушал, а жрал; жалованье – загребал и ссыпал в левяк; женщин… тут, хотя у Агапова в каюте перебывали в свое время путешественницы самых разнообразных мастей – от простодушных купчих и задыхающихся в корсетной подпруге гранд – дам до модных, избалованных истеричек, – для всех предназначалось у него простое народное слово, правда, опаскуженное заборными писаками, но у Агапова звучавшее как надо: доброкачественно и прочно:
– Вот товар!
По сходне поднимался Пелетьмин со своей дамой. Дама была как дама, с кукольными бровками И носиком, тоненькая и бедрастая, – по бедрам чуть не саданул ее один юркий сундук; тут она, ахнув, изогнулась и подняла глаза: линялые, цвета тусклого жемчуга, удивленные по– детски, не знающие, совсем не знающие ничего о жизни. Ласкать такую, как ласкают всякую женщину, было бы кощунством… Вот за что не пожалел отдать Пелетьмин свою независимость, свое взлелеянное женщинами тщеславие! Даже появившаяся, наконец, на пристани Жека с огромной желтой коробкой, прижатой к животу, показалась на секунду незатейливой и убого – стыдной, как когда‑то Людмила…
Впрочем, только на секунду. Что же, каждому свое!.. Ведь для него и Жека была недосягаемым мечтанием.
Закрывая ее собой от нагло – любопытных глаз Агапова, торопливо провел через палубу.
– Ну, как вам нравится моя каюта?
Старался, чтобы вышло развязно, по – хозяйски, но не получалось: так и стоял перед ней, обнимая коробку, растерянный, полубеспамятный.
Жека спокойно завела руки к затылку, отвязывая вуалетку.
. – Что ж, обыкновенная пароходная каюта. Поставьте эту картонку вот сюда и, пожалуйста, больше моего ничего не трогайте. А вас восхищает каюта?
Шелехов непослушными руками старался осторожно, чтоб не звякало, наложить тугой крючок.
I, – Разве вы кого‑нибудь боитесь?
Его суматошливость выглядела очень жалко под лучами этого жестокого спокойствия.
Женщина сняла шляпу, попросила помочь ей освободиться от пальто. И вот она какая, настоящая Жека! Он сразу забыл про всех Пелетьминых на свете… Она стояла на свету, в том же вагонном сером платье сестры, но теперь (в первый раз в жизни!) ясно видимая, разоблаченная от сумерек вагона и улицы. Он пил ее всю, вплоть до морщин немного длинного, ядовито – умного рта. (Кто‑то говорил, что такие морщинки бывают только у женщин, а не у девушек. Но ведь Жека тоже…) Ужас в нем сменялся восхищением. Она была совсем не такая, какой он ее вообразил себе когда‑то в темном купе, не той Жекой, которая стала родным, теплым придатком его существования, которую он нерасстанно носил с собою всюду – и на вечерней вахте, и на митингах, и по страницам читаемых книг. Совсем не той! Волосы у этой женщины вовсе не темные, а бронзового, тускло – огненного оттенка, и слишком неожиданно яркая, слишком масляная чернота китайских глаз… и кожа южанки, темно – желтая, возмужавшая для страсти. Он испуганно любовался этим видением, чужим, очаровательным и вдруг так нежданно ему доставшимся. И он в самом деле касался ее когда‑то, держал в руках эту незнакомку?
– Присядьте, Жека, вы, наверно, устали?
Ох, как злился на свои ноги, которые, черт знает, словно отнялись, спотыкались, волочились расслабленно по ковру.
Жека примерной, тихой девочкой уселась на краешек дивана.
– Только… – Она серьезно поглядела на Шелехова и погрозила пальчиком. – Сережа, только…
– Нет, нет, – страстно заторопился он. – Нет!
Он лишь позволил себе поглубже усадить ее, – ведь диван был мягкий, очень уютный диван, пусть Жека отдохнет как следует, придет в себя на новом месте, – она повела на него медленными, полными озорства глазами, он позволил себе еще взять ее пальцы, голые пальчики, безвольно задумавшиеся в рукавных кружевах. И подумать только – вот эта женщина, эта охапка теплых волос, живых глаз, душистого платья – ему предназначена, обречена, именно для этого она присутствует в его каюте! Растроганный, ошеломленный, Шелехов сползал на пол.
– Нет, лучше встаньте, Сережа.
Когда и как очутилась на его плече вся ее жаркая и легкая тяжесть? Каждое касание губ этой рыжей незнакомки рождало и страх и ощущение бесконечного отдыха.
– Все‑таки, Сережа… вы должны… выйти… на минутку… – Между каждыми двумя словами она его целовала. – Хорошо? Хорошо?
– Зачем?
Но возражал нерешительно, туманно… ему самому, пожалуй, радостно было выпутаться поскорее из душного, нежданного наваждения. Ведь не так же скоро все должно случиться, не сейчас… Могучий скрежет якорного каната потряс стены; рядом, в коридоре, бежали и хлопали дверями. «Витязь» глухо снимался с якоря.
– Идите, идите!..
Жека встала с дивана. Послушный, он на прощание прижал ее к себе – одной рукой за жесткие, поддающиеся ему ключицы, другой за бедра. Черные зрачки близко – близко ширились и умирали – угарные, наслаждающиеся. Это «идите» она прошептала вовсе несвязно, уже не понимая смысла слов, и он знал, точно знал умом, что сейчас должен, обязан сделать, он искал – как получше, побережнее опустить на диван этот полутруп…
«Не смей, не смей…» – останавливал он, отчаянно уговаривал самого себя. Впрочем, самоуговаривание было только обманом, потому что он ничего не испытывал в эту минуту, кроме необъяснимого ужаса. Женщина ужасала его своею решительностью и беспамятством. Он был готов бросить ее, бежать.
И с облегчением вздохнул, очутившись на палубе, среди мягких надводных сумерек. Кровь ходила тише, в такт успокоенному дыханию машин. Кружились силуэты отстающих броненосцев и темная гора Севастополя, над которой заплаканно дрожала звезда. Какой фантастический вечер! Раскинуться бы телом – во всю его туманную необъятность, разлить по небу свое одурелое счастье!.. Круг воды за кормой раздвигался шире и шире, все мгли– стее и дальше становилась земля, и во всем подразумевался один и тот же счастливый смысл: что Жека уда – г ляется от берегов Севастополя вместе с ним, что с Жекой еще все впереди, что с «Витязя» ей не уйти никуда.
Просторную палубу парохода заселил разный кочевой люд. Иные упали на узлы, стараясь скорее проспать долгое томление пути, иные прощально глазели с борта на исчезавший Севастополь. Кто были эти люди? Беженцы, сдвинутые с насиженных мест войной, или непоседливые искатели своего счастья? Целая семья, душ в во-. семь, прочно загородившись узлами от ветра, пристроилась около машинного люка, из которого истекало тепло. Паренек – не то в студенческой, не то в технической фуражке – налаживал балалайку, – Шелехов, бродя по палубе, поймал на себе его крадкий, завистливый взгляд… Пока другие доставали из мешков пищу и звякали кружками, паренек, как будто с горя, задрынькал и запел:
Одесса – мама,
Одесса – град…
Одесса лучше,
Чем Петроград!
Семья, полулежа и полусидя, слушала, подносила куски и кружки ко ртам. Пожилая женщина, как матриарх, растопырилась по – наседочьи, широкоподолая, скрестившая руки на коленях, умиленная многочадием своим, и путевой устроенностью, и песней… Таяли еле видимые степные берега. Когда умолкла балалайка, только дышали машины вслух да плескалось спокойное ночное море. Остановиться над бортом, как вон та пассажирка в шарфе, смотреть завороженно, не отрываясь, на пенистый бегучий [след в воде.
«Одесса – мама… Одесса – град…» – звучала в ушах заразительная бессмыслица. Город, стоявший где‑то в конце сумрачного и сказочного путешествия, сиял сонными красками, как волшебный, освещенный изнутри диапозитив. Это был прекрасный город, потому что Жека ждала в каюте.
Пассажирка обернулась на шаги. Голова закутана черным шарфом, вихры кудрей вырываются наружу, чтобы кто‑то провел губами по сладкой их шероховатости. Кто на свете томится по этой женщине, чьи мысли сейчас издалека вьются тоскующе около нее? Пассажирка проводила Шелехова длительным, затаенно – подзывающим взглядом, – крупные, затуманенные, предрасположенные выражать муку глаза, какие бывают у белокурых. Конечно, не потому звала, что считала Шелехова одним из хозяев корабля и через него надеялась устроиться на ночь в теплой каюте: нет, такая заражающая, зовущая сила счастья непроизвольно истекала из него… А вот – подойти бы к этой женщине и рассказать, какое бывает счастье, и как глубок и нераскрыт мир, и какие еще города светятся на темных, подземно – спрятанных его ступенях! И даже гладить ей щеки и целовать, как сестру… И даже – в этот вечер, выпавший из жизни в область какого‑то рая, когда, кажется, всякое неразумие оправдано, – приласкать, овладеть ею на минуту: мало ли укромных темнот на корабле!.. И он кружил среди темнот, как пьяный.
Одесса – мама,
Одесса – град…
Агапов, неведомо откуда вывернувшийся, подхватил его под руку:
– Вам собственно до палубы какое дело, господин мичман? Вы на чужое не зарьтесь, не жадничайте…
– А что? – улыбнулся блаженно Шелехов.
– Затралили одну, чего же вам еще! Здесь наше, сиротское… А хороша у вас‑то… Я бы на вашем месте из каюты до Одессы не вылазил, изодрался бы весь, расшибся для такой… пусть помнит!
– А ну вас к черту, Агапов!
– А – а-а!.. – Агапов боязливо (не оскорбился ли мичман?) тер его ладонью по спине. – Я вот тоже хожу, прицеливаюсь, Сергей Федорович: много товару есть, и товар хороший. Мне в двенадцать на вахту заступать, сейчас восемь: значит, часа три – четыре можно… на луне погрустить, мы народ походный!
– Желаю успеха, – насмешливо напутствовал его Шелехов (сладко вспомнился черный шарф), – но только сомневаюсь…
Конечно, если бы дело шло о нем самом и о той белокурой, он не сомневался бы, но Агапов, курносый забулдыга, умеющий лишь примитивно лапать женщину за грудь и бедра и намекать ей на свою бычачью неумеренность в любви (только этим и ограничивались его завоевательные приемы), – разве он мог идти в сравнение?
А Жека… что она делает? Надела дорожный капотик прямо на белье, легла на диван, заложив голые локти под голову, глядит ослепшими, еще пьяными глазами на лампу и ждет шагов в коридоре? Ждет?..
Огненные прибои пробегали сквозь тело. Все так неудержимо, так естественно близилось, что даже хотелось нарочно замедлить, продлить сладкий голод. Да, вот возьмет и нарочно будет себя вести с ней, как брат: уложит в постель, заботливо накроет одеялом, погасит лампу, а сам спокойно устроится на диване, как будто ничего ему больше не надо. Заранее наслаждался, слыша, как она, недоумевающая и растревоженная, ворочается в одиночку и шуршит там простынями, бурно шуршит, напоминая о себе, нетерпеливо подзывая… Нет, пусть помучается, помучается за все обиды… Он ничего не хочет, он спит! Пусть отдастся совсем, пусть сама, изозлившись, не вытерпит и прибежит…
О, мир наводнен был удачей и благоприятством. Что Жека! Захочет – подойдет вон к той, белокурой.
Из подземелья кают – компании полыхало лимонно – зо– лотистое зарево, доплескивалось заглушаемое многолюдным говором воркование пианино. Темных берегов совсем не стало видно. И не было ни войны, ни страшного исторического обвала, под тяжестью которых хрипит и корчится страна. Тот же мирный пароходный вечер, та же вода, омывающая ступени крымских дворцов и курортные парки, что и пять, десять лет тому назад. По салонному трапу рысят официанты. Шикарные пассажирки ищут удобной минуты, чтобы нырнуть в темный проход на палубе и скрыться за дверью моряцкой каюты.
А за Евпаторией, – степи, объятые сонными хуторскими потемками. В Петербурге завтра будет солнечное летнее воскресенье, и тысячи лакированных пролеток потянутся на острова, где возвещено пышное цветочное корсо. Как ослепителен залив за Стрелкой! Скорые поезда идут на юг, за зеркальным окном виден кусок шелковых обоев, женский локоть, цветы… мчащееся мимо, зеркально пробегающее в глазах счастье… Нет, теперь не мимо, теперь он, Шелехов, в самой середине, по горло, на одном из лучших пароходов, где у него своя каюта, и в этой каюте ждет его, чтобы отдаться ему, красивая бронзоволосая женщина, которой, вероятно, и на Невском многие позавидовали бы. Теперь он сам мчится мимо чужих глаз, в огнях и зеркальных стеклах, без остановки мчится мимо станционных перронов, с которых смотрит унылое лицо чеховского телеграфиста, или мимо пришибленного студента, тоскующего на площадке встречного вагона третьего класса, во взвахлаченной шинели, с завистли – во горящими глазами, как у того палубного паренька…
Заглянул мимоходом в ярко освещенный салон, даже прошел к общему столу и с улыбкой перемолвился о чем‑то с Бирилевым, кажется – насчет прекрасного и праздничного вечера, столь необычного на «Витязе». И хотя в кают– компании было очень много блестящего народу – почти сплошь одно бритое, пудреное, подбородчатое лейтенант– ство и их женщины, похожие на изящных ленивых птиц, – ноги Шелехова ступали прямо и твердо, одежда не мешала ему, сидела прочно, влито, – куда делись вся прежняя пугливость и мужиковатость! И с удовольствием ощущал себя такого – двигающегося стройно и смело, с откинутой головой (немного подражая Винценту); он тоже мог бы влиться в этот журчащий избалованный мир, как равный, если бы захотел; а вон, кажется, и старый знакомый – кавторанг Головизнин, с крестиком на груди!
– Свердлов сказал… (Кто у них этот Свердлов?) Так Свердлов сказал: Севасто – поль дол – жен стать… вторым Кронштад – том… юга. Чувствуете соль?
– Все дело в форме правления, господа… Может ли она быть основой твердой государственной власти.
– Ну, твердой власти! Об этом надо подождать до Учредительного с – с-собрания!..
– Вы чувствуете соль: вторым Кронштадтом?
Бирилев удалялся на палубу, ведя перед собой женщину, на которую Шелехов опять с невольной горестью залюбовался. Ее слепое лицо вскинуто вперед, словно она тревожно вдыхает что‑то и не может надышаться. Они поднимались к ночному морю. Молодчина Бирилев, как опытно и изящно ведет игру!
Шелехов поощрял его свысока, даже чуть – чуть жалея. Ведь Бирилева, семейного стареющего человека, никто не ждал в каютном коридоре, за лучезарной, пузырчатоматовой дверью. Вот сейчас – постучать туда чуть слышно, с замирающим сердцем, скорее замкнуть за собой распахнувшееся зиянье, чтобы никто не увидел даже кусочка его бронзоволосого богатства.
– Это я, Жека! (Ласковым хрипотным полушепотом.)
Через узкую щель просунулась рука с пустым прожел – тевшим графином. («Надо было вымыть с солью, чтобы хрустально сиял насквозь, как не догадался!»)
– Сережа, будьте добренький, принесите сами воды, я не хочу, чтобы прислуга меня здесь видела.
– Это верно… сейчас!
На Жеке, – он успел заметить через щель, – голубой, с райскими птицами халатик, она в нем – узенькая и женственная и домашняя. И придерживает пальцами на груди: халатик без пуговиц, так легко, сам собой распахивается настежь.
Пока в камбузе официант, с прокисшим от. лени лицом, наливает в графин воды, Шелехов пылко переживает стены камбуза, увешанные кастрюлями, и кухонный прилавок, и изболелую, худосочную внешность официанта – все это тоже кипит изнутри непоседной ликующей кровью и сотворено из одной плоти с его радостью.
Жека на стук приотворила дверь – опять очень скупо.
– Жека, отворите совсем! (Опять шепот.)
– Дайте воду, подождите! – Уносит графин, оставив щель чуть – чуть на цепочке, переставляет там что‑то, – может быть, оправляет на себе платье, прихорашивается, прежде чем пустить мужчину, позволить ему взглянуть на себя. Но, черт возьми, у нее без этого достаточно было времени и раньше, и не так‑то удобно торчать на часах у своей двери.
– Скорее, Жека!
Она медлительно, словно колеблясь, наклоняется к щели:
: – А вам когда на вахту, Сережа?
– У меня никакой вахты не будет, я тоже на правах пассажира. Да отоприте же, мне здесь неудобно…
Жека раздумывала, приложив пальчик к губам:
– Скажите, сколько времени?
! – Девятый.
– Вот что, Сережа… Сереженька, вы простите меня, но я вас очень прошу об этом. Вы… найдите себе место в какой‑нибудь другой каюте, вам это легко сделать, правда?
Шелехов неприятно ослабел:








