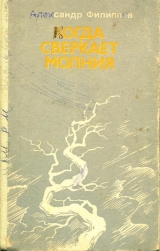
Текст книги "Когда сверкает молния"
Автор книги: Александр Филиппов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Опять подал голос Давыдович:
– Локтев остается же одним из авторов... рацпредложения. И деньги за свое получит.
– Деньги мне могут выдать и за изобретение, нахимичат в бумагах и выдадут. Да разве я за деньги вкалывал...
Секретарь улыбнулся, внутренне поддерживая горячность рабочего, многозначительно произнес:
– Ничего, Николай Иванович, у палки всего два конца: один в земле, другой – в небе. Разберемся... И не только все на свои места поставим, но, думаю, кое-кому всыпать придется по самое десятое число... Кроме того, – секретарь взял со стола докладную записку из бюро рационализации, – я смотрю, Виктор Иванович, – он скосил глаза на Рабзина, – и вижу, что вы и в механике смыслите не хуже, чем в химии, так сказать...
– Не понял, – отозвался Виктор, скупо улыбнувшись.
– А то, дорогой, что, чую, зазря попали вы в коренники, когда место в пристяжных быть. И то много!
Виктор вспыхнул. Рабзин увидел решимость секретаря разобраться во всем и у него мелькнула единственная надежда: добить Локтева левым ударом, из-за угла, тем более, что и начальника цеха и его оставили на парткоме.
– Ну что ж, товарищи, неча воду в ступе толочь, приступим к следующему вопросу.
Зачитали рекомендации и автобиографию. Один из рекомендующих присутствовал здесь – начальник цеха Ясман. По рекомендации Павла Петровича Вершинина, умершего прораба споров тоже не возникло.
– Как, можно принять эту рекомендацию? – спросил секретарь.
– Конечно!
– Безусловно, прораба мы знали хорошо! – поддержали члены партийного комитета.
Локтеву задали несколько традиционных вопросов. Он, волнуясь, ответил. Все шло своим чередом, так как оператора здесь знали и в партию он не лез сам, как бывает у некоторых, а ему в десятый раз напоминали в цехе, что такому рабочему, как он, не к лицу ходить в беспартийных.
Нургали Гаязович внимательным прищуром и без того узких глаз оглядел присутствующих, спросил:
– Я думаю, следует поддержать решение первичной организации, возражений не будет?
Возражений не последовало.
И тут наступило то, чего никто не ожидал.
Как перед грозой, застоялась минутная тишина. Было слышно тиканье настольных часов, капустное поскрипывание дерматином обитых кресел. Членам парткома осталось поднять руки, вот уже секретарь собрался сказать последнюю фразу: «Кто за?» Успел улыбнуться Николаю и кивнуть озорно головою Израель Львович.
Поторопился начальник цеха!
Затянул на долю минуты последнюю фразу секретарь!
Тишина была не случайной. Гром грянул.
Виктор Иванович Рабзин слегка приподнялся со стула, попросил слова.
– Разрешите мне, Нургали Гаязович...
Николай резко повернулся к нему и увидел бледное лицо Виктора с ранними глубокими морщинами, увидел плотно сомкнутые тонкие губы, умное и злое выражение глаз. Николай тут же понял, что это конец. Виктор не член партийного комитета и просто так слова не попросит, видимо, решился на нечто важное.
– Как, товарищи, разрешим высказаться Виктору Ивановичу? – спросил секретарь.
– Вопрос ведь решен и добавлять к нему нечего? – недовольно возразил кто-то.
– Пусть говорит, только покороче!
И он сказал. Губы его вздрагивали, бровь над правым глазом нервно шевелилась, бледные щеки приобрели землистый оттенок. Весь он преобразился, еле сдерживая нервное состояние, с видимым спокойствием заговорил:
– Мы с Николаем Локтевым земляки. Я хорошо знаю его с детских лет, и до самого последнего момента ожидал, что Николай Иванович скажет об одной из главных деталей своей биографии. Но, вижу, он смалодушничал, попросту говоря, струсил. А трусливым есть ли место в партии?
– Вы о чем, товарищ Рабзин? – грубо прервал Нургали Гаязович. – Ближе к делу...
– Пусть он сам скажет, – тихо добавил Виктор, – пусть скажет об отце...
Пошатнулось небо за переплетом оконных рам. Белым туманом застлало глаза Николая. Он медленно встал со стула, приоткрывая рот, беспомощно пошевелил губами, пытаясь вымолвить что-то, а что – так никто и не разобрал, не расслышал.
Все члены парткома, догадавшись о какой-то страшной, не известной им беде, удивленно и сострадательно смотрели на Локтева. Одна его фраза прорезалась более-менее внятно.
– Можно мне выйти?
Нургали Гаязович, переводя взгляд, смотрел поочередно то на Рабзина, то на Локтева, ничего, не понимал, но какая-то догадка невероятно страшного исказила его лицо, он, не на шутку растерявшись, разрешил Николаю Локтеву выйти.
Виновато повернувшись спиной к членам парткома, поникший, ссутулившийся, уже прикрывая дверь, Николай услышал последние слова Виктора: «Отец у него был дезертиром, в войну...»
Жизнь утратила всякий интерес. Странно, не было даже злости на Виктора. По сути, он прав, он же не клевещет на него, просто высказал то, чего не смог сказать Николай, не поворачивался язык вымолвить признание не своей вины, а чужого, незнакомого ему человека, считавшегося, непонятно почему, – отцом.
Николай вышел из административного корпуса комбината, сел в первый попавший трамвай, так же механически вышел из него у железнодорожного вокзала, где недавно, после смерти прораба, сидел на грубой скамье с необходимым клеймом: МПС. Шагал, низко опустив голову, ни на кого не глядя. Ему чудилось, мнилось, будто все в городе уже прознали о том, что сегодня стряслось с ним, что ему воздали наконец-то по заслугам за укрывательство темного прошлого отца, за трусость, за неоплатную отцовскую вину. «Цыгане, – вспомнилось ему невольно. – Кочевой табор неунывающего народа. Им легче, у них свои законы, идущие от природы, вечно неизменные...»
Миновал площадь, вышел на свою улицу, где кончался город и начиналось колхозное поле. Оно подступало своим краем в самый притык к городским улицам, весною чернело жирной пашней, а сейчас, ближе к осени, буйствовало позолотой хлебов. Там, за тучным полем, катила воды светлая река, река его детства. Целое созвездие городов – старых и послевоенных – сбежалось к берегу реки, они пили из нее ключевой прозрачности воду и возвращали вновь уже изрядно подпорченную. Ниже по течению в ее чистые струи, масляно змеясь отовсюду, вплетались жидкие остатки нефтехимических производств.
Николай вышел к берегу. Вдали за рекой небо затягивало тучами. Там шла гроза. Ударов грома не слышно, только частые всплески молний зигзагами вонзались в землю. Гроза проходила стороной, касаясь одним краем пригорода. Наволочное небо над равнинным полем не сулило дождя. Изредка крупные капли, словно свинцовые дробинки, по отдельности – то тут, то там – пузырили речную гладь.
Гроза уходила вдаль. Вот белый зигзаг молнии прочертил чуть ли не половину горизонта, расколов темень неба на две половины. Гром тихой волной прокатился по закраешкам леса, удалился к горам, вернулся и рассыпался по разнотравью долины, тихо-тихо коснулся слуха Николая.
Какое далекое эхо!
Так вот и война, отгрохотала давно, потухли ее молнии, поутихли грома, но эхо – далекое эхо войны все еще будоражит и тревожит сердца людские.
Какое беспощадное далекое эхо!
Редкие крупные дождинки падали с неба. Гроза уходила за город. Николай сидел на берегу и думал, думал, думал... Стыд и унижение не давали покоя. Пора идти домой, но трудно подняться, ноги не слушались. Как он посмотрит в большие, открытые глаза Светы? Как после всего, что стряслось, ласкать и нежить дочек? Он лег на спину, приминая низкорослую травку, закинул руки за голову, глядел в мутное небо с редкими голубыми прогалинами меж тяжелых, не пролившихся дождем облаков.
Начинало смеркаться, а он все лежал в задумчивости и тоске, не зная, что предпринять, как ступать отныне по земле. Николай представлял, что в жизни бывают моменты похлеще и позначительнее. Люди, занятые собой, бесконечной работой, вряд ли так остро восприняли его беду. По всей вероятности, многие из них поудивлялись, поговорили и начисто позабыли обо всем.
Что там какой-то Колька Локтев по сравнению с мировой революцией! Да ничего, ноль без палочки, муравей-букашка, козявочка. И кому какое дело до того, что он сейчас, отрешенный от жизни, валяется в траве и плачет? Кольнет ли кого его скрытая в себе боль? Вряд ли... Один он, один... А в поле – один не воин! И кому сейчас докажешь, что он не виновен, ни перед кем не виноват. Жил и работал, как многие на этой грешной земле, даже лучше многих. Отдавал все, что за душой, друзьям и товарищам, семье и работе. Но вновь кололо сознание: ведь ты струсил, смалодушничал, скрыл преступный отцовский грех? Такой трудный путь пройти в пустоте дней и вдруг наткнуться на сказочный камень, что посередь дороги, а по нему белым по черному выписано: налево пойдешь – смерть найдешь, направо пойдешь – ее же найдешь и прямо пойдешь – будет то же самое...
Так зачем тогда все? К чему эта ежедневная борьба за какое-то, предназначенное судьбой, место на земле? Зачем тогда – друзья и враги? Зачем – мир и война? И куда б ни ступить, всюду одно и то же... Горько, досадно, трудно...
Кто не верит, не знает, не хочет знать, что звезды в небе светят и днем, тот должен жить в колодце. Оттуда, со дна его, звезды видятся и днем... А Витька? Ах, Витька, ослеп ты, что ли? Как же ты не разглядел звезд? Тебе ли не видеть их? Нет, ты отчетливо созерцал эти звезды и пугался, что то же самое видят многие. Жаль, что не в тебе видят, а в других... Вот что пугало Витьку, вот что толкнуло на подлость!
Застучали по земле, запузырили воду дождинки, все чаще и чаще. Выплакалось небо, но будто назло кому-то возвернулась тучка, оторвавшись от стаи, и поползла в сторону города, проливаясь сплошным дождем. Хлынуло коротко и мгновенно. Николай поднялся с бережка, побежал укрыться к одинокому широченному осокорю. И здесь увидел он, как через хлебное поле, узкой промокшей тропой кто-то торопился сюда. Видать, не он один застигнут врасплох нечаянной грозой, кого-то еще гонит она под ветвистую шапку осокоря. Вглядевшись пристальнее, Николай неожиданно различил в далекой, бегущей сюда женщине Свету. Он застыл в неожиданности. Зачем, зачем она? В эту минуту ему никого не нужно – одиночество легче. Чего ей надо, Светке? Спрятаться не было никакой возможности.
И она, по всей вероятности, заметила его издали, побежала, прибавив шаг. Бежала к нему. Расстояние и бледные сумерки проглатывали ее черты, но Николай-то точно знал, что это – она.
Побледневшая, с большими кукольно-синими глазищами, заплаканная – на белках глаз ясно проступали кровяные прожилки, – подбежала, обняла его, не проронив ни слова. Потом заглянула в лицо мужа и увидела безразличную ко всему, холодную льдистость во взгляде, испуганно зашептала:
– Опять ты нехороший... Ну разве можно так убиваться? – и с силой затормошила за плечи. – Раскачайся немного, чего нюни-то распускать теперь! – И со строгой решимостью добавила: – Пойдем домой, обдумаем... Пошли, пошли, шевелись немного...
– Чего думать, тут хоть в петлю лезь со стыда...
– Вот дуралей нашелся, сразу же и в петлю. Еще поспорить надо, подраться...
– После драки кулаками не машут! – проговорил Николай.
Света сердито оборвала его:
– То-то, мне, Ясман после работы звонит! В парткоме, говорит, переполошились все до единого, а когда снова позвали, тебя в приемной и след простыл... Ты, Коленька, и сам виноват, струсил. Никогда не думала, что в тебе трусости столько!
– Не трус я! – буркнул Николай. – Сама же знаешь... Стыдно только, стыдно!
– Знаю, – зашептала она, увлекая его на тропинку, ведущую к городу.
Сырые сумерки слизнули очертания дальних гор и леса, перед ними поблизости, то тут, то там, вспыхивали электрические пятнышки многоэтажных домов.
– Коленька, а может тебе стоит пожаловаться кому, в Москву или обком партии? Пусть там разберутся во всем.
– Нет, Света. Выходит, что я в партию силком лезу. Так не пойдет, нельзя так-то...
– Ну, напиши жалобу в газету? – искала выход Света.
– Наивная, куда бы ни написать, все равно сюда же обратно вернут для разбирательства. Не то это, не то!
Дома, как всегда, было прибрано, уютно. В уголке копошились, не ведая ни о чем, белокурые дочки. Побросали все, шустро метнулись к отцу, хватая ручонками полы мокрого пиджака. Они беззаботны, дела им нет до отцовской боли, свербящей душу. Им, стригункам, не понять тяжести его дум.
Ночью он лежал с открытыми глазами, не смежая век. Спала Света, уставшая и измотанная его страданием. Медные волосы ее разлились ручейками по белому полотну подушки. Ему не давала покоя мысль, почему так жестоко предал его Виктор? В то же время понимал, что сам был глубоко не прав. Чего бы ему стоило набраться решимости, коль уж был задан вопрос об отце, все выложить начистоту! Рано или поздно тайна становится явной, ибо груз ее всегда невыносимо тяжел для несущего. Разделенная с кем-то, она становится легче. Николай сознавал эту житейскую истину, однако спокойней ему не становилось, наоборот, в нем разгоралось зыбкое предчувствие страха. Он пугался беспощадности завтрашнего дня, боялся своего цеха, куда непременно надо идти, Смутно осенила тусклая надежда, что завтра придет в цех и, не встречаясь ни с кем, напишет заявление об уходе с работы...
Думал об этом, а сердцем чувствовал – без своего комбината, где проработал так много лет, существовать можно, а жить нельзя! Совершеннейшей мелочью казалась ему сейчас неувязка с изобретением. Факт остается фактом, из песни слова не выкинуть. Вернется главный инженер комбината, все выяснится, каждому воздастся по заслугам. И прав был парторг Нургали Гаязович, когда возмущался – не слишком ли много развелось желающих погреть руки?! Не это волновало Николая. В другое время он бы не смолчал, сумел бы защитить не столь себя, сколь обычную человеческую истину. Не путаница в бумагах придавливала его явной несправедливостью, а то, почему, зачем, на каком основании не приняли в партию? «Виноват ли я?» – одолевало сомнение. – «Наверное, виноват...» – неопределенно отвечал сам себе.
И еще промелькнула догадка: непременно отомстить за весь позор, за унижение, отомстить Виктору!
Та далекая ночь без звезд в небе, с лунным квадратом, упавшим от окна на паркетный пол, та ночь отвергнутого порыва любви до мельчайших подробностей воскресла в его памяти.
Той давней зимой он женился, жить было негде, пришлось Свету с родившейся дочкой отправить в деревню, к ее родителям. По долгу землячества временно, до получения комнатки в общежитии, Николая приютил Виктор. «Живи, – привел он его домой. – Места всем хватит».
В трехкомнатной квартире места действительно было много. Виктор с Татьяной, как и он, только начинали семейную жизнь, и потому комнаты были просторны и не обставлены. Николай днем то работал, то, бегая по городу, утрясал всякие дела, вечером приходил в квартиру друга, листал газеты и журналы, потом кидал к стенке матрац, спал прямо на полу.
Однажды ночью он проснулся от легкого поскрипывания паркета. Чье-то горячее дыхание ощутил около губ, чьи-то взволнованные руки сторожко касались пикейного одеяльца, создавая видимость какой-то нечаянности. Он испуганно приподнял голову над подушкой, второпях включил настольную лампу, стоящую у изголовья брошенного на паркет матраца. В приглушенном свете увидел Татьяну. Она стояла передним на коленях, и он ясно различал под сиреневым нейлоном пеньюара глубокий вырез полных грудей. Темные, жгучие глаза ее в страстном бесстыдстве были широко открыты, припухшие губы слабо шевелились: «Коля, Коля, проснись...»
Он испугался ее. От тела Татьяны исходил запах женского тепла и неги, шампуня и духов. Безрассудная кровь горячила виски.
С ума сойти, безумство! А Виктор, – подумал он. – Виктор в ночной смене. Под утро он вернется в грязной робе, уставший, в подтеках землистого пота, заберется в ванну и будет долго плескаться там, довольно отфыркиваясь. Под самый конец крикнет: «Танюша, иди спинку потри!..» А потом выйдет в синем махровом халате, подаренном тещей, хлопнет дружески по плечу проснувшегося Николая. «Что, завидки берут, Колян? Ничего, скоро получишь квадратные метры, прискачет к тебе Светка и забудешь обо всех невзгодах».
Николай зло зашептал:
– Уходи, Татьяна! Ты зачем здесь? Уходи, не то Виктору скажу...
Она вспыхнула, встрепенулась, резко поднялась с колен. Просвечиваясь через нейлон, смутно вырисовывались полные бедра. Как бы оправдываясь, тихо сказала: «Я одеяло хотела поправить, а ты чего, дуралей, подумал... И не стыдно?» – сказала и бесшумно босоногая прошлепала к себе в комнату.
На другой день Николай ушел от Виктора к. ребятам в общежитие.
Все это было давным-давно, и нынешней ночью вспомнилось вновь. Он сознавал, что эта правда, если о ней рассказать, потрясет Виктора. Но знал и другое, что у него не подымется язык произнести хотя бы слово. И не ради себя, не ради Виктора – он-то теперь черт с ним! – а ради Татьяны...
Тягуче и тяжело прошла в бессоннице ночь. И та, давнишняя, и нынешняя тоже.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Утром в дверь осторожно постучали. «Кого несет в такую рань?» – поднялась с постели Света. Накинув на плечи извечный халатик, она скользнула в крохотную прихожую, щелкнула замком. На пороге стоял Израель Львович.
– Я не звоню в звонок, стучу тихонько: дочек боюсь потревожить, – извинился он за столь ранний визит. – Не ушел еще твой?
– Собирается, – ответила она и заглянула на кухню. – Коля, к тебе пришли...
Чего-чего, но только не этой встречи в такой ранний час ожидал Локтев...
– Я на своем драндулете... За тобой заехал, – объяснил Ясман.
– Сейчас, я мигом, – заспешил Николай.
Дорогой к комбинату, сидя за рулем, начальник цеха без лишних подробностей досказал, как проходило вчерашнее заседание парткома в отсутствии Николая.
Нургали Гаязович осадил невозмутимо резкого Виктора Рабзина. И все члены парткома готовы были защитить Локтева, оградить его от неуместных нападок, не находя каких-либо серьезных фактов в доводах главного технолога. Но что правда, то – истинно: зло и добро вечно несовместимы. Жаль одно, добро, как правило, самонадеянно пассивно и. мягкотело, а у коварства позиция наступательная. Рабзин пошел в открытую. Секретарь парткома, настаивая на своем, утверждал, что именно таких, как Локтев, толковых, умных, к тому же непосредственно из сферы производства должно принимать в члены партии. Виктор Рабзин утверждал свое: «В партию принимать следует не только умных, но и порядочных людей. А Локтев, – он сделал упор на эти слова и воздал вверх указательный палец, – а Локтев, повторяю, даже комсомольцем никогда не был! Почему товарищи члены парткома не обратили внимания на этот чрезвычайно принципиальный вопрос? В школе, где все были осведомлены о грязной участи его отца, мы близко не подпустили к комсомолу Николая Локтева. Почему же, спрашиваю, поздней, когда ушел из деревни, он не стал комсомольцем?» – поставил в тупик и обескуражил непререкаемой прямотой всех членов парткома.]
Зарипов сдался, отступил, сделав, правда, некоторую оговорку, что ему необходимо кое с кем посоветоваться:
Рабзин торжествовал победу. Как же, он вступил в единоборство с таким представительным, монолитным в единодушии своем собранием и выиграл. Причины для победного ликования были основательные. Побороться, померяться силами с Зариповым – дело не безопасное. Сам генеральный директор не вступал лишний раз в ненужные перепалки с ним, зная, что немыслимо устоять перед упорством, честной прямотой этого бывшего киповца, ставшего впоследствии секретарем цеховой партийной организации, потом – инструктором горкома, и сейчас – духовный наставник огромного – в десятки тысяч – коллектива.
Старый «Москвич» бежал через полынный пустырь мимо сплошных скворечников в коллективных садах, быстро подвигался все ближе к гигантским очертаниям железного спрута – с хвостами серых дымков, с огнями непрогоревших остатков химии, с удушливо-сортирным запахом, рассеивающимся по окрестности.
– Если говорить откровенно, – обратился Ясман к Николаю, – то, на мой взгляд, это одна нервотрепка. Зарипов – не такой человек, чтоб остановиться на полпути. Знаю я этого твердокаменного башкира. Он, не в пример другим, за правду горой стоит, биться за нее горазд... Тоже, как мы с тобой, из простых рабочих, – Ясман нажал на тормоз, оторвал руки от руля, поставил машину на стоянку перед управленческим зданием комбината.
Через центральную проходную они вышли на территорию, нефтехимической обители, воздевшей ввысь железные купола, стальные башни и бетонные стены цехов. Жидкая тополиная аллея вела к «заводу в заводе», как величали здесь их карбамидное производство. Прошли в кабинет, в тот неуютный маленький закуток, где проходили лучшие дни, наполненные вдохновенной радостью. Здесь они встречались ежедневно в эти последние годы, когда упорно двигали вперед через все камни преткновения дерзкую идею полнейшей реформации цеховых служб. Здесь они радовались и печалились.
Привычна неброская обстановка кабинета начальника цеха. Старые обшарпанные столы грудились вдоль стен. Массивная кипа газетных подшивок пропыленной египетской пирамидкой возвышалась в переднем углу. Стеклянный графин с разбитым горлышком, прикрытый граненым стаканом, венчал край ящикообразной тумбочки. На цементных подоконниках сиротливо жались друг к дружке глиняные горшочки из-под предполагаемых комнатных цветов.
Ясман сел за свой стол, ладонью поправил седеющие кудряшки волос, посмотрел на Николая, заметившего, как резко обозначилась под глазами синева мешковатых полудужий.
– Стареть стал, – заговорил он. – Пора бы этот кабинет другому уступить. А жалко... Столько сил и здоровья отдано! С первого кирпича ведь здесь потею, дружище.
Николай знал, что Израель Львович родом из Одессы. В самые первые дни войны эвакуировался на Урал вместе со своим заводом, куда пошел работать подростком На фронт его не взяли: специалистам с оборонных заводов выдавалась бронь. А когда после войны, в начале пятидесятых годов в степном раздолье началось строительство комбината и нового города, его перевели сюда. Сейчас и он чувствовал себя виноватым перед Локтевым. Конечно, пробивал проект реконструкции, двигал идею к цели, помогал во всем, но не он, не он был инициатором, зачинщиком! Если бы не просьба Павла Петровича, прораба – помочь молодому изобретателю, то вряд ли бы Ясман подключился к делу и стал волей судьбы одним из соавторов.
Так быстро и неожиданно вызвали Локтева в горком партии, что Израель Львович замешкался. Не догадываясь, что к чему, он пытался успокоить Николая, предположив, что вызывают по причине путаницы в документации изобретения.
– Особенно не распинайся, Николай Иванович, – напутствовал он. – Всем известно – напутал Виктор Рабзин. А коль так, пусть сам и ответит... Не нынче-завтра вернется главный инженер, тряханет кое-кого и все будет нормально.
– Поэтому ли вызывают? – усомнился Николай.
– А больше-то зачем? – на вопрос вопросом ответил начальник цеха. – Больше незачем, только из-за этого, я думаю.
– Сердцем чую, причина в чем-то другом, более существенном, – продолжал сомневаться Локтев.
– Если что, Коля, ты ко мне сразу беги... Мы с Зариповым уже переговорили и в обиду тебя не дадим, ни он, ни я, – суетился Ясман, как бы забыв о том главном, что произошло на парткоме.
Николай не мог скрыть волнения, пальцы рук мелко подрагивали, неясность пугала, путала и без того бессвязные мысли. Приоткрыв дверь, медленно прошел по мягкому ковру к секретарше, та ожидающе посмотрела на него.
– Я Локтев, меня вызывали...
– Да, да, сейчас доложу.
Она приоткрыла обитую черным дерматином дверь, ведущую в кабинет секретаря горкома, и тут же вернулась.
– Пожалуйста, проходите, вас ждут...
И тихий ее голос, и эти слова «вас ждут» еще сильней растревожили его. Он, с трудом сдерживая волнение, перешагнул небольшое возвышение меж двумя, близко отстоящими друг от друга дверьми.
Секретарь горкома – совершенно седой, высокого роста мужчина, улыбнувшись слегка, вышел из-за стола, протянул руку. Не ожидая такого оборота, Николай долго в нерешительности заводил рукою, до тех пор суетливо вертел ею, пока не догадался, что секретарь уже сам пожимает его ладонь. В тревожном волнении, стоя перед секретарем горкома, он смутно предполагал, что разговор будет отнюдь не о его изобретении, в корне изменившем работу цеха.
Но о чем же тогда?
– Присаживайтесь, Николай Иванович, – проходя к массивному столу, малахитово зеленеющему плотным сукном, сказал Сергей Семенович. – У нас с вами долгий разговор.
Николай цепко и пристально посмотрел на секретаря. О чем же разговор? Зачем терзать уже растерзанного? Лежачего не бьют! – крикнуть бы, напомнить земную истину. Блеск его глаз был холоден и враждебен. Сергей Семенович уловил это, неторопливо начал перебирать исписанные листки, сдвинув их от себя на краешек стола, поднял седую голову и перехватил холодный взгляд собеседника.
– Николай Иванович, к счастью, я знаю не только то, что произошло на парткоме, но, кажется, немного знаю и вас. Не удивляйтесь...
Ледок в глазах Николая стал подтаивать и сменяться удивленным любопытством. Откуда ему, секретарю горкома, хозяину города, занятому человеку знать его, обычного оператора, каких на комбинате сотни и тысячи? О чем же вы, секретарь, пытаете? Говорите, не терзайте! Ждать больше нет никаких сил... Рубите под корень!
Неторопливо, выбирая слова и несколько растягивая их, секретарь продолжал:
– Вы удивляетесь, откуда я могу знать вас? Немножко, конечно, но знаю...
– Что вы имеете в виду? – не выдержал Николай. Голос срезался, хрипотца запершила в горле.
– Да ничего особенного для меня, а для вас, Николай Иванович, очень особенное... Прежде всего хочу сказать о Павле Петровиче, давшем вам рекомендацию...
«Но при чем здесь умерший сосед, прораб? – подумал Николай. – Какое он имеет отношение к чужой беде?»
– Вы знаете, что мы с ним были близкими друзьями?
– Нет, не знаю, – признался Локтев. И действительно, за долгие годы дружбы с Вершининым покойный ни разу не говорил ему об этом. Не хотел, наверное, хвастать, что вот, мол, с самим первым секретарем на одной ноге, в любое время вхож к нему.
– Мы воевали вместе с ним, в одной роте, – он повернулся боком к Николаю, лицом к зашторенному окну. – В сорок третьем, на Курской дуге... камни горели под ногами. Все горело кругом – земля и танки. Вот там-то и стукнуло меня осколком... Куда – даже не осознал. Когда в себя пришел, почувствовал – грудь давит, не шевельнуться. Вся гимнастерка в кровище... Сколько я провалялся, не помню: то в себя приходил, то опять сознание терял... Одно навеки запомнил, как Павел рядом оказался, подлез ко мне, задышал горячо в ухо, перевалил меня на спину к себе и пополз... – Секретарь замолк, отвернулся от окна. – Через несколько дней, уже в госпитале, узнал я, что сквозным ранением поломало мне ребра, процарапало легкие... – Сергей Семенович встал, оперся руками о край огромного стола, наклонившись к Николаю, добавил: – Жизнью своей я обязан ему! Теперь вы догадываетесь, зачем вас вызвали?
– Нет, не догадываюсь, – откровенно признался Николай Иванович.
– Эх ты, паря, – засмеялся секретарь. – Какой недогадливый! Мы дружили с Павлом Петровичем, и дружбу эту я высоко ценил! Больше сказать мне нечего.
– И мы дружили... – вздохнул Николай.
Сергей Семенович просиял, вновь вышел из-за широкого с малахитовой зеленью стола, присел рядом с Локтевым, доверительно обнял его за плечи.
– Мы много говорили о тебе. Не подумай, что Павел Петрович выдал секрет и ненароком проболтался... Между нами секретов не было. – Он так незаметно и легко перешел на «ты», что Николай даже не обратил внимания на это. – О личности твоего отца, – продолжал секретарь, – я знал задолго до заседания парткома. Паша советовался со мной по этому поводу перед тем, как дать тебе рекомендацию в партию. Старик верил в тебя, а я всегда верил в него и знал, что такие, как Вершинин, не ошибаются в людях. На них, на людей, у него было собачье чутье. Коль уж сам он давал тебе рекомендацию, так значит ты стоишь того...
Николай рукавом пиджака смахнул выступивший пот со лба, дрожащими губами, выдавая неуемное волнение, в приливе сыновней нежности еле выговорил:
– Спасибо вам, спасибо!
Он не мог успокоиться, отойти от оцепенения последних невезучих дней. Ладони рук подрагивали. Николай туго прижал их к коленям. С благодарностью, какую не выразить словами, посмотрел на партийного секретаря, такого простого и доступного в эти минуты. Радуясь своему, он не заметил, как неожиданно переменилось выражение лица Сергея Семеновича, как оно, постепенно утрачивая сиюминутную мягкость, становилось неприступно суровым. Он прошелся по кабинету, с неохотой заговорил вновь:
– Но то, о чем я говорил сейчас, – это еще не все. Есть, к сожалению, обстоятельства, которые выше нас. На меня давят с двух сторон: Зарипов с Ясманом твердят одно, а кое-кто из обкома настаивает на другом. – Он прервался, неожиданно спросил: – Ты хорошо знаешь Рабзина, главного технолога?
– Знаю неплохо, – сухо проговорил Николай.
– Так вот, товарищ Рабзин представил в партком Зарипову, справку из бюро рационализации, якобы материалы по его изобретению поступили задолго до предложения Локтева. Так ли это?
– Не может того быть, Сергей Семенович! – осекся Николай. – Какая еще справка? Не понимаю, зачем она нужна – бумага? Все и так было ясно, как божий день...
– Мало того, – добавил секретарь, – он настаивает, что данные проведенной в цехе работы целиком стали темой его кандидатской диссертации.
– Это явная ложь, подтасовка фактов! – возмутился Локтев. Накопившаяся обида и боль несправедливости прорвались из груди. Глаза его повлажнели. На лбу обозначились бисеринки пота. – Сергей Семенович, – обронил он, еле шевеля губами, – сегодня меня мало тревожат делишки Рабзина... Я не могу уяснить другого, буду принят в партию или нет?
Прямой этот вопрос не застал врасплох хозяина города. По всей вероятности, он заранее обдумал ответ на него.
– Как ни печально, – сказал секретарь, – но должен огорчить тебя. Пойми правильно, в данный момент оба этих значительных дела – и вопрос приема в партию, и участие в изобретении – слились воедино. По отдельности рассматривать их стало невозможным. Так что приема в партию не состоится.
Слова падали в сердце, жгли, больно унижали. На их невозмутимую логику отвечать было нечем. Николай, как пришибленный, устало поднялся, собираясь выйти из кабинета.
– Постой, не торопись, – слабо уловил слова. – Сейчас должен подъехать Зарипов. Ему тоже этот вопрос – поперек горла встал...
Секретаря парткома ждать долго не пришлось. Он не вошел, а вихрем влетел в кабинет. Черноволосый, крепкий, с резкими грубоватыми чертами лица Зарипов, твердо ступая, сразу же направился к столу. Он поздоровался за руку, не дожидаясь приглашения, сел в мягкое кожаное кресло. Сергей Семенович давно уже обратил внимание, что из всех входящих сюда, в этот просторный кабинет, один Зарипов никогда не мешкает, внешне не меняется, ведет себя подобающе просто. Остальные, сознавая, где находятся, зачастую начинают вести до наивности неестественную игру. Кто-то заискивающе лебезит перед высоким начальством, другие ловят с подобострастным вниманием каждое оброненное им слово, третьи – просто по-человечески пугаются. Секретарь горкома отодвинул бумаги:








