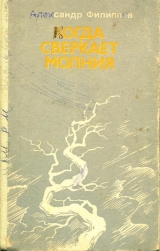
Текст книги "Когда сверкает молния"
Автор книги: Александр Филиппов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
ЧИСТЕЙШИЕ МЕЛОДИИ КУРАЯ
Вечером мы разводили большой костер. Я шел со спиннингом на щучий всплеск, чтоб на ужин непременно уха была, а Зарип брал своего меньшого сынишку и снова торопился на делянку. До поздней ночи стучал в лесу его одинокий топор да слышалось тонкое повизгивание пилы. И, как шумный обвал в ночной тиши, доносилось до нас глухое падение сосен.
Стук топора был размерен и тороплив, чувствовалась сноровка лесоруба, его напористый и резкий взмах.
– А Зарип наш не на шутку разошелся? – смеялись молодые колхозники, разливая из общего котла наваристую уху.
– Для себя он, как лошадь, волокет, а как для колхоза – у него сразу колотья в пояснице да резь в животе, – замечает наш бригадир Василий Иванович Маркелов.
Он задумчиво вздыхает, подбрасывает в костер сухих веток. В небо взлетают искры, и вслед за ними сильные языки пламени стремительно взмывают высоко в темень ночи. Вокруг табора становится почти совсем светло, а небо темнеет так, что на нем проглядывают звезды.
Василий Иванович разливает в наши чашки остатки ухи. Снова вздыхает. Стряхивает с бороды застрявшие в ней кусочки хлеба.
– Ну на сегодня будя... Пора на перекур с дремотой.
Мы все, как по команде, друг за дружкой лезем в широкий балаган, крытый свежей душистой травой, успевшей немного зажухнуть, а от того еще более духмянной. В темноте отыскивает каждый свое место. Смеемся. Ради забавы и баловства щекочем друг друга травинками. Балагурим.
– Молодо-зелено, чего с вас взять, – снисходительно говорит Маркелов. – Небось, наломаетесь с мое – тогда не пошуткуете.
Но озорство не долгое. Утомленные дневной работой, мы быстро засыпаем, успев в последний раз уловить слухом отдаленный стук зариповского топора. Сквозь сон я слышу, как тревожно ворочается с боку на бок бригадир и с безразличием самому себе бубнит под нос: «Выше себя не перепрыгнешь, что уж есть – то и ладно».
И еще улавливаю шорох сена в дальнем углу балагана – это вернулся с порубки сынишка Зарипа – Сафа. Он падает ничком на шуршащее сено, покрытое мешковиной, укрывается с головой тулупом. И все стихает, опять-таки кроме отдаленного стука железа о дерево. «Совсем замучил его отец, – думаю я, засыпая. – Себе никакого спуску не дает в работе и сынишку гоняет, как лошадь какую...»
А над тишиной леса все мечется и мечется одинокий перестук топора. Некуда вырваться этому стуку из долины, зажатой со всех сторон уступами гор.
Ранней зарею первой просыпается Миннигуль. Она спит не с нами в шалаше, а рядом в брезентовой палатке, где хранятся продукты с общественного стола. На вырубке она почти не бывает, ее задача – кормить, поить нас. Мы валим лес – она кашеварит. Небольшого роста, черноволосая, как все башкирки, всегда серьезная, хмурая. Побаивается, видать, разгульного мужского табора. Неподступная. Венка все к ней подбивался поначалу да отступился. Так ошпарила его, что даже разговаривать перестал. Выглядит она совсем девчонкой, хотя у нее сын есть – мальчишка лет пяти. А муж в Салавате. Он, как отслужил в армии лет шесть назад, все работу в городе ищет. То в деревне, живет, то опять в город подастся. Профессии-то нет никакой, а без нее и в городе не сладко. Миннигуль живет своим хозяйством, в небольшой избенке, оставшейся после матери.
Как всегда, она проснулась первой. Еще ночная темень не сползла с гор и холодный утренний туман клубился по ущельям, проливаясь к реке густой молочной жижей. Приготовив завтрак, подняла всех нас.
– Харчов уже нэма, кажись, – проглатывая в сухомятку пшенную кашу, констатирует Микола.
– Продукты к концу идут, точно, – позевывая, говорит Миннигуль. – Завтра бы надо кому-то в деревню идти, а то не дотянем до конца...
Не каждому хочется бросать посередке начатое дело и ехать в деревню километров этак за двадцать пять. Но и без продуктов дальше тянуть нельзя. Работа тяжелая и еды требует добротной.
В первый раз, неделю назад, тянули спичку и ехать за продуктами пришлось Миколе. На этот раз он взбунтовался.
– Так не гоже. Колы я какую-то там спичку втяну, чтоб меня обухом по шапке. Жребь называется. Треба заслуженно делать, а не спичку тягать. Новый способ жребья предлагаю. Давайте чурбак колоть, и нема делов. Кто его разворошит сразу же, удара за три-четыре – тот и выиграл, отходит в сторону, а у кого кишка тонка и не смогет чурбак расколоть, тому и топать в деревню.
Так мы и порешили.
На следующий день, в субботу, все собрались у шалаша. Из придуманного Миколой соревнования исключаем кашеварку Миннигуль и Сафу, как малолетнего, не подходящего по трудовому кодексу.
Спилили средней толщины березу, разделали ее на чурбаки, более-менее равные по размеру. И началась эта потеха, колка-рубка. Жребий не кидали. Первым подошел порешить свою участь Василий Иванович Маркелов, широкий в плечах мужик лет пятидесяти. Окладистая борода, как у Пугачева, касается широкой груди, когда он наклонил голову, выбирая себе чурбак. В одной руке – колун, другой поправляет волосы с прожилками густой седины. Замечаю, глаза у него наливаются веселой яростью, азартом. Он без рубашки, в одной майке, и видно, как на руках у него набухают вены, мускулы собираются в одно единое. На правом плече сначала синеет, потом наливается каким-то другим, коричневатым цветом давно затянувшийся шрам от фронтовой раны.
И вдруг рот его перекашивается, из-под бороды, будто молния, на единое мгновение проблескивают зубы. Он делает громкий, неестественный выдох: «ы-ых!» – и резким, расчетливым взмахом топора разваливает чурбак с первого же удара на две разные половины. Дальше – дело не хитрое. Две оставшиеся плахи разбить надвое Василию Ивановичу – плевое дело. Довольно и лукаво улыбаясь, он кидает колун на траву.
– Кто в очереди за мной пытать судьбу?
Микола подходит к чурбаку медленно, приплясывая. Боком пятится. Поднял колун с земли, поставил чурку «на попа». Поначалу тихо-тихо стукнул острием топора посередке, оглянулся на нас, сказал:
– Не в счет это... Проба, глазомер...
– Ладно, ярар. Шибко глазомерить нечего. Бей – да все тут, – смеется Василий Иванович.
Зарип вставляет:
– Хитрый хохол. Это тебе не пиджак шить, без примерки можно. – Он смотрит ласково, доверительно на Миннигуль, добавляет: – А ты следи, Миннигуль, следи, чтоб все по закону было.
Ее и Сафу назначили секундантами, подсчитывать удары топора, наблюдать за сноровкой соперников.
Вот Микола тряхнул белобрысой челкой, упавшей на лоб, еще раз примерился к чурбаку, присел, согнув колени и, распрямляясь в пояснице, с силой ахнул. Топор, описав дугу, звякнул о чурбак, но расколол его не до самого конца, а так, что тот не развалился на две части.
Я подумал: «Зачем это? Сил-то, сразу видно, хватило бы у Миколы». Об этом, наверное, и другие подумали, потому что затихли все, с недоумением смотря на него.
– Сучок, что ли, попался? – изумляется маленький Сафа. – Чурбак-то целый совсем.
Микола с серьезным видом, будто бы не случилось ничего особенного, плотнее стискивает руками две неразлетевшиеся половинки и бьет колуном с такой же силой поперек линии раскола. Чурбак податливо разваливается на четыре части.
– Хитер, собака! Ничего не скажешь – восхищается Зарип. – Даже я не придумал бы. Вот шайтан мужик!
– Это да! – ахает Сафа. – За два удара всего...
– Сало ест, потому и сила, – смеется добродушно Зарип. – Жалко нам, мусульманам, сала нельзя кушать.
– Чья бы корова мычала, а твоя молчала, Зарип, – встревает в разговор Венка, мужик лет тридцати, худой, сухопарый, жилистый. – Лупишь сало-то со всеми заодно так, что за ушами пищит.
У Венки три года назад умерла жена. Любил он ее, лелеял. В деревне непривычно, чтоб любовь напоказ выставлять. Кажется, что в тяжелых сельских буднях ей и места нету. А Венка – нет, он не скрывал от посторонних глаз свое отношение к жене. Как только, бывало, в магазин новенького чего подбросят, он – тут как тут.
– А ну-ка, хозяюшка, мне дефицитику какого-никакого для Лены.
Охотно покупал жене цветастые отрезы, духи, замшевые перчатки и прочую принадлежность дамского туалета. А как-то поехал в Салават и привез оттуда беличью шубу. Чудом каким-то достал.
– За шестьсот рублей отхватил, по блату, – объяснял погодкам своим на улице. – Приезжаю, значит, в Салават. Гляжу, по улице Колька топает. Мы в армии с ним вместе служили. Дружок мой, значит. «Здорово, – говорю, – Колька!» Ох и обрадовался мужик, что сослуживца встретил. Оказывается, на базе работает. Начальник.
Три года назад Лена умерла, и живет сейчас Венка вместе с пятилетней дочкой у тещи. Пить он с тех пор стал. Даже сюда на вырубку несколько бутылок водки прихватил и тайно ото всех тянет по вечерам. Жалко его, конечно, но и пить так не следовало бы.
Вот он лениво потягивается. Выбирает чурбак, поменьше который. Внимательно осматривает его, приглядывается – с какой стороны можно ловчее ударить.
– Эх, стакан бы пропустить, чтоб сила была! – вполне серьезно говорит он.
С каким-то безразличием машет топором, и тот заседает в самом комле чурбака. Венка поднимает чурбак на плечо и с тяжестью обрушивает обух колуна на березовую плаху. Чурбак разлетается.
– Два удара есть! – кричит Сафа.
Другие половинки колол он тем же образом.
– Шесть ударов, – зафиксировала Миннигуль.
– Пропил силу-то, – заметил Василий Иванович. – А какой бугай был, позавидуешь. Водка – она, брат, любого быка наповал свалит и прежде время в деревянный бушлат оденет. Так-то, брат...
Когда я вернулся в деревню на летние каникулы после третьего курса института, первым, кого встретил, был Венка. Он охотно подхватил мой чемодан и пошел проводить до дому, надеясь, пожалуй, на то, что домашние встретят меня по-праздничному и, конечно же, стаканчик-другой перепадет ему.
Так, собственно, оно и вышло. Хлестанув водки да перемешав ее с добрым половником кислушки, Венка стал слезно жаловаться на свое житье-бытье:
– Беда мне одному, без бабы-то. Конечно, теща тащит, что по женской части. Но все же – это не то. Хозяйка в дому нужна...
– Женись, покуда еще молодой, – говорю ему.
– Да кто пойдет за него, пьет же без просыпу, – вступает в разговор мой отец.
– А я и сам никого не хочу после Лены. Одна, может, во всей деревне по сердцу мне: Миннигуль.
– Ты даже думать брось о ней, Венка! – обрезает его отец. – Она замужняя, и нечего нос совать в чужой огород.
– Разве муж у нее, название только: одна нога здесь, другая – в городе. Ни шерсти от него, ни молока. Я бы отбил ее...
– Отобьешь, смотри! Так ухайдакают бока – рад не будешь! – опять парирует отец.
– Ничего, вот через неделю на вырубки в леса поедем, и она, говорят, собирается. Там мы с ней и обговорим это дело, на мирных началах, конечно. Встреча за круглым столом, как пишут газеты.
Здесь, в лесу, в первые дни нашей работы Венка, действительно, особо не таясь ни от кого, стал прихлестывать за Миннигуль, уделять ей внимание: то сушняку наберет, то воды принесет из родника, то вместо нее на ранней заре таган наладит и костер разведет.
Какой уж у них разговор произошел между собою, нам никому не ведомо, но, по всей вероятности, Миннигуль дала понять Венке: не подступайся. Молчит с тех пор Венка, не разговаривает с ней, будто воды в рот набрал.
– Ты что лыбишься, Зарип? На бери, твоя очередь, – сказал он и сунул Зарипу топор из рук в руки.
Зарип исподволь взглянул на Миннигуль, улыбнулся ей краешком губ. Черные глаза его с узким разрезом азартно блеснули. Сынишка его Сафа присел на корточки, от волнения закусив нижнюю губу. Глазишки-вишенки его того гляди и выскочат из-под бровей.
– Хитрого Миколу как обойти? – сказал Зарип. – Только его же манером. Секрет выдал – нам легче.
Так же, как и Микола, жилистый, крепкий, весь сплошь будто вылитый из бронзы, Зарип раскроил плаху за два удара.
Сафа от радости упал на спину, задрал вверх босые ноги, визгливо по-детски заголосил:
– Молодес-с-с... ата, молодес-с-с...
Мне безусловно так не суметь. За три студенческих года, проведенных в городе, я изрядно отвык от мужицкой работы. И все же пытаюсь сноровистее зажать в руках тяжелое отполированное топорище. С силой взмахиваю топором, блестящая сталь до самого обуха входит в мякоть древесины и оседает в ней. Здесь нужна не только сила, но и сноровка, ловкость. Ничего не вышло. Придуманный Миколой новый способ жребия я проиграл. Правда, еще не участвовал в споре Мазит. Он самый старший из нас, ему уже за шестьдесят. Всю свою жизнь он проработал секретарем в сельском Совете. Его, кажется, и на фронт не брали, когда война шла. Года четыре назад вышел на пенсию, а в лес с нами поехал заготовлять древесину не столько для: колхоза, сколь для себя. Ему разрешили в лесничестве. Мазит – среднего роста. Весь седой и, главное, непомерно толстый. Словно голова его приросла к плечам без посредства шеи. Кажется, что ее у него вовсе нет, вся затекла жиром. Когда он садился обедать, большой живот ниспадал до самых колен. «Мазит – брюхом тормозит» – прозвали его в деревне. И было странно как-то видеть это несоответствие: непомерная грузность Мазита и в то же время расторопность в работе. Ни живот, ни затекшая шея, ни жирные плечи отнюдь не мешали ему ловко орудовать топором.
– Давай, Мазит, начинай. Твой черед, – сказал Зарип.
Но тот как сидел у входа в балаган, так и остался сидеть там.
– Не тяни резину, старик! – буркнул Венка.
Мазит медленно повернул к нам голову, мелькнул узкими, еле пробивающимися из-под отекших век глазками, сказал неторопливо:
– Я не буду, меня ваше баловство не касается.
– Это почему же! – вспыхнул Зарип.
– У меня свой провиант, колхозный хлеб не ем, – спокойно пояснил Мазит.
И действительно, Мазит за общим столом не питался. У него свои продукты, собственные. Держит он их в дощатом чемоданчике и не в палатке, как все, а у себя под головой, в шалаше.
– Ну что ж, вольному – воля. Единоличник и есть единоличник, – недоброжелательно заметил Василий Иванович. – Тогда спор разрешен. – Он повернулся ко мне, добавил:
– Ехать в деревню придется тебе, молодой человек, ничего не попишешь...
Сафа стремглав побежал на поляну, где паслись стреноженные лошади. Быстро оседлал гнедуху и подвел ее ко мне. Василий Иванович и Миннигуль составили список тех продуктов, какие надо было привезти. Я сунул бумаженцию в карман, приторочил к седлу рюкзак с холщовыми мешками и совсем было уже приготовился сесть на лошадь, но ко мне подступился Венка. Ласково и умоляюще заглянул в глаза:
– Слышь-ка, будь другом, захвати водки немного, а? – сунул мне чуть ли не насильно десятку в руку. – Привези, не на себе же переть, на лошади. Чего стоит, а?
– Ты не слушай его, поезжай, – строго приказал Василий Иванович. – Ему бы только нахлестаться этой заразой. А у нас впереди – река. Сплавлять плоты – не шуточное дело, река – она пьяных не любит. И лес порастеряешь, и сам утопнуть можешь...
– Не бойся, Василий Иванович, за мной не заржавит. Плоты, что ль, никогда не гонял я? Привези, друг, маленько, – опять он обернулся ко мне. – Для сугреву она никому не повредит.
Перед полуднем я выехал в деревню, пообещав завтра к вечеру вернуться.
Центральная усадьба нашего колхоза – в деревне Иштуганово, протянувшейся одной широкой улицей километра на два вдоль берега Белой. Где рысцой, где шагом я в тот же день доехал на Гнедухе до места, одолев горную малохоженую дорогу. На следующий день с утра заглянул в правление. Председатель колхоза вызвал бухгалтера, и они вдвоем прикинули-примерили, чего и сколько взять мне на вырубки для лесорубов. Выписали со склада муки, мяса, меда.
Прибежала жена Мазита – Марфуга-апа. Худенькая в противоположность мужу, она всегда мне казалась очень уж тихой, даже забитой какой-то.
– Арумы, улым[2] 2
Арумы, улым – здравствуй, сынок
[Закрыть], – тихо улыбаясь, сказала она по-башкирски. – Вот узелок принесла. Возьми для Мазита. Здесь топленый жир с луком, вытопки. В лапшу хорошо класть, вкусно. И курута немного...
Вслед за ней пришла с грудным мальцом на руках Зулейха – жена Зарипа, красивая, статная татарка. Белесые, с пепельным отливом волосы, прямой и тонкий нос, широко открытые зеленоватые глаза под тонкими, сросшимися у переносицы угольно-черными бровями – она была более похожа на русскую дородную сибирячку, нежели на татарку.
– Как там Зарип мой? – с ходу, источая каждой клеточкой своего тела гордую силу, спросила Зулейха. – Сафа как? Не мерзнут под одним тулупом?
– Нет, хорошо живут, – успокоил я.
– Ты передай им вот немного казылыка, немного сушеного гуся. Зарип это любит. А то вы его там, наверно, свининой закормили. Тьфу?
Зулейха положила к ногам коня увесистый рюкзак, гордо повела округлыми плечами, с непонятной суровостью сказала мне:
– Передай ему, чтоб больше за Сафой смотрел да поменьше с Миннигулькой заигрывал. Так и скажи, чтоб не ухлестывал, все равно узнаю: земля слухом полнится.
Я был удивлен и обескуражен. В лесу, на делянке, за Миннигуль все больше ухлестывал Венка и то – до поры до времени, пока отпор не получил. Со стороны Зарипа не наблюдал я никаких признаков особого внимания к кашей кашеварке. Конечно, маленькая черноглазая Миннигуль могла бы многим понравиться и нравилась, естественно. Но ее природная неразговорчивость, постоянная недоступность отпугивали всех, и даже привычных в мужских компаниях сальных шуток никто не осмеливался сказать при ней. Так стрельнет колючими глазами, что рад не будешь.
– Нет, Зулейха-ханым, Миннигуль не такая. Она хорошая, вольностей больно-то не дозволит. Ни себе, ни нам.
– Ты баб не знаешь, дружок. Они гораздо хитрее, чем ты думаешь. В тихом озере черти водятся, – сказала Зулейха и, степенно ступая по лужайке, с мальцом на руках направилась к своей калитке.
Все вроде исправно исполнил. Дернул ременную уздечку и тронул к лесу.
Длинный путь да мерный, еле слышный шелест листвы в безветрие клонят ко сну, но не заснуть мне: я думаю о Зарипе и Миннигуль, о маленьком Сафе, о Миколе и Венке, о бригадире нашем Маркелове Василии Ивановиче. Такая маленькая совсем бригадка, а какой разный народ! Конечно, Василию Ивановичу легче всех, думаю я. Он хорошо прожил жизнь, ему уже далеко за пятьдесят, старый, если судить с моей колокольни. А впрочем, разве это старость в наш век? Именно их поколение, гнутое да ломанное суровым временем, осталось твердым, пусть не столько физически, сколь духовно, верующим осталось в лучшее...
Нет, ему легче не из-за прожитых лет, просто он основательнее других стоит на своей дороге, давно нашел ее и идет по ней размашисто, с чувством собственного достоинства, интуитивно сознавая место свое на земле. Он воевал, ходил в атаки, бил врага, ордена получал за это и медали. А потом, после войны, строил дома и клубы, коровники и амбары. Ему лишнего не надо от жизни, довольствуется тем, что есть. Познав голод и холод, повидав рядышком смерть, доволен сегодняшним мягким хлебом, который сам заработал, доволен теплотою своего дома и радуется участи детей, которые разошлись по свету пытать свою судьбу.
Мне гораздо труднее, чем ему. Зубрить учебники, ночами напролет копаться в книгах, сдавать, наконец, экзамены, то есть жить на одних нервах. И все-таки, думаю, труднее всех из нас Венке. Жена умерла, дочь воспитывать надо, хозяйство вести. Кажется, любит он Миннигуль, а вот обратной доброты нету. Ему трудно. Да тут еще эта зараза – водка. Пьет, не унимаясь.
А легче всего, наверное, Сафе. Пока и дум никаких в голове, и локоть отцовский рядом. Жаль, загонял Зарип сынишку на работе. Сам день и ночь коряжится и ему покоя не дает.
К вечеру, в жидких сумерках доехал я до делянки. Потрескивал костер, щедро разбрызгиваясь искрами. Первым, заслышав цоканье копыт, пулей выскочил из балагана Венка.
– Привез, старик? Знаю, знаю, что привез. Ты же – парень на ять! С такими только в разведку.
Венка, он добрый, бессермяжный. Тут же сковырнул пробку со стеклянного горлышка бутылки и пустил по кругу алюминиевую кружку, подливая каждому помаленьку. Выпили все, естественно, кроме маленького Сафы, один Мазит отказался. Он развязал свой мешок, отошел, как всегда, в сторонку, сумерничал один. А мы, малость разгоряченные, шумели, подсмеивались над Мазитом, над его неуместной единоличной жилкой. Миннигуль разливала нам по тарелкам наваристую шурпу, Венка хмуро, посматривал на нее, у него бугрился темной синевой левый глаз. Зарип пояснил мне:
– Это ему от Миннигуль досталось, половником огрела, чтоб не лез.
Я понял: в мое отсутствие была здесь небольшая перепалка.
– Ты прости меня дурака, извини, Миннигуль, – тянул он, чуточку захмелев.
– Отвяжись, шайтан. Прощать покуда не за что, а полезешь если, снова получишь, понял?
– Нет, не понял, – засмеялся Венка.
– Кончай перекур, ребята! – скомандовал Маркелов. – Седни довалим остаточный лес, завтра плоты сколачивать начнем, а там уж и домой да вдоль по реченьке... Хорошо!
– Хорошо-то как! – поддержала его разрумянившаяся, обычно молчаливая Миннигуль.
За все время заготовки леса самое легкое и самое приятное дело – это сплавлять плоты. Вот они, поскрипывая и покачиваясь, отрываются от берега, гонимые течением, выходят на стремнину.
Перед тем как отчалить, Маркелов распределил людей – кому с кем плыть. Все выходило нормально, одному Мазиту не повезло: ему досталось плыть с Венкой.
– Не поплыву с ним, – взбунтовался старик, – разобьемся. Ему бы только водку пить, а не плоты гонять.
Венка нервничал, ругался.
– Да у меня же и водки-то давным-давно нету, всю израсходовал!
– Ты в любой деревне отыщешь, – сопротивлялся Мазит. – Я бы, к слову сказать, даже с Миннигулькой согласен плыть, чем с тобой.
Спор укротил Маркелов.
– Ладно, базарить не будем. Коль так, плыви, Миннигуль, с Мазитом, а я с Венкой – мне все одно.
Мы отплыли с Акаваса рано по утру, окунувшись сразу в зоревую прохладу реки.
Когда встречались плесы, а их много в верховьях Белой, вся бригада чувствовала себя, как на отдыхе. Люди перекликаются между собой, поют песни, готовят прямо на плотах обед. А я балуюсь спиннингом. Попусту кидать блесну уже надоело, и потому я, приноровясь к щучьим повадкам, не столько занимаюсь ужением рыбы, а настоящим промыслом. Лишь плеснется где рыбина, побегут круги во все стороны – я тут же хватаю спиннинг и быстро кидаю блесну на всплеск. Упадет она на воду, несколько секунд даю ей времени, чтоб чуточку утопла, затем резко начинаю наматывать леску на катушку. Радостно ощутить сильный рывок в плече и звонкий упругий натяг лески.
– Есть! – обрадованно кричу я.
Эхо ударяется в скалистые берега, и, дробясь, катится вдоль реки переливчатая нота: э-э-э...
Плотогоны, как один, бросают свои дела и все внимательно следят за тем, как я подтягиваю рыбу к плоту. Особенно нетерпелив Микола, он начинает кричать мне с первого плота и поучает, как бы это не упустить мне щуку.
– Эх, ватола! Быстрей тяни! Не бачишь, что ль – она в коряги тянет. Уйтить могёт!
Все остальные, замерев, наблюдают, как я подвожу рыбину к плоту и ловко вытягиваю ее на бревна.
– Щука! – оповещаю плотогонов, и все подхватывают: «Щука!»
– Молоток! – кричит Микола с первого плота.
Но вот впереди послышался шум воды. Это очередной перекат. Их на Белой больше, чем плесов, особенно здесь, в горах. Границы между плесом и перекатом нет. Вода убыстряет свой бег незаметно. Скорость нарастает быстро, бревна под ногами начинают покачиваться и волноваться в предчувствии напора воды. Все быстрее и быстрее струя подхватывает плот и несет его прямо на скалы. Медлить на перекате опасно. Не успеешь отбиться «бабайкой» от стремительно набегающей скалы, разнесет все кошмаки[3] 3
Кошмак – счаленные бревна, из которых делается плот.
[Закрыть] вдребезги.
Я плыву с Зарипом. Он стоит на передней «бабайке», я – на подхвате, как говорится, сзади фланирую. На правом плоту вместо лоцмана плывет Микола, к нему, как к самому опытному, приставлен Сафа. А вдалеке, отбившись от общего каравана, плывут Мазит и Миннигуль.
Неуклюжий старик то и дело выкликает ей какие-то нужные и ненужные команды. На одном из перекатов плот их развернуло поперек реки, и Миннигуль по воле волн оказалась впереди.
– Студент! – кричит мне Зарип. – Крепче держись, следи за рекой. Скоро самый нехороший перекат начнется. Кунай называется.
Он, перемахивая через поперечные слеги плота, бежит ко мне. Проверяет крепления «бабайки», подтягивает лыко, которым счалены шаткие бревна.
Я знаю, что одолеть перекат Кунай – дело нешуточное. Не напрасно башкиры назвали его именно так. Кун – сиди, ай – месяц, то есть, если расшифровать, выходит: коль угодил на камни переката, то просидишь здесь и прокукуешь целый месяц.
Зарип, уходя к своему, переднему кошмаку, еще раз повторил лично для меня уже говоренное-переговоренное:
– Бревно идет туда, – махнул он рукой в сторону переката, – а выходит оттуда не бревно, мочало. Измелет так. Вот она какая речка наша. Мочало, говорю, выходит. Так что, гляди зорко...
– Ладно, ладно, Зарип-агай, справлюсь как-нибудь, – успокаиваю его.
Вижу, как залихорадило передний плот в узком проеме между скалистых берегов. Микола в одной майке и легких подштанниках ярым коршуном вцепился длинными сильными руками в рукоять «бабайки», орудует ею, забыв обо всем на свете.
– Не замай! – кричит он с бешеной яростью Сафе, что означает, по всей вероятности: ничего не делай, управлюсь сам.
И действительно, передний плот, где за лоцмана плывет Микола Петренко, извиваясь и скрипя, царапая лысые макушки валунов, торчащих из-под воды, стремительно одолел перекат, выпрямился стрелой и устало закачался на медленной волне плеса.
Вслед за ним устремился в бурлящий поток плот Василия Ивановича и. Венки. Оба они, всегда горячие в работе, беспрерывно орудуют «бабайками», лихо и ловко маневрируя между камней. И их плот вырвался из тисков переката, устало и довольно закачавшись на спокойной воде.
Под моими ногами бревна, как живые, заходили ходуном. Волны захлестнули весь кошмак. Зарип увлекся работой, что-то кричит мне, но междометия его тонут в бешеном грохоте воды. Я, признаться, и не заметил, как сама струя стремглав пронесла нас через грохот и шум переката. Бревна под ногами успокоились, плот выровнялся и тихо по течению заскользил вниз.
Вслед за нами, резко набирая скорость, летели в жерло скалистых берегов Мазит и Миннигуль. До Куная они не успели развернуть свой неказистый плотишко и сейчас, пока менялись местами, перебегали с кошмака на кошмак, упустили время, и передними комлями бревен плот их налетел на утес с неимоверным грохотом, развернулся вновь и другим концом ахнулся с силой о скалы противоположного берега. Плот тут же разорвало надвое. Неуправляемый, он то и дело стал стукаться о берега, о лысые камни, свирепо торчащие из воды. Бревна отваливались по одному и целыми кучами, подхваченные струей неслись с неимоверной скоростью вниз по течению, смешивались с государственным лесом, лежавшим в огромных лапах по берегам реки. На единственном кошмаке, еще не разбитом, неповоротливый Мазит еле-еле пристал к берегу ниже переката. А Миннигуль, соскользнув с качающихся бревен, схватила мешок с продуктами и кое-какой одежонкой, вплавь одолела быстрину.
Разорялся, исходил криком на переднем плоту Микола:
– Эх, раззявы, мать вашу так! Чего утворили!
Плоты медленно, неохотно один за другим стали причаливать вразброс вдоль берега – кто где смог. Все мы сознавали, что просидим здесь не день и не два, а поболее. Не сразу соберешь по бревнышку разбитый вдребезги плот, да и бревен-то всех не отыскать, их разметало по берегам, забило бурлящим потоком под лапы, унесло течение вниз – уже не поймать.
Испуганная Миннигуль, мокрая с ног до головы, сидела на пестром галечнике и плакала. Зарип подоспел к ней первым.
– Не ушиблась ли? – спросил он, задыхаясь от волнения.
Миннигуль всхлипывала, не могла произнести слова. Ниже переката с багром в руках ползал в воде Микола, вылавливая одинокие бревна, выброшенные перекатом в медленные воды большого плеса.
Весь день до позднего вечера отыскивали мы бревна, подтаскивали их к единственному уцелевшему кошмаку. Непредвиденная работа вымотала всех окончательно. При жидком свете луны наспех попили разогретый чай, уснули как убитые.
Я проснулся где-то заполночь. Тихо и мерно шумел лес. В верховье реки улавливался грозный гул переката. И над всем этим властвовала медлительная и грустная мелодия курая. Машинально протянув руку, я не нашел ею Зарипа. Значит, это он играет, не спит все, волнуется за этот несчастный разбитый плот.
Курай плакал надрывно и долго. Вдруг он замолк, и показалось, что все вокруг стихло: и лес, и перекат, и запоздалая полночная птица. Сколько длилась томительная тишина, не знаю, я, кажется, вновь засыпать стал, когда услышал чей-то невнятный красивый женский полушепот. Кто это мог говорить? Неужели Миннигуль? И почему же так изменился до неузнаваемости ее голос?
– Зарип, милый, – говорила она по-башкирски. – Я не люблю своего, он вечно таскается где-то, вечно дома его нет. Я тебя люблю, Зарип.
– Как же так, разве можно? У меня жена, два малая...
– А зачем же тогда живешь со мной, зачем ласкаешь так?
– Люблю тебя, ты молодая, сильная.
– А там, в лесу, ни разу не пришел ко мне в палатку, ни разу не приласкал.
– Сафа же рядом был. Больно глаз у малая острый. Это тебе не Мазит – брюхом тормозит, которому, кроме своего брюха, дела ни до чего нету. А Сафа смышленый, сразу понял бы все.
– Тогда ладно. А я испугалась. Думала, вдруг ты охладел ко мне, забыл свою Миннигуль.
– Как забыть тебя. Рад бы, да не могу. Может, время залечит все, не знаю. Запутался я что-то, первый раз в жизни запутался. Все ты виновата, – грустно и раздумчиво заключил Зарип.
– Ты же сам первый начал, – сказала Миннигуль.
– Наше дело мужичье. Это вам, бабам, отпор давать надо, чтоб не лезли кому не лень.
– А если люблю тебя, тогда что?
– И я ведь люблю, дурак. Может, все ж пройдет это?
– Дай-то бог! – грустно произнесла она.
Я слышу, как Зарип обнимает ее, нежно целует. И вновь оживают голоса птиц. Тихий беспечный ветерок колеблет листву, и вечным шорохом леса наполняется все окрест.
– Спой что-нибудь, Зарип, – просит Миннигуль. – Грустно больно, сердце болит.
– Спят ведь все, неловко тревожить, – отвечает Зарип.
– Курай не помешает, музыка помогает сну, – настаивает она.
Слышится шорох высохшей травы.
Вздрогнула тишина, прорезанная чистейшей мелодией. Над лесом, над горами, над притихшей рекой, тревожа спокойствие теплой летней ночи, разлился голос курая, и как он прекрасен, как чист этот голос! Какая же сила выплескивает из обычной лесной травы эти пленительные звуки, переворачивающие всю душу. В ней и тоска по чему-то светлому, вековая боль и извечная надежда на счастье.








