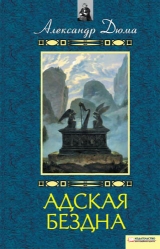
Текст книги "Адская бездна. Бог располагает"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 74 страниц)
В этой душе, глубокой и мрачной, радость никогда не задерживалась надолго: она вспыхивала и гасла, подобно молнии. Он еще не успел возвратиться к Юлиусу, а удовольствие, доставленное разговором с Фредерикой, согласие, вырванное у нее, и обещание, которого ему удалось добиться: что она будет принадлежать ему в богатстве, как и в бедности, – все это ощущение торжества уже угасло, уступив место угрюмой язвительности.
«Вот, стало быть, к чему я пришел благодаря всей своей ловкости, хитроумным комбинациям и утомительным трудам, – говорил он себе. – А пришел я к тому, что вынужден не иметь более иной опоры, кроме расчета на человеческие добродетели: я полагаюсь на слово Фредерики и благородство Юлиуса!
Все мои планы основаны на том, что Фредерика, пусть став богачкой и графиней, освободившись от всего, что удерживало ее в моей власти, вспомнит о клятве, которую она мне дала, когда жила в бедности и подчинении, что графиня вспомнит о незаконнорожденном, миллионерша – о бедняке! Все мое будущее, все мои расчеты, все величие и прочность моего положения покоются на этом зыбучем песке: на верности женщины.
Что до Юлиуса и его обещаний обращаться с Фредерикой как с дочерью и никак иначе, то я все устрою так, что у него не будет времени поддаться слабости. Он сам этого захотел, тем хуже для него! Я не мог принять иное решение. Отцы умирают прежде своих детей. Это закон природы. Он умрет раньше Фредерики, умрет в день своей свадьбы. Так тому и быть.
Все к лучшему. После кончины Юлиуса я увезу Фредерику в Менильмонтан. Я ее опекун. Самое меньшее, что сможет сделать Юлиус, – это назначить меня своим душеприказчиком. Я буду держать Фредерику вдали от Лотарио.
А политические события в это время будут идти своим чередом. Министерство Полиньяка – вот вызов, на который Франция ответит революцией. Вероятнее всего, что возмущение великого народа вырвется из-под власти тех, кто воображает, будто сможет им руководить. Революция будет развиваться помимо их воли и накроет их своим бурлящим потоком. Я стану могущественным, богатым, стану тем, кем хочу быть: я обуздаю этот хаос, и следствием этого будет разрушение старого мира и рождение нового. Я удержу Фредерику подле себя властью изумления и восхищения. Что будет значить желторотый Лотарио рядом с Наполеоном от народовластия!
Будущее принадлежит мне. Все будут любить меня, любить и благословлять.
И первым из них будет Юлиус собственной персоной. Хе-хе, а ведь верно! Пусть благодарит меня, что умрет в полнейшем блаженстве, это он-то, прозябавший в апатии и пресыщенности!..
Однако поспешим завершить наш замысел, а то как бы Лотарио не вернулся слишком рано и не начал вставлять нам палки в колеса».
И он вошел в спальню Юлиуса.
XXVIII
ПРОВИДЕНИЕ ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО
В один из сентябрьских вечеров 1829 года, когда солнце только что скрылось за холмами, окружавшими Эбербахский замок, у решетки ворот остановился экипаж.
Привратник, вышедший на зов возницы, едва увидев, кто сидит в карете, торопливо бросился открывать. Экипаж въехал во двор и приблизился к самому крыльцу.
Из экипажа вышел Лотарио.
Племянник графа фон Эбербаха ехал из Вены и завернул сюда по дороге в Париж.
Слуги сбежались с какой-то неприятной поспешностью.
– А что, господин Лотарио изволили приехать на несколько дней? – спросил самый нахальный из этой толпы.
– Возможно, – отвечал Лотарио, погруженный в свои мысли.
На физиономиях лакеев появилось кислое выражение. Постоянно находясь в замке одни, они привыкли смотреть на него как на свою собственность, и Лотарио, появившись здесь, произвел на них впечатление чужака, вторгшегося в их владения.
Экипаж откатили в каретный сарай, и Лотарио вошел в замок.
– Стало быть, если господину угодно лечь, – осведомился тот же лакей, что уже говорил с ним раньше, – надо бы, что ли, постель приготовить?
– По-видимому, так, – сказал Лотарио.
– Господин ужинать будет? – снова спросил лакей.
– Нет, я не голоден, поужинал в дороге.
Слуга удалился, удовлетворенный этой уступкой.
Пять минут спустя он возвратился, чтобы сообщить Лотарио, что его комната готова. Слуги торопились как могли, желая поскорее избавиться от этого непрошеного гостя, имевшего дерзость заявиться к ним.
Лотарио был не в том настроении, чтобы заметить, какой прием ему здесь оказали. Его ум занимали иные предметы, нежели расположение к нему лакеев.
Он лег в надежде уснуть, забыться. Но то ли дорожная тряска слишком взбудоражила ему кровь, то ли забота, что он носил в сердце, не хотела дать ему и часа передышки, а только он не смог сомкнуть глаз. Вся ночь прошла в тоскливом и утомительном беспокойстве, изматывающем в тысячу раз больше, чем бодрствование. Однако ближе к рассвету физическая усталость превозмогла возбуждение, и он забылся тем тяжелым сном, какой обыкновенно следует за ночью, отданной нервическому бдению.
Когда он открыл глаза, солнце уже давно сияло на небе. Он звонком вызвал лакея, оделся и вышел из комнаты.
Прежде чем сойти вниз, он заглянул в маленькую гостиную, которую некогда занимала Христиана.
У него была привычка каждый раз, когда он посещал этот замок, всякий день заходить сюда, чтобы преклонить колена и помолиться в этом дорогом его сердцу месте, все еще полном воспоминаний о той, что заменила ему мать.
Он толкнул дверь и вошел.
Внезапно у него вырвался крик.
В гостиной висел портрет его матери. Христиана всегда благоговейно хранила память об усопшей сестре. Сколько раз когда-то, в доме пастора в Ландеке, когда Лотарио был совсем ребенком, Христиана подводила его к этому портрету, чтобы он знал лицо своей матери, чтобы бедная умершая жила хотя бы в сердце своего сына.
Так вот, на этом материнском портрете он, потрясенный, узнал черты Фредерики.
Тот же чистый, до прозрачности ясный взгляд, те же светлые волосы. Мать Лотарио была изображена здесь в том же возрасте, в каком была сейчас Фредерика. Лотарио стоял, не в силах оторвать взгляд от полотна, сочетавшего в себе все то, что внушало глубочайшую нежность его сердцу. Сыновняя почтительность и страстная любовь…
Фредерика похожа на его мать! Так вот отчего, увидев ее впервые, он вообразил, будто уже встречал ее когда-то, уже любил! Вот почему он сразу почувствовал, что его влечет к ней такая внезапная и неодолимая симпатия.
Но откуда могло взяться такое поразительное сходство? И тут ему вспомнилось, что говорила им, ему и Фредерике, та загадочная женщина, которая провела его в маленький дом в Менильмонтане: они друг другу не чужие, так она сказала, и еще – что у него есть право заботиться о Фредерике, беречь ее и защищать. То были странные слова, однако ныне это удивительное сходство подтверждало их. Стало быть, между ним и Фредерикой и в самом деле есть какое-то родство! Они, выходит, из одного рода! Увы, зачем все это, если враждебная судьба навеки разлучила их? Для чего эти узы крови, если жизнь уже разорвала их?
Он провел перед портретом целый день.
Вечером он отнес его в свою комнату и повесил над изножьем своей кровати. Ему хотелось уснуть, глядя на него; он находил печальное очарование в том, чтобы иметь перед глазами сразу свое прошлое и будущее, заключенные в одну узкую рамку. Что было печальнее? Прошлое без жизни или будущее без любви?
На следующий день он решил, что пора ехать. С утра он занялся приведением в порядок счетов и трат слуг, отдал распоряжения насчет всего, что требовало починки, – в общем, принял меры на весь будущий год. Он завтракал, когда вошел один из слуг, с виду чем-то смущенный.
– Сударь, – пробормотал он и осекся, не решаясь продолжать.
– Ну, в чем там дело, Ганс? – спросил Лотарио.
– Да вот… – залепетал Ганс.
– Что же, наконец?
– То, что там… дама.
– Какая дама?
– Пусть господин не изволит гневаться, – продолжал Ганс, несколько придя в себя. – Это очень богатая дама, прекрасная собою, и она восхищается нашим замком. Ну, вот. Она не затем сюда приходит, чтобы портить что-нибудь: она скорее на колени встанет перед каким-нибудь каменным истуканом, чем будет его трогать.
– Короче, что нужно этой даме? – нетерпеливо перебил Лотарио.
– Я почему все это говорю? – продолжал Ганс. – Потому как господин велел нам в свое отсутствие никого в замок не допускать. Да мы ж и понимаем, в чем тут забота господина. Похоже, тут когда-то творились дела не слишком веселые, от них повсюду остались всякие семейные предания, вот господин и не желает, чтобы здесь слонялся разный прохожий люд. Но эту даму мы сюда пропустили совсем не из-за денег, которые она нам дала. Надобно признать, она не поскупилась и дала бы еще в двадцать раз больше, лишь бы ей позволили войти. Но мы все равно не из-за этого уступили. А суть в том, что эта дама артистка, ей для ее дела нужно видеть всякую красивую мебель. Ну вот, она, стало быть, весной приезжала и тогда же еще сказала, что вернется сюда.
– Так эта дама просит позволения посетить замок?
– Повторно посетить, потому как, право слово, она в прошлый раз пре-основательно его посетила. Поскольку вы, на беду, оказались здесь, мы не можем взять на себя смелость сами дать ей такое разрешение. Вот она мне и поручила пойти да попросить вас – она умоляет ей не отказывать.
– Хорошо, – вздохнул Лотарио. – Ступай и приведи сюда эту даму.
Через минуту Ганс вернулся в сопровождении женщины, одетой в черное.
Посетительница дала слуге знак удалиться. Потом она отбросила с лица вуаль.
Это была Олимпия.
– Вы, сударыня? Вы здесь? – вскричал Лотарио, вначале растерявшийся от изумления.
Потом он улыбнулся: ему пришла в голову одна мысль.
– Вы, вероятно, ожидали встретить здесь не меня, а кого-то другого? – осведомился он, предполагая, что она приехала ради Юлиуса.
– Я не ожидала встретить здесь никого, – отвечала Олимпия. – Но узнав, что вы здесь, решила, что у меня нет причин вас избегать.
– Что ж, – сказал Лотарио, – если во владения графа фон Эбербаха вас привел один лишь интерес к искусству, позвольте мне поздравить самого себя со счастливым случаем, дающим мне возможность самолично со всем почтением представить вам здешнюю архитектуру и убранство.

– Я уже видела этот замок, – сказала певица, – но была бы счастлива еще раз осмотреть его вместе с вами.
Казалось, Олимпия делает над собой усилия, стараясь справиться с каким-то безотчетным волнением.
– Сударыня, я в полном вашем распоряжении, – сказал Лотарио.
И он стал водить ее из залы в залу.
При виде каждого предмета, что показывал ей Лотарио, каждой комнаты, двери которой он перед ней открывал, при каждом шаге в стенах этого дома, некогда заключавших в себе радость и любовь, ныне же – лишь скорбь и пустоту, волнение Олимпии, казалось, все более возрастало. Ее взор и чело потемнели, омраченные горькой печалью.
Лотарио объяснял себе подобную чувствительность мыслями о его дяде, воспоминания о котором этот замок естественным образом навевал Олимпии. Но чтобы так растрогаться при одном виде дома и племянника графа фон Эбербаха, она должна была в глубине сердца питать к нему истинную любовь. Тогда почему же она его покинула?
Через некоторое время, когда между ними установилась некоторая короткость, он заговорил со своей гостьей об этом, обратившись к ней с жаркими упреками.
– Мне бы следовало сердиться на вас, – начал он.
– За что? – спросила певица.
– Вы очень огорчили моего дядю. Оставили его так внезапно, нимало не побеспокоившись о том, что с ним станет.
– О, вы правы, – отвечала она, – я и в самом деле не испытывала на этот счет никакого беспокойства. Я точно знала, что он недолго будет оплакивать разлуку со мной и мое отсутствие не заставит его страдать.
– Однако же заставило: это стало одной из причин его недуга.
– Его недуга?! – вскричала певица.
– В тот же день, когда вы уехали, его уложил в постель апоплексический удар, и он не поднялся еще по сей день.
– Возможно ли? – побледнела Олимпия. – И это произошло из-за меня! О, прошу вас, скажите мне, что я здесь ни при чем.
– Как бы то ни было, а слег он именно в день вашего отъезда.
– Но почему никто мне об этом не написал? – спросила она. – Если бы я знала! Но вы-то сами, если ваш дядя серьезно болен, почему вы не рядом с ним? Как случилось, что вы здесь, в Эбербахе?
– Я не покидал его, – возразил Лотарио, – пока его жизнь была в опасности. А потом… у меня были важные причины, чтобы уехать из Парижа.
– Какие именно?
– Эти причины не могут быть вам интересны.
– Откуда вы знаете? – сказала она. – Ваши печали и радости трогают меня больше, чем вы думаете. Вас гнетет печаль, я читаю это на вашем лице. Если это не тайна, угрожающая чьей-нибудь чести, откройтесь мне. Вы меня не знаете, но зато я знаю вас. И может статься, могу сделать для вас больше, чем вы предполагаете.
– О сударыня! – воскликнул Лотарио. – Вам нет нужды говорить мне все это. Я и без того чувствую, что душа моя тянется к вам. Когда мы с вами встретились впервые и вы заговорили со мной, при одном звуке вашего голоса в моем сердце отозвались все струны расположения к вам.
– Отлично! Так отчего же вы страдаете, вы, такой молодой, богатый, вы, которому обеспечены все прелести и весь блеск светской жизни? Чего вам не хватает? Ну же, говорите!
– Мне не хватает того, без чего все прочее не имеет никакой цены. Я люблю женщину, но она меня не любит.
– Увы! – прошептала Олимпия.
– Вот что со мной, – продолжал Лотарио. – Нет ничего проще, обычнее. Однажды я мельком увидел девушку, показавшуюся мне очаровательной. Я ее подстерег, последовал за ней, она заполнила все мое сердце, все помыслы, я думал о ней целыми днями и ночи напролет видел ее в снах. А потом, когда я захотел протянуть руки к моей мечте, поймать сияющее видение, озарявшее для меня мое грядущее, все погибло. Теперь для меня в жизни не осталось ничего. Когда мои глаза встречали ее взгляд, я надеялся увидеть в нем хоть искру сочувствия, думал, что движения моей души найдут в ней отклик, что биение моего сердца эхом отзовется в ее груди. Самообман, бред, безумие! Она принадлежит другому. Она обещала стать его женой! Тогда я понял, что это сильнее меня. Оставаться подле нее, видеть ее каждый день, когда надежды больше не осталось, растравлять свое отчаяние, без конца изображая дружескую и братскую непринужденность – я не мог больше выносить эту пытку. Из Парижа в Вену, из Вены в Берлин, из Берлина сюда я бежал, спасаясь от этой любви, но она следовала за мной повсюду. Я не могу оставаться на одном месте. Вы были правы, я повинен в неблагодарности к графу фон Эбербаху. Он был так добр ко мне, так отечески нежен, а я бросил его на попечение посторонних. Но, видите ли, я бы там умер или натворил глупостей. Лучше было уехать. Я дождался, когда у врачей не осталось серьезных опасений, и сбежал. Через два-три дня дядя узнает все, и я уверен, что он меня простит. Я написал ему из Берлина в день моего отъезда. Он узнает, почему я оставил Париж. Он поймет, что я не мог поступить иначе. Я все ему рассказал. Он убедится, что не равнодушие или неблагодарность заставили меня уехать. Теперь, когда я ему открылся, мне стало немного легче, и я попробую снова поселиться вместе с ним. Надеюсь, что он будет в особняке один и я больше не встречу там той, от которой бежал.
– Бедное дитя! – сказала Олимпия. – Мы еще поговорим, когда вернемся в Париж. Может быть, найдется средство, чтобы все уладить.
В эту минуту они находились в маленькой гостиной Христианы.
Олимпии хотелось переменить разговор, чтобы отвлечь Лотарио от грустных мыслей.
– Смотрите-ка! – заметила она, показывая на место, откуда Лотарио снял портрет своей матери. – Мне помнится, здесь висел портрет?
– Да, – сказал Лотарио. – Я его убрал.
– Портрет женщины, не так ли? Он мне запомнился, – продолжала она. – И где же он теперь?
– В моей комнате, – отвечал Лотарио. – О, дело тут не в живописи, в смысле искусства он не имеет никакой ценности. Но это портрет моей матери и, как мне говорили, сходство поразительное. А теперь, да простит меня моя покойная мать, я дорожу им не только в память о ней. Этот портрет, сударыня, похож не только на мою мать. Есть странная связь между той, что когда-то так любила меня, и той, которую я так люблю теперь.
– В самом деле? – протянула Олимпия с удивлением.
В это мгновение в дверь постучали.
– Кто там? – спросил Лотарио.
– Это я, – послышался голос Ганса.
– Чего вы хотите?
– Тут письмо.
– Войдите.
Ганс появился на пороге.
– Он там говорит, что письмо это не застало вас в Берлине и потому его отправили вслед за вами сюда, – объяснил лакей.
– Дай сюда.
Ганс передал ему письмо и вышел.
– Письмо от дяди, – сказал Лотарио, пробежав глазами адрес. – И очень срочное. Вы позволите, сударыня? – он повернулся к Олимпии.
– А как же! Читайте скорее!
Лотарио сломал печать и стал читать.
XXIX
РАЗЪЯТАЯ ЛЮБОВЬ
Едва лишь бросив взгляд на письмо, Лотарио страшно побледнел. И все же он продолжал быстро пробегать взглядом роковые строки.
Но когда он дошел до конца, ему пришлось сесть, так как ноги не держали его, и он застыл, сжимая голову руками.
– Что еще стряслось?! – вскричала Олимпия.
– Вы можете прочесть, – сказал Лотарио.
И он протянул ей письмо.
Олимпия стала читать:
«Любезный мой племянник или, вернее, мой милый сын!
Так значит, ты не хочешь вернуться? Как ты можешь расстаться со мной на три месяца, когда мне и жить, видимо, осталось куда меньше? Но я нашел средство ускорить твой приезд. Ты будешь смеяться, Лотарио, но твой смех не может быть печальнее моего. Я женюсь. Как ты понимаешь, это лишь способ уладить дела с завещанием. Так поспеши же, ведь в моем состоянии я не могу ждать, и если не поторопишься, ты рискуешь опоздать.
Твое возвращение тем необходимее, что та, на которой я женюсь через несколько дней, – это особа, на которую ты, насколько я мог догадаться, немножко сердит, уж не знаю, из-за какого недоразумения. Приезжай же скорее, ведь если ты не приедешь, я буду думать, что ты не простил ни меня, ни Фредерику.
Твой дядя, ставший тебе отцом, Юлиус фон Эбербах.
Париж, 20 августа 1829 года».
Олимпия, тоже ошеломленная, выронила лист бумаги из рук.
– Уже две недели прошли с тех пор как отправлено это письмо, – проговорила она так же мрачно, как Лотарио. – А граф фон Эбербах говорит, что женится через несколько дней.
– Мое письмо разминулось с его посланием! – горестно вскричал Лотарио.
– Значит, – спросила Олимпия, – та, кого вы любите, и есть эта самая Фредерика?
– Да, сударыня.
– Не правда ли, это та самая девушка, о которой говорили у лорда Драммонда? Воспитанница господина Самуила Гельба?
– Она самая, сударыня.
– Здесь должен быть замешан Самуил! – вскричала Олимпия.
И с внезапной решимостью она заявила:
– Не отчаивайтесь, Лотарио. Мы сейчас же отправляемся в Париж. Возможно, мы еще успеем. Впрочем, вы же писали графу фон Эбербаху о своем отъезде из Берлина, теперь он уже получил ваше письмо. Значит, не стоит беспокоиться. Ваш дядя любит вас. Доверьтесь мне. Если время еще есть – а Господь не допустит иного, – я обещаю вам все уладить.
– Да услышит вас Бог, сударыня.
– В Ландеке меня ожидает наемный экипаж. Сейчас мы отыщем моего брата, и в путь. Ну же, не медлите!
Лотарио только и захватил с собой, что шляпу и плащ, дал мимоходом несколько распоряжений слугам, удивленным и весьма обрадованным его столь поспешным отъездом, и они с Олимпией вышли, а вернее сказать, выбежали на дорогу, ведущую в Ландек.
Меньше чем за четверть часа они добрались до гостиницы.
Ее хозяин стоял на пороге.
– Я уезжаю, – объявила Олимпия. – Лошадей, живо! А где мой брат?
– Ваш брат ушел, сударыня, – отвечал хозяин гостиницы, удрученный внезапным отъездом постояльцев, которые по его расчетам должны были задержаться здесь подольше.
– Ох, как некстати! Он не говорил, куда направляется?
– Он вообще ничего не сказал, разложил вещи в комнате и сразу пустился со всех ног в сторону Эбербахского замка.
– В сторону замка? – повторила Олимпия. – А мы как раз оттуда! Пять фридрихсдоров тому, кто мне его отыщет раньше, чем за полчаса.
– Пять фридрихсдоров! – ахнул хозяин гостиницы, ослепленный подобной щедростью.
Он позвал не то троих, не то четверых детишек, игравших у порога:
– Эй, вы! Вы же торчали здесь, когда госпожа сюда приехала. Брата ее приметили?
– Красивый такой господин в зеленом жилете? – спросил один из мальчишек.
– И в красном галстуке! – подхватил другой.
– Верно.
– О, так я его точно видел! – вмешался третий. – В этом своем красном и зеленом он был ярче, чем попугай.
– Значит, вы бы его узнали, если он встретится вам?
– Еще бы!
– Что ж! Пару флоринов тому, кто его сюда приведет раньше, чем через полчаса.
Он не успел договорить, а они уже кинулись на поиски.
– Погодите, – удержала их Олимпия. – Здесь где-то должна быть одна женщина, которая пасет коз; ее зовут…
– Гретхен!
– Да, да, именно Гретхен. Моего брата вы найдете близ ее коз. Скажите ему, чтобы сейчас же шел сюда.
Трое мальчишек умчались галопом, и два обещанных флорина звенели у них в ушах громче, чем все колокольчики всех мулов Испании.
– Когда мой брат появится, – сказала Олимпия хозяину гостиницы, – пусть экипаж и лошади будут готовы. Дайте мне счет, я его оплачу, чтобы потом нам осталось лишь уехать без промедления.
Олимпия не ошиблась насчет того, где следовало искать Гамбу. Для него во всем Ландеке существовала лишь одна персона, и то была Гретхен.
Едва выгрузившись, он помчался на поиски той, что проникла в его сердце.
Хозяин гостиницы излишне польстил ему, сказав, будто он сначала разложил в комнате пожитки. Между тем он все бросил как попало, вперемешку свои узлы и саквояжи Олимпии, полагая, что вечером еще будет время привести это все в порядок, а на ближайшие четверть часа у него найдутся дела поважнее.
Итак, Гамба пустился во весь дух, и не успела Олимпия повернуться к нему спиной, как он уже скрылся в горах.
Он искал Гретхен там, где впервые встретил ее когда-то. Но ее там уже не было. Трава на этом склоне холма, которую козы выщипывали всю весну, теперь была для них недостаточно сочной и густой, и Гретхен угнала их в другое место.
Таким образом, Гамба потерял целый час, прыгая со скалы на скалу, забираясь на вершины, спускаясь и снова устремляясь наверх.
Внезапно, карабкаясь на остроконечную скалу, чтобы сократить путь, пренебрегая* петляющей тропинкой, в ту минуту, когда он уцепился рукой за каменный выступ и собирался подтянуться, он нос к носу столкнулся с козой.
– А вот и ты! – вскричал он с бурным восторгом. – Это ведь ты, да, Серая?
Он узнал одну из коз Гретхен.
Он вспрыгнул на скалу, обхватил голову козы и расцеловал ее с братской нежностью.
– Где твоя хозяйка? – спросил он.
У козы не было надобности отвечать. Подняв голову, Гамба заметил Гретхен.
– Ах! Наконец-то! – сказал он.
И одним прыжком Гамба преодолел расстояние, разделявшее их.
Гретхен протянула ему руку, которую он сначала пожал, а потом покрыл сочными поцелуями.
– Вы меня узнали? – ликуя, спросил он.
– Конечно, мой друг, – отвечала она.
– А я, я узнал вашу козу. Но как же я рад! Эх, и пришлось же мне вас поискать, черт возьми! Вы же теперь бросили прежнее место. Еще бы! Ведь три месяца прошло. Я так и двух минут не могу усидеть на одном месте.
И словно затем, чтобы делом доказать справедливость этих слов, он принялся скакать и прыгать, перебегать от Гретхен к стаду, от одной козы к другой, смеющийся, счастливый, стремительный.
Гретхен и сама была счастлива, когда его увидала. Но ее радость была сдержанной и суровой, как природа этих гор, среди которых она жила всю свою жизнь.
– Знаете что, Гретхен? – сказал Гамба. – Я безмерно соскучился там без вас. А вы, что вы без меня поделывали? Вы обещали вспоминать обо мне, так хоть слово-то свое сдержали?
– Да, – сказала Гретхен. – Как же мне не думать о вас? Вы теперь единственный мой друг в целом свете.
– Ладно, это ничего! – откликнулся он. – Вам и не нужно других, раз я вас люблю за целую сотню. А я люблю вас именно так, вы уж это поймите. Своей сестрице я сказал: «Или едем в Ландек, или до свидания». Пока ее сезон – это называется сезон, – так вот, пока он продолжался, я не мог слишком наседать, ведь все это прямо создано для нее – искусство там, и maestro[25]25
Дирижер (ит.).
[Закрыть], и директор, и опера, ей аплодируют, требуют, чтобы она еще пела, и все такое прочее. Ах, черт побери, ей-таки здорово рукоплескали, право слово! Париж… подумаешь, велика штука Париж! Хотел бы я посмотреть на этих парижских певичек, если бы ей позволили петь рядом с ними. Ни одна из них не промяукала бы и одной ноты. Э, да кому нужны их кошачьи концерты? Но как только ангажемент кончился, само собой, как вы понимаете, я послал всю эту музыку куда подальше. И прямо так и объявил сестрице: «Тебе аплодируют, ты свое получаешь, но и мне надо свои радости иметь. Ландек чудесное местечко, и оно становится еще лучше оттого, что там живет женщина, которую я люблю». Потому что, Гретхен, я своей сестрице так без обиняков и выложил, что люблю вас, и она была этим довольна и весьма меня одобрила. К тому же я ей очень ловко ввернул, что горный воздух хорош для горла, голос помогает сберечь. Я ей клялся, что осень, проведенная здесь, принесет ей большую пользу.
– И что же она ответила? – спросила Гретхен.
– Она сказала: «Я охотно поеду туда и сама собиралась тебе это предложить». Не сестра, видите ли, а ангельское создание.
– Значит, вы поселитесь в Ландеке?
– На месяц. Вы довольны? Ах! Не радуйтесь, если не хотите, но я уж буду радоваться за двоих. Тра-ля-ля, траля-ля! Вот я и с вами! На целый месяц!
И Гамба, напевая, пустился в пляс.
– Это еще не все, – снова заговорил он чуть позже. – После этого месяца мы вернемся в Париж, что правда, то правда: у моей сестры там какое-то дело. Но я потом вернусь сюда, и если вы только захотите, насовсем. Вы, может, позабыли, Гретхен, как я вам сказал, уезжая, что у меня, когда я вернусь, будет к вам одна просьба. Так вот, я теперь чистосердечно признаюсь вам, что…
– Эй! Сударь!
Услышав этот крик, Гамба обернулся и увидел маленького мальчика, который мчался к нему, запыхавшись и издали делая ему какие-то знаки.
То был один из юных соискателей двух флоринов.
– Ну вот! Что там еще? – буркнул Гамба, явно раздосадованный.
– Да там, сударь, – сказал малыш, – там сестра ваша, она хочет, чтобы вы сейчас же возвратились, сейчас же…
– Чего ради?
– Потому как я получу два флорина, если вы вернетесь в гостиницу раньше, чем через четверть часа.
– Да мне-то что за дело до твоих двух флоринов! – отвечал Гамба, весьма раздраженный тем, что его потревожили в самом начале такого важного и деликатного объяснения.
– Ваша сестра срочно уезжает в Париж, – продолжал посланец.
– В Париж! – простонал Гамба, сраженный в самое сердце.
– Да; уже и лошадей в карету впрягают. У вашей сестры вид очень обеспокоенный и торопливый, и она сказала: «Вот несчастье!», когда узнала, что вас там нет.
Гамба прислонился к козе.
– Ах, так! Вот, значит, и вся наша осень в Ландеке!.. Черт возьми, тем хуже! Пусть Олимпия отправляется куда хочет, а я остаюсь.
Но Гретхен, помолчав, строго сказала:
– Нет, Гамба, вы не должны позволить вашей сестре уехать одной. Вы сами в прошлый раз говорили мне об этом и были правы. Наверное, у нее появилась очень серьезная причина, чтобы пуститься в путь раньше, чем она собиралась. Поезжайте с ней, Гамба; сюда вы еще вернетесь.
– Да, но когда теперь? – вскричал Гамба. – Всегда знаешь, когда отправляешься, но кому известно, скоро ли доведется вернуться? Что если эти злосчастные дела, в которые впуталась Олимпия, продержат нас в Париже всю зиму?
– Пусть так! – отвечала Гретхен. – Я ведь каждый год езжу туда весной. Там мы и встретимся.
– Это точно? Вы приедете? – спросил Гамба, страшно удрученный.
– Непременно приеду.
– Но как я узнаю о вашем приезде?
– Я вам напишу.
– Эх! Да разве мне известно хотя бы, где мы поселимся? Вы тогда пишите: «Гамбе, до востребования». Я каждый день буду бегать на почту. Это меня развлечет и немножко утешит.
– Договорились. До свидания, Гамба.
– Увы! Как же быстро вы с этим примирились, а я… До свидания, Гретхен. До свидания, может статься, в Париже. Хотя мне все равно больше нравится видеть вас здесь, на вольном воздухе, чем в этих ужасных городах, под потолками, что давят все живое. Кто мне поручится, что в городе вы еще пожелаете меня хоть немного любить? Я привык к вам здешней, а какой вы станете там, откуда мне знать?
– Для вас я всюду останусь прежней, мой друг, мой кузен, мой брат. Но теперь прощайте. Вас ждут.
Мальчик и в самом деле дергал Гамбу за полу.
– Сударь! – неотступно просил он голосом, в котором раздражение смешивалось с мольбой. – Мой добрый господин, я же потеряю из-за вас мои два флорина!
– Так прощайте же, Гретхен, – жалобно вздохнул Гамба.
Ему хотелось напомнить Гретхен, что в прошлый раз она поцеловала его на прощание, но присутствие мальчика помешало робкому Гамбе решиться на это.
– Прощайте, – повторил он.
Гретхен протянула ему руку. Он поневоле удовлетворился крепким пожатием, вложив в него всю свою нежность и печаль.
Потом, поминутно оглядываясь, он направился по дороге в сторону Ландека, предводительствуемый мальчишкой, который беспрестанно торопил его.
Когда они прибыли на место, кони уже были впряжены в карету. Великодушный хозяин выдал пять флоринов малышу, который нашел Гамбу, еще четыре флорина двум другим, а четыре фридрихсдора оставил себе.
Олимпия и Лотарио сели в экипаж.
Там нашлось бы место и для Гамбы, но он хотел во что бы то ни стало устроиться рядом с кучером. Ему был необходим свежий воздух. Его душила печаль.
И тем не менее из этих двух мужчин, один из которых только что расстался с возлюбленной, а другой скоро должен был увидеть свою, самым несчастным был совсем не тот, на чью долю выпала разлука.








