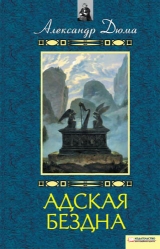
Текст книги "Адская бездна. Бог располагает"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 74 страниц)
XLII
ПРОКЛЯТИЕ И ИСХОД
В полночь двери гостиниц, где жили студенты, по некоей таинственной причине вдруг стали открываться одна за другой. Оттуда выскальзывали темные фигуры – по двое, по трое, в одиночку… По большей части студенты отправлялись в путь пешком, некоторые верхом, а кое-кто и в экипажах. И все скопище их, разрастаясь с каждой минутой, под покровом ночи двинулось к площади перед зданием Университета.
Если на их пути попадался уличный фонарь, они осторожно, без шума снимали его со столба.
На Университетской площади люди уже стояли тесно, плечом к плечу, а толпа все продолжала прибывать. Черные силуэты, из которых она состояла, подходили друг к другу, обменивались рукопожатиями, перешептывались. Одна из самых подвижных и болтливых теней принадлежала Трихтеру. Во рту у нашего старого знакомца торчала огромная трубка, а на его руке повисла молоденькая стройная девица.
О женщины, неужели в самом деле имя вам – вероломство? Да, ибо эта девушка была Лолотта, прежняя подружка Франца Риттера. Победоносный Трихтер не только отнял у Дормагена его л и с а, но и Риттера лишил возлюбленной. Воспользовавшись размолвкой между этим ревнивцем и его своенравной кокеткой, он в один прекрасный день сумел вытеснить былого дружка из ее сердца.
В два часа ночи Трихтер, приблизившись к кучке студентов, стоявшей чуть особняком, лаконично распорядился:
– Факелы!
Мгновенно вспыхнуло десятка два факелов.
Схватив один из них, Трихтер бешено замахал им у себя над головой, требуя тишины и внимания. Затем, повернувшись лицом к центру города, он суровым голосом торжественно провозгласил слова проклятия, воистину достойные стать в ряд с лучшими перлами античной поэзии:
– О город, будь проклят! Проклят! Проклят!
Ибо твои портные более не ценят высокой чести, что оказывают им студенты, позволяя их изделиям подчеркивать изящные формы студенческих тел!
Ибо твоим башмачникам уже мало того, что их сапоги приятно обрисовывают наши мускулистые щиколотки!
Ибо твои колбасники возмечтали об иной доле для своих свиней, удостоенных того, чтобы питать своими жизненными соками наши жилы, претворяясь в ту благородную кровь, чье кипение рождает в умах столь возвышенные мысли!
Ибо, вместо того чтобы платить нам за это, они вообразили, будто мы же еще им что-то должны!
Что ж, да будет так: пусть их платья, их башмаки, их мясо остаются при них! Пусть алчность приведет их к разорению!
Их сукна да послужат саваном их благосостоянию! Да истреплют они до дыр сшитые для нас башмаки, тщетно пытаясь сбыть свои товары, пусть даже их женам придется натянуть на себя сапоги! И пускай их колбасы, протухнув, принесут чумную заразу в их собственные дома!
Восплачьте же, бюргеры, обыватели, торговцы всех мастей! Отныне не будет вам ни дохода, ни веселья. Горе вам: больше вы уж не увидите, как мы проходим мимо ваших лавок, беззаботные, в разноцветных одеждах, бодро распевающие «Виваллера»! По ночам вы уж не будете вскакивать, разбуженные грохотом булыжников, которые мы, забавляясь, бывало, швыряли к вам в окна! Мы не станем больше целовать ваших дочек! Плачьте же, бюргеры!
Особенно рыдайте вы, неблагодарные трактирщики! Всю надежду ваших кошельков мы уносим ныне на подошвах своих сапог! Вы сдохнете с голода: мы больше не будем раскупать ваши съестные припасы! Вы иссохнете от жажды: мы не станем больше пить ваши вина!
С этими словами Трихтер стремительным движением опустил свой факел и затушил его, ткнув в мостовую:
– Да погаснет жизнь Гейдельберга, как я гашу этот факел!
И остальные девятнадцать факелоносцев, повторив его жест, провозгласили:
– Да погаснет жизнь Гейдельберга, как мы гасим этот факел!
Наступил мрак.
Погашение факелов было сигналом к выступлению.
Толпа двинулась в путь, и скоро людской поток уже выплеснулся на дорогу, ведущую к Неккарштейнаху.
Само солнце, казалось, пришло в недоумение, когда его первые утренние лучи озарили это диковинное воинство. Там все было смешано самым причудливым образом, все клубилось и мелькало: мужчины, собаки, рапиры, трубки, топоры, женщины, лошади и кареты. Бледные, помятые физиономии, сонно мигающие глаза, растерзанная одежда студентов – все говорило об усталости. И каждый тащил с собой то, что было всего милее его сердцу или нужнее его телу: дорожные фляги с водкой, узелки с бельем – что угодно, но не книги. Все это напоминало то ли беженцев, спасающихся от вражеского наступления, то ли переселенцев.
В каком бы глубоком секрете ни готовилось бегство, оно не могло укрыться от гостиничной прислуги и нескольких ранних пташек из торгового сословия. Поэтому в хвосте процессии уже пристроилась вереница тачек и ручных тележек, груженных хлебом, мясом, всевозможными спиртными напитками и съестными припасами. Трихтер, шагавший впереди всех, обернулся и, заметив знакомого содержателя питейного заведения, про себе удовлетворенно хмыкнул, вслух же обронил как можно небрежнее:
– А, вот и маркитанты!
Однако не прошло и минуты, как он, под каким-то пред-,* 195 логом оставив иноходца, на которого взгромоздил Лолотту, пропустил вперед себя весь караван, двинулся навстречу трактирщику, приказал налить большой стакан можжевеловой настойки и, только осушив его, снова присоединился к своей подружке.
В Неккарштейнахе было решено остановиться и передохнуть. В дороге животы студиозусов изрядно подвело, и провизии, привезенной из Гейдельберга, до которой они в силу настоятельной необходимости согласились в последний раз снизойти, едва хватило, чтобы слегка утолить голод. Неккарштейнахским трактирщикам пришлось расстаться со всеми своими припасами вплоть до последнего цыпленка и последней бутылки вина.
Подкрепившись таким образом, студенты продолжали путь.
Часа через четыре они подошли к перекрестку.
– Ах ты дьявольщина! – воскликнул Трихтер. – Дорожка-то раздваивается. Куда теперь прикажете идти: направо или налево? Я в сомнении, словно Буриданов осел меж двумя торбами овса.
В эту самую минуту вдали послышался топот копыт. Облачко пыли, стремительно приближаясь, двигалось над той дорогой, что поворачивала влево. Мгновение спустя кое-кому уже удалось разглядеть всадника: то был Самуил.
– Виват! – завопило сборище.
– Куда теперь? – спросил Трихтер.
– Следуйте за мной, – ответил Самуил.
XLIII
СЕКРЕТЫ НОЧИ И ТАЙНЫ ДУШИ
Чем же был занят Самуил со вчерашнего дня, с тех самых пор как он покинул Гейдельберг?
Накануне вечером он прискакал в Ландек часам к семи, то есть меньше чем через сутки после того, как он уехал оттуда.
Он еще успел пробраться в хижину Гретхен.
Вышел же он оттуда не более чем минут за пять до того, как пастушка пригнала своих коз домой. Она сделала это раньше обычного, не ожидая наступления ночи. С самого утра она ощущала необъяснимое недомогание, лишившее ее сна и аппетита. Весь день ее лихорадило. Девушка чувствовала какое-то нездоровое возбуждение и вместе с тем была совершенно разбита.
Подоив коз и отведя их в загон, Гретхен зашла к себе в хижину, но тотчас снова вышла: ей сделалось нехорошо, она нигде не находила себе места.
Душная июльская ночь грозила вконец истомить ее. Ни ветерка, ни единого освежающего дуновения – только стрекот кузнечиков, затаившихся во всех трещинах иссушенной зноем земли. Вся во власти тяжких противоречий, Гретхен томилась жаждой, словно эта измученная зноем почва, но пить ей не хотелось; дремотная тяжесть, разлитая в воздухе этой ночи, наполняла все ее существо, но она не могла уснуть.
Казалось, всю окружающую природу отягощает таинственное, темное сладострастие. В птичьих гнездах возня и трепыхание, постепенно затихая, сменялись любовно-дремотным безмолвием. Травы источали терпкое благоухание. С неба струился мягкий прозрачный туман.
Гретхен хотела вернуться в дом, но, охваченная оцепенением, продолжала сидеть на лужайке, сжав руки на коленях, устремив к звездному небу невидящий взгляд, хотя мысли ее витали неведомо где. Она терзалась и тосковала всем своим существом, сама не зная почему. Ей хотелось плакать. Казалось, слезы облегчили бы ее муку, и она отчаянно старалась вызвать их подобно тому, как раскаленная земля молит о капле росы. Она сделала над собой огромное усилие и наконец почувствовала, что меж ее воспаленных век проступает слеза.
Что ее особенно удивляло, так это одна неотвязная мысль, за последние часы вдруг овладевшая ею наперекор ее воле. Мысль, которую она старалась, но никак не могла прогнать. Гретхен думала о Готлибе, том молодом пахаре, что в прошлом году просил ее руки. Почему этот парень у нее на уме? Отчего она вспоминает о нем с мукой и отрадой – она, которой он всегда был безразличен?
Еще и месяца не прошло с тех пор, как Готлиб, встретив юную пастушку, робко спросил, не переменились ли ее намерения, все ли еще ей ничто не мило, кроме одиночества. Она тогда сказала ему, что свобода стала ей еще дороже, чем раньше.
Готлиб пожаловался ей, что родители хотят заставить его жениться на Розе, девушке из их деревни. Гретхен не почувствовала ни малейшего укола ревности. Она с дружеской сердечностью посоветовала Готлибу уступить желанию родителей, и, нисколько не уязвленная ни в своих чувствах, ни в самолюбии, искренне радовалась, что этот славный малый сможет утешиться и познать счастье в союзе с другой.
После той встречи она несколько раз вспоминала о возможной женитьбе Готлиба, причем думала о ней с тем же неизменным удовольствием.
Отчего же теперь эта мысль внушает ей такие горькие сожаления? Почему ее охватывает невыразимое смятение, стоит лишь представить этого молодого человека в объятиях другой женщины? Зачем образ Готлиба так неотступно преследует ее, и она напрасно пытается прогнать это наваждение, отмахиваясь от него так же тщетно, как от тучи назойливых мух?
А почему сегодня, вместо того чтобы, по обыкновению, гнать своих коз в горы или лесную чащу, она, напротив, все искала открытых полян, ее так и тянуло к опушке, поближе к равнине, где у Готлиба было несколько делянок? Зачем она целый день блуждала в тех местах? И отчего, когда Готлиб так и не появился, она почувствовала, как из глубины сердца поднимается смутная обида?
Тогда-то Гретхен и решила вернуться домой, не ожидая сумерек. Внезапно она вздрогнула: ей послышался голос Готлиба. Она оглянулась и в самом деле увидела его: он шагал по выбитой дороге, возвращаясь с поля домой. Но он был не один. С ним рядом шли отец Розы и сама Роза. Он протянул руки своей невесте и весело заговорил с ней. Гретхен, скрывшись за деревьями, осталась незамеченной.
Почему у нее больно сжалось сердце? Отчего она так и впилась в Розу ревнивым взглядом? Зачем жгучие тайны первой брачной ночи впервые в жизни приоткрылись ее умственному взору? С какой стати веселый смех Готлиба и горделивое довольство Розы мгновенно запечатлелись в ее памяти и теперь преследовали на каждом шагу? Почему то, чего она прежде желала, стало печалить ее? Как могло случиться, что она, никогда никому не желавшая зла, сидит здесь и глотает едкие слезы при мысли о чужом счастье?
На эти вопросы она не находила ответа.
Желая встряхнуться, прогнать наваждение, девушка поднялась. Ее сжигала лихорадка: веки горели, губы пересохли.
«Я просто хочу пить, – решительно сказала она себе. – Пить и спать».
Она вернулась в хижину, чиркнула огнивом и зажгла огонь в глиняном светильнике.
Потом она открыла шкафчик и достала ломоть хлеба.
Но смогла проглотить только маленький кусочек. Есть совсем не хотелось. И потом, ей показалось, что вкус у хлеба какой-то странный. Впервые она это заметила еще вчера.
В углу ларя стоял про запас горшок с квашеным молоком. Гретхен схватила его и стала жадно пить…
Вдруг она замерла. Ей почудилось, будто простокваша необычно горчит. Но жажда была так нестерпима, что это ее не остановило. Она только пробормотала:
– Ох, я, похоже, совсем не в себе!
И девушка осушила горшок до последней капли.
Казалось, питье немного освежило Гретхен, и она прилегла, не раздеваясь, на свою постель, выстланную папоротником.
Но ей не спалось. Вскоре она заметила, что возбуждение нарастает. Простокваша, выпитая ею, не только не утолила жажды, а, похоже, усилила ее. Гретхен задыхалась в этой тесной комнатушке, по ее жилам струился жар, голова пылала.
Не в силах больше терпеть, она поднялась, чтобы выйти на свежий воздух.
Подойдя к двери, она пошатнулась, наступив на что-то скользкое. Глянула себе под ноги и заметила какой-то блестящий предмет. Девушка наклонилась и подняла маленький пузырек. Он был не из золота или серебра, а из какого-то металла, какой она видела впервые.
Кто мог оставить здесь этот флакон? Ведь Гретхен, уходя, запирала свою хижину. Она была уверена, что ни разу не забывала делать это.
Флакон был пуст, но запах его содержимого не успел выветриться. Гретхен узнала его – это был тот самый запах, которым отдавали хлеб и простокваша.
Она растерянно провела рукой по волосам и прошептала:
– Я положительно схожу с ума. Прав был тогда господин Шрайбер. Нехорошо жить так, совсем одной. О Боже мой!
Девушка собрала все силы, заставляя себя опомниться и подумать. Она огляделась вокруг, и ей показалось, что стулья и стол сдвинуты со своих обычных мест: еще утром они стояли не совсем так. Значит, здесь все-таки кто-то побывал?
Она вышла из хижины. Солнце зашло уже больше двух часов назад, и воздух должен был, наконец, посвежеть.
Однако ей казалось, будто он стал еще горячее. Гретхен задыхалась, словно ее легкие были обожжены.
Она прилегла на траву, но и трава дышала нестерпимым зноем.
Тогда девушка растянулась на скале, но и голый камень был не прохладнее, чем земля. Он хранил жар солнца, подобно сковороде, что остается горячей, когда дрова в печи уже прогорят.
Что же такое она выпила? Похоже на приворотное зелье. И откуда взялась эта склянка?
Внезапно она содрогнулась всем телом. Воспоминание о Самуиле, до поры до времени вытесненное мыслями о Готлибе, пронзило ее мозг.
Самуил! Ну да, конечно же! Это наверняка он. И тотчас все суеверные страхи разом пробудились в ее душе. Нет никакого сомнения, что Самуил демон. Да, да, так и есть, он ведь угрожал ей, вот и держит слово: она попала в его сети, он околдовывает ее, а скоро явится сам, чтобы овладеть ею окончательно. Исчадию ада ведь ничего не стоит без ключа проникнуть в любой дом, ему запоры не помеха. Гретхен почувствовала, что гибнет.
И вот ведь какая дьявольская загадка: охваченная ужасом и отчаянием, она вместе с тем испытывала что-то похожее на восторг. Мысль, что демон вот-вот явится сюда и возьмет ее, доставляла девушке горькую отраду. В том, что Самуил придет, она не сомневалась и ждала его с нетерпением и страхом, не зная сама, какое из этих чувств сильнее. Одна половина ее сознания говорила: «Вот мне и конец!» А другая откликалась: «Тем лучше!» Нечто вроде опьянения, полного ужаса, навевало ей дикие фантазии. Она чувствовала, что стоит на краю бездны и адское головокружение становится все неодолимее. Ей уже не терпелось рухнуть в пропасть вечного проклятия.
На миг воспоминание о Готлибе еще мелькнуло в ее сознании. Но теперь его образ представился ей совсем иным. Он внушал уже не любовные грезы, а отвращение. Чего он от нее хотел, этот мужлан с толстыми грубыми лапами, неотесанный и неуклюжий, как его быки? Ей ревновать к Розе? Еще чего не хватало! Муж, любовник, который ей желанен, не деревенщина, чьи руки созданы для плуга, а юноша с ясным челом, с тонкими пальцами, со взглядом проницательным и глубоким, молодой ученый, проникший в секреты трав, знающий средства, целительные для раненых ланей и страдающих душ, умеющий лечить и умеющий убивать.
Шорох чьих-то шагов заставил ее встрепенуться и вскочить на ноги.
Огромными, широко раскрытыми глазами она всмотрелась в темноту.
Перед ней стоял Самуил.
XLIV
С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ШУТКИ ПЛОХИ
При виде Самуила Гретхен, успевшая встать, отшатнулась, но, влекомая инстинктом более могущественным, чем ее воля, безотчетно протянула к нему руки.
Самуил же замер в неподвижности. При лунном свете он казался еще бледнее обычного. Его лицо не выражало ни насмешки, ни торжества, ни злобы: он был серьезен, даже мрачен. Гретхен он показался необычайно высоким.
Она все еще отступала к двери хижины, раздираемая противоречивыми чувствами, не в силах победить ни свой ужас, ни влечение. Ноги словно бы сами несли ее к хижине, но уста тянулись к Самуилу.
– Не приближайся ко мне! – закричала она. – Изыди, сатана! Ты мне страшен. Я тебя ненавижу и презираю, слышишь, ты? Именем Пречистой Девы заклинаю тебя: сгинь, нечестивец!
И она осенила себя крестным знамением, повторяя:
– Не подходи! Не подходи!
– Я не приближусь к тебе, – медленно отчеканил Самуил. – Не сделаю ни шагу. Ты сама подойдешь ко мне.
– Ах, это возможно! – прошептала она в отчаянии. – Не знаю, чем ты меня опоил. Какой-то отравой, ты ее, верно, отыскал у себя в аду. Это был яд, не так ли?
– Нет, не яд. Это был сок некоторых цветов. Ты же так любишь цветы, и посредством цветов ты осмелилась оскорбить меня. Это был эликсир, в котором заключена мощь природы, способная пробудить дремлющие в человеке жизненные силы. Любовь спала в тебе, а я ее разбудил, только и всего.
– Значит, цветы меня предали! – горестно вскричала Гретхен.
Потом, устремив на Самуила скорее печальный, чем гневный взор, она промолвила:
– Видно, ты правду сказал. Говорила же мне моя матушка, что любовь – это страдание. Вот я и страдаю.
Она все еще старалась заставить себя уйти.
Самуил по-прежнему не шевелился. Он стоял так неподвижно, что его можно было бы принять за статую, если бы не глаза, горевшие в потемках жарким пламенем.
– Если ты страдаешь, – сказал он, – отчего бы не попросить меня, чтобы я тебя исцелил?
Эти слова Самуил произнес таким нежным, проникновенным голосом, что истерзанная душа Гретхен всеми фибрами отозвалась на его звуки. Она сделала шаг к нему, потом еще один и еще. Но вдруг отпрянула в ужасе:
– Нет, нет, нет! Не хочу! Ты страшный человек. Ты проклят. Ты ищешь моей погибели. Но тебе меня не поймать.
– Я уже сказал, – повторил он, – что не сделаю ни шагу в твою сторону. Ты же видишь, я не двигаюсь с места. Если бы захотел, я в три прыжка настиг бы тебя, разве нет? Но мне нужно, чтобы ты стала моей по доброй воле, и я этого дождусь.
– Хочу пить, – пробормотала Гретхен.
И, помолчав, шепнула покорным, ласкающим голосом:
– Это правда, что ты можешь меня исцелить?
– Пожалуй, что так, – сказал Самуил.
Выхватив из кармана складной нож, девушка раскрыла его и решительно шагнула к нему, вооруженная и оттого осмелевшая:
– Не прикасайся ко мне, а то я всажу в тебя нож. Ты только вылечи меня.
Но тут же – бедное дитя! – она отшвырнула нож далеко в сторону и воскликнула:
– Я совсем сошла с ума! Хочу, чтоб он меня лечил, а сама ему угрожаю. Нет, мой Самуил, я больше не буду тебе грозить. Смотри, я выбросила свой нож. Умоляю тебя… Ох, как болит голова! Я прошу у тебя прощения. Исцели меня скорее! Спаси меня!
Она упала к ногам Самуила и обняла его колени.
Это была поразительная картина: в бледном сиянии луны среди диких скал юная красавица с распущенными волосами в слезах извивалась у ног мужчины, недвижимого, словно мраморное изваяние. Самуил, скрестив руки, мрачно взирал на этот пожар бушующей страсти, зажженный им в крови невинного создания. Гретхен была вся объята невыразимым жаром: горячие искры вспыхивали в ее глазах, казалось роняя свои отсветы на смуглую кожу девушки. Она была дивно хороша в эти мгновения. Огонь страсти, пожирающий бедное дитя, был так жгуч, что Самуил почувствовал, как и сам поневоле начинает ощущать его. Лихорадка, снедающая Гретхен, это пламя, обжигавшее ее изнутри и освещавшее снаружи, все глубже проникали в его кровь.
– Ах, ты вечно на меня злишься! – вскричала прекрасная дикарка. – За что ты ненавидишь меня?
– У меня нет к тебе злобы, – отвечал Самуил. – Я тебя люблю. Это ты меня ненавидишь.
– О нет, теперь уже нет! – отозвалась она с нежностью, поднимая к нему свое очаровательное лицо.
Но тотчас ее настроение переменилось, и она, ни секунды не помедлив, резко выкрикнула:

– Ты прав! Ненавижу тебя!
Она кинулась прочь, но, не пробежав и четырех шагов, без сил рухнула на землю, будто мертвая.
Самуил не шелохнулся. Он только позвал:
– Гретхен!
Она приподнялась на коленях и с немой мольбой протянула к нему руки.
– Ну же! Иди ко мне! – сказал он.
Она униженно подползла к нему и простонала:
– Я совсем без сил! Подними меня.
– Ты сама просишь об этом?
Он наклонился над ней, взял за руки и заставил встать.
– О, ты сильный! – сказала она так, словно бы гордилась им: – Дай-ка поглядеть на тебя.
Положив Самуилу руку на плечо, девушка слегка отстранилась, чтобы получше всмотреться в его лицо.
– Ты прекрасен, – промолвила она. – Похож на князя тьмы.
Каждое ее слово и жест были сейчас полны пленительной грации, в движениях появилась невероятная гибкость, в голосе – неотразимое очарование. В борьбе, что вела с самой собой эта бедная невинная душа, ужас все еще одерживал верх над соблазном. Но Самуил чувствовал, что хладнокровие покидает его: огонь, охвативший сердце жертвы, готов был пожрать самообладание искусителя.
Внезапно Гретхен обвила руками его шею и, привстав на цыпочки, прислонилась лбом к его щеке. Страсть, которую он распалил в ней, охватила теперь уже его самого, и он впился поцелуем в ее губы.
Это прикосновение заставило Гретхен содрогнуться. Порыв ярости мгновенно прогнал прочь сладострастное томление: сильно укусив Самуила в щеку, девушка вырвалась из его объятий и резко отскочила прочь с гневным гортанным возгласом. И тут же, мгновенно укрощенная, стрепетом подняла на Самуила смиренный взор, молящий о прощении:
– Я тебе сделала больно? Да?
– Нет! – отвечал он, внезапно оживая: теперь он больше не походил на мраморную статую. – Нет, я тебе благодарен. Такая боль сладостна. Там, где ужас сродни очарованию, где опасность пополам с блаженством, а ненависть сплетена с любовью, – да, только там душа соприкасается с бесконечностью. Я это и люблю в тебе.
– Что ж, тем хуже! – выкрикнула Гретхен. – Да, я тоже тебя люблю!
Она осеклась, потом прошептала:
– Ах, какой стыд! Я готова нарушить мой зарок! Нет, лучше умереть!
Стремительным, словно молния, движением она схватила свой нож, поблескивавший среди травы, и ударила себя в грудь.
Самуилу едва удалось вовремя удержать ее руку. Клинок не успел проникнуть глубоко, но кровь все же брызнула.
– Несчастное дитя! – пробормотал он, отнимая у нее нож. – Хорошо, что я не опоздал. Рана не опасна.
Гретхен, казалось, и не заметила, что ранена. Она смотрела прямо перед собой затуманенным взором, будто мысли ее блуждали где-то далеко. Потом провела ладонью по лбу, словно прогоняя забытье.
– Тебе больно? – спросил он.
– Нет, наоборот, стало легче. Разум вернулся ко мне. Я теперь понимаю, что надо сказать.
Она залилась слезами и, молитвенно сложив руки, заговорила:
– Выслушайте меня, сударь. Надо вам меня отпустить. Видите ли, нельзя совсем не иметь жалости. Ну вот, я у ваших ног. Вы победили, вы сильнее, и если пожелаете, я стану вашей. Так вот, пощадите меня! В милости ведь больше величия, чем в расправе. Ох, правда, я вас умоляю! Для чего вам быть жестоким со мной? Неужели вы погубите бедное созданье, только чтобы на минутку потешить свое самолюбие? Подумайте, что со мной станется потом! Или вы боитесь, что когда опасность минует, я снова стану задирать вас? О, что вы! Это мне такой урок, что я никогда уж его не забуду. И даже могу сказать об этом госпоже Христиане. Как вы прикажете, я так и сделаю. Ну правда же, это все очень разумно, что я вам говорю? Вы сами видите, вам теперь нет никакой нужды меня больше терзать. Вы мне окажете милость? Я валяюсь у вас в ногах, что еще я могу сделать? Вы мужчина, а я пока даже не женщина, я всего лишь ребенок. Кто же станет принимать всерьез то, что говорят или делают дети? Разве ребенка можно губить за одно какое-то слово? О сударь, смилуйтесь!
Она была так окончательно повержена, такая душераздирающая мука звучала в ее голосе, что Самуил почувствовал себя даже растроганным. Его решимость была поколеблена, быть может, впервые в жизни. Вопреки собственной воле он смягчился при виде столь глубокого отчаяния этой целомудренной отшельницы, чью чистоту он собирался ради собственного тщеславия запятнать вечным и, может статься, смертельным позором. К тому же разве не была она уже достаточно укрощена, побеждена, унижена? Теперь она вся в его власти. Разве не призналась она сама, что полностью в его руках? Итак, он может проявить великодушие. Она всецело предалась ему, после этого зачем ее еще и брать?
К несчастью, Гретхен была уж очень хороша, да и зелье продолжало действовать. Отчаяние девушки мало-помалу превращалось в какое-то смутное лихорадочное томление. Она стала покрывать руки Самуила поцелуями, словно бы моля уже не о пощаде, а о чем-то совсем другом, и ее взгляд, обращенный к нему, наполнился влажным огнем соблазна.
– О, поторопитесь исцелить меня! – шепнула она с каким-то странным выражением. – А то будет поздно.
– Да, да, – пробормотал он, не сводя с нее жаркого хмельного взгляда, – я тебя вылечу! Сейчас же схожу за другим питьем, оно возвратит тебе покой, освежит кровь в твоих жилах. Я уже иду.
А сам, вместо того чтобы уйти, все смотрел на нее, такую прекрасную, объятую дремотным томлением, в сладострастном забытьи льнущую к нему.
– Да, – шептала она, – ступай.
А сама, вместо того чтобы оттолкнуть, удерживала его за руку, не отпускала. Губы твердили: «Ступай же!», а взгляд просил: «Останься!»
Самуил сделал над собой отчаянное усилие.
– Неужели я больше не властен над самим собой? – пробормотал он. – Я покорил тебя, ты скажешь об этом Христиане. Этого довольно. К чему бесполезное злодейство? Прощай, Гретхен.
Он вырвался из ее рук и опрометью бросился к скале.
– Ты уходишь? – вскрикнула Гретхен жалобно и нежно.
– Да. Прощай же!
Но не успел Самуил скрыться в тени скалы и нырнуть в подземный ход, как трепетные руки обвились вокруг его шеи, жаркие уста прильнули к его губам, и он, теряя рассудок, в свою очередь почувствовал себя покоренным, бессильным противиться тому, что было следствием его же преступного замысла.








