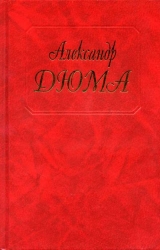
Текст книги "Капитан Ришар"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
XVIII
ПУТЬ В ИЗГНАНИЕ
В субботу 23 сентября 1815 года большое судно с английским флагом на корме и адмиральским вымпелом на грот-мачте пересекло линию экватора; оно направлялось из Европы и, если судить по направлению, шло к Южной Америке или в Индию.
Это был день «большой бороды», как говорят англичане, а поэтому на борту был праздник.
Этот ритуал, праздник Нептуна, суть которого на всех флотах одна и различается только по форме, – при подобных обстоятельствах непреложен для любого корабля цивилизованной нации.
Как всегда в таких случаях, на борту английского корабля командование было передано экипажу, единодушно вручившему его самому старому матросу, и тот, вооружившись трезубцем, прицепив длинную бороду и украсив голову короной из позолоченной бумаги, восседал на троне, установленном возле грот-мачты.
Его величество подзывал к себе тех, кто впервые пересекал экватор, приказывал намазать им лицо смолой, провести по щекам и подбородку огромной жестяной бритвой и, когда они были таким образом «обриты», по его приказу на них опрокидывалась огромная пивная бочка, подобная знаменитой гейдельбергской бочке, и на голову посвящаемого выливался поток соленой воды.
Этим процедура заканчивалась, и пассажир, офицер или матрос, прошедший через нее, мог сушиться под солнцем экватора, в то время как секретарь бога Нептуна выдавал ему грамоту, свидетельствующую о том, что он заплатил за переход положенную дань.
Во время этой церемонии на палубе появился вдруг французский офицер и, подойдя к богу Нептуну, сказал на довольно хорошем английском языке:
– Ваше величество, вот сто золотых монет – их посылает император Наполеон.
– Император Наполеон? – сказал бог. – Я такого не знаю. Знаю только генерала Бонапарта.
– Хорошо, пусть так! – сказал офицер, улыбаясь. – Я все время забываю, что генерал Бонапарт десять лет был императором; итак, повторяю, ваше величество: вот сто наполеондоров, присланных от имени генерала Бонапарта.
– Тогда другое дело! – сказал бог, протягивая свою широкую руку.
Но тут белая, тонкая, аристократическая рука протянулась между рукой французского офицера и рукой английского матроса, взяла сто наполеондоров со словами:
– Дайте мне этот кошелек, генерал: я полагаю, будет разумнее раздать их только сегодня вечером.
Бог Нептун заворчал в свою тростниковую бороду, но подчинился, и церемония «большой бороды» должна была продолжиться, как вдруг один матрос закричал:
– Эй! Там, за кормой, акула!
– На акулу! На акулу! – закричали все матросы.
Бог Нептун, всеми покинутый, оставил свой трон и пошел, как и другие, посмотреть, что происходит на корме.
С разрешения адмирала (ибо вымпел на грот-мачте говорил о присутствии на судне адмирала) матросы собрались на корме – на месте, предназначенном только для высших офицеров.
Один из матросов насадил кусок сала на огромный крючок, прикрепленный к железной цепи, затем забросил эту цепь в море.
Громадная акула, чей спинной плавник скользил по поверхности воды, быстро нырнула, и через несколько секунд матросы увидели, как цепь, одним концом закрепленная на палубе, стала дергаться и натягиваться в различных направлениях. Звенья цепи скрипели, скользя по корпусу судна, – казалось, что она вот-вот лопнет.
Наконец рывки стали мало-помалу затихать и все увидели что-то белое, бьющееся на конце сильно натянутой цепи: это было брюхо агонизирующей акулы.
Тогда раздались громкие крики всего экипажа – крики торжества, еще более громкие, чем радостные возгласы, что слышались в самые кульминационные минуты праздника Нептуна.
И при этих возгласах по лестнице, выходящей на корму, поднялся человек, прежде на палубе не появлявшийся.
На голове у него была небольшая обычная шляпа, одет он был в зеленый мундир гвардейских егерей, на котором, прикрепленные к Железной Короне, блестели орден Почетного легиона и простой кавалерский крест. Следом за ним поднялись генерал, передавший сто наполеондоров, и еще один человек лет сорока пяти – пятидесяти, в форме офицера французского морского флота.
Это был Наполеон; следовавший за ним генерал был Монтолон, а офицер во французской морской форме – Лас-Каз.
Они находились на борту «Нортумберленда», на котором держал свой флаг адмирал Кокберн; корабль шел на остров Святой Елены; всем матросам, офицерам и даже адмиралу было приказано называть Наполеона только генералом Бонапартом; плавание началось 7 августа – таким образом, исполнилось сорок семь дней с тех пор, как судно вышло с плимутского рейда.
Только что корабль пересек линию экватора, но благодаря вниманию адмирала ни император, низведенный до ранга генерала Бонапарта, ни сопровождающие его лица не подверглись унизительной церемонии крещения, и, только услышав, что крики на палубе стали другими, именитый пленник поднялся на палубу посмотреть, в чем дело.
На борту все служит развлечением: когда Наполеон узнал, что экипаж поймал акулу и что она следует за судном на привязи, он уселся на пушке, своем привычном месте, и стал ждать.
Спустя некоторое время крики матросов возвестили, что акулу начали поднимать наверх; затем над бортом корабля показались ее остроконечная голова и пасть, снабженная тройным рядом зубов; последним рывком ее выбросили на палубу; но когда она падала, матросы поспешно разбежались: ни один из них не желал находиться слишком близко к ней во время ее агонии.
И действительно, едва акула почувствовала под собой твердую опору, она подскочила на высоту фок-мачты; затем, обнаружив рядом со своей пастью лафет пушки, так вцепилась зубами в дерево, что не смогла высвободить их и какое-то мгновение лежала неподвижно.
Этим воспользовался старший плотник: он подошел к акуле и обрушил ей на голову страшный удар топором.
Акула выдернула зубы из деревянного лафета, где они оставили глубокий след, и одним броском перескочила с правого борта на левый. Три или четыре человека, попавшиеся ей на пути, были опрокинуты ударом, один так и остался лежать без сознания; остальные вспрыгнули на бортовую сетку, а оттуда вскарабкались на ванты с ловкостью обезьян.
Все это сопровождалось криками и хохотом экипажа, а паясничание матросов делало борьбу еще более живописной картиной.
Сначала Наполеону показалось забавным это сражение с акулой, но вскоре, находясь среди всего этого движения, криков и возгласов, он погрузился в глубокое раздумье.
Когда он вернулся к реальности, у акулы уже отрубили голову, вспороли живот; один матрос держал в руке ее сердце, а бортовой хирург смог констатировать, что, в то время как это безголовое туловище, разрезанное во всю длину, лежало на палубе, отделенное от него сердце продолжало сокращаться, настолько велика жизненная сила у этих страшных чудовищ.
Наполеона охватила жалость к этой гигантской боли и страданию: он отвел глаза в сторону и увидел графа Лас-Каза.
– Пойдемте, – сказал он. – Я продиктую вам главу своих мемуаров.
Лас-Каз последовал за императором; но когда они уже спускались на нижнюю палубу, командир корабля Росс наклонился к графу и спросил:
– Почему же уходит генерал Бонапарт?
– Император уходит, – ответил ему Лас-Каз, – потому что не может смотреть, как страдает эта акула.
Англичане с удивлением переглянулись: им говорили, что после каждой битвы Наполеон прогуливался по полю боя, чтобы насладиться видом мертвых и усладить свой слух стонами раненых.

Когда удивление прошло, акулу убрали, отмыли палубу от крови и прерванный праздник продолжался.
А в это время Наполеон диктовал те страницы своих воспоминаний, на которых он опровергает отравление чумных больных в Яффе.
Мысль написать историю своих кампаний пришла к Наполеону от скуки.
Было жарко; дни тянулись однообразно; в начале плавания император вообще редко поднимался на палубу и никогда не выходил до завтрака, а завтракал он, как и в походе, в разное время.
Англичане же завтракали в восемь часов, французы – в десять.
После завтрака до четырех часов император читал или беседовал с Монтолоном, Бертраном или Лас-Казом. В четыре часа он одевался, проходил в общую каюту, играл в шахматы; в пять часов сам адмирал приходил к нему и сообщал, что обед подан.
Тогда все садились за стол.
Обед у адмирала продолжался обычно в течение двух часов – это было на час пятьдесят минут дольше, чем длились обеды Наполеона. Поэтому в самый первый день, когда подали кофе, император встал; великий маршал и Лас-Каз, также приглашенные за адмиральский стол, встали и вышли вслед за ним.
Удивление всех было велико. Адмирал готов был рассердиться, но ограничился тем, что по-английски посетовал на недостаток воспитания у императора. Тогда г-жа Бертран, промедлившая с уходом, на том же языке возразила:
– Господин адмирал, вы забываете, кажется, что имеете дело с человеком, который был владыкой мира; когда он вставал из-за стола, будь то в Париже, в Берлине или в Вене, короли, которым он оказал честь, пригласив их к столу, вставали вместе с ним и шли следом.
– Это правда, сударыня, – ответил адмирал, – но поскольку мы не короли и не находимся ни в Париже, ни в Берлине, ни в Вене, то не будем считать дурным тоном, что генерал Бонапарт встает из-за стола до окончания обеда; только ему придется смириться с тем, что мы остаемся на месте.
И впредь независимость обеих сторон была признана и принята.
Именно во время долгих бесед на борту Лас-Каз услышал из уст самого Наполеона все те рассказы о детстве и юности пленника Святой Елены, которые граф затем привел в своем «Мемориале». Потом наступил момент, когда беседы такого рода истощились, Наполеону надоело рассказывать, хотя его слушателю ничуть не надоело их слушать; и вот, в субботу 9 сентября он начал диктовать историю своих Итальянских кампаний.
За исключением этого развлечения, занимавшего сначала полчаса, час, затем два часа, потом дошло до трех часов, дни текли одинаково однообразно; так было с понедельника 7 августа до субботы 13 октября.
В ту субботу за обедом адмирал объявил: завтра, к шести часам вечера он надеется увидеть остров Святой Елены. Понятно, что это было важное сообщение: в море они пробыли шестьдесят семь дней!
И действительно, на следующий день, когда все сидели за столом, матрос, которого с двух часов пополудни посадили на марс брам-стеньги, закричал: «Земля!»
В эти минуты подавали десерт, но все встали и поднялись на палубу.
Император перешел на нос корабля и стал глазами искать землю.
Но увидел он только туман, клубившийся на горизонте, – лишь глаз моряка мог с уверенностью определить, что этот туман был твердым телом.
На следующее утро, едва забрезжил свет, все собрались на палубе. И хотя часть ночи судно лежало в дрейфе, оно подошло достаточно близко, чтобы теперь, благодаря тому, что утренний воздух был прозрачен, остров стал отчетливо виден.
К полудню бросили якорь. От земли находились в трех четвертях льё. С того момента как Наполеон покинул Париж, прошло сто десять дней. Путь к месту ссылки длился дольше, чем второе царствование между Эльбой и Святой Еленой.
Император вышел из своей каюты раньше обычного, прошел вдоль шкафута и устремил на остров невозмутимый взгляд: на его лице не дрогнул ни один мускул; надо сказать, эта каменная маска так хорошо подчинялась воле современного Августа, что живыми казались лишь мускулы вокруг его рта.
Однако вид острова вовсе не вызывал положительных эмоций: было видно вытянувшееся вдоль берега селение, теряющееся в глубине гигантских скал, голых, сухих, сжигаемых солнцем. Как и в Гибралтаре, можно было пообещать сто луидоров тому инженеру, кто нашел бы место, где не было бы пушки.
Через десять минут созерцания этого зрелища император повернулся к Лас-Казу:
– Пойдемте работать!
Он спустился в свою каюту, усадил Лас-Каза и принялся диктовать, причем его голос ничуть не изменился.
Когда якорь был брошен, адмирал тотчас же спустился в свой ял и приказал грести к острову.
В шесть часов вечера он вернулся очень усталый. Оглядев весь остров, он полагал, что нашел подходящее жилище, к сожалению нуждающееся в ремонте, для чего потребуется еще, по крайней мере, два месяца.
Между тем английские министры категорически приказали высадить Наполеона на землю лишь тогда, когда все будет готово к его приему.
Но адмирал поспешил заявить, что генерал Бонапарт устал от моря, и взял на себя ответственность за его высадку. Только в тот вечер высаживаться было уже поздно. Адмирал сказал, что на следующий день они пообедают на час раньше, чем обычно, чтобы сразу же после обеда можно было сойти с корабля.
На следующий день, выйдя из столовой, император увидел всех офицеров, собравшихся на юте, и три четверти всего экипажа, столпившегося на шкафуте.
Шлюпка была готова; он спустился туда вместе с адмиралом и великим маршалом.
Четверть часа спустя, в понедельник 16 октября 1815 года, он ступил на землю Святой Елены.
Обо всем остальном можно прочесть в «Прометее» Эсхила.
XIX
ЛИЗХЕН ВАЛЬДЕК
В тот же самый час, когда Наполеон вступил на высушенную солнцем землю своей ссылки, в маленьком городке Вольфахе, спрятавшемся в глубине одной из самых живописных долин Великого герцогства Баден, одна шестнадцатилетняя девушка, подобно Маргарите у Гёте, остановила колесо своей прялки и, опустив руки, прислонившись головой к стене и подняв глаза к небу, тихонько запела эту хорошо известную в Германии песню:
Что сталось со мной?
Я словно в чаду,
Минуты покоя
Себе не найду.
Чуть он отлучится,
Забьюсь, как в петле,
И я не жилица
На этой земле.
В догадках угрюмых
Брожу, чуть жива,
Сумятица в думах.
В огне голова.
Гляжу, цепенея,
Часами в окно,
Заботой моею
Все заслонено.
И вижу я живо
Походку его,
И стан горделивый,
И глаз колдовство.
И, слух мой чаруя,
Течет его речь.
И жар поцелуя
Грозит меня сжечь. [15]15
И. В. Гёте, «Фауст», I. – Пер. Б. Пастернака.
[Закрыть]
Дойдя до этого места песни, девушка, полностью погруженная в свои мысли, не услышала, как открылась дверь во внутренний дворик, и не увидела, как вошел, вернее, замер на пороге этой двери молодой человек лет двадцати девяти-тридцати в костюме крестьянина из Вестфалии.
Хотя мы и сказали «в костюме крестьянина», но, разглядев поближе этого молодого человека, в нем можно было распознать, несмотря на усилия скрыть это, некую военную выправку, говорившую о том, что при его гибкой фигуре и уверенной осанке ему больше подошел бы мундир офицера.
Что же касается его лица, то оно было красивым и одновременно мужественным: темно-голубые живые глаза, светло-русые волосы, прекрасные зубы.
Девушка не заметила его появления и продолжала петь:
Где духу набраться,
Чтоб страх победить,
Рвануться, прижаться,
Руками обвить?
Я б все позабыла,
С ним наедине.
Хотя б это было
Погибелью мне.
Чем дальше она пела, тем больше голос ее становился таким грустным, почти скорбным, что молодой человек, не имея мужества дослушать оставшиеся три или четыре куплета, быстро направился к ней и окликнул:
– Лизхен!
Девушка вздрогнула, обернулась и, различив молодого человека в наступившей полутьме (она не зажигала медную лампу в три рожка, стоявшую на дубовом сундуке), произнесла почти испуганным голосом:
– Это вы?
– Да. Что это за тоскливую, печальную песню вы там поете?
– А вы ее не знаете?
– Нет, – ответил молодой человек.
– Сразу видно, что вы француз!
– По чему видно? По тому, как я говорю по-немецки? Вы меня немного пугаете, Лизхен, говоря так.
– О нет! Вы говорите по-немецки, как саксонец. Видно, что вы француз, потому что у нас, немцев, эта песня очень известна, и от Рейна до Дуная, от Кёльна до Вены нет ни одной девушки, которая не пела бы ее; это «Маргарита за прялкой» нашего великого поэта Гёте.
– Да, я ее знаю, – сказал молодой человек с улыбкой. – Вот вам доказательство.
И на самом чистом саксонском диалекте – том, каким говорила девушка, он повторил четыре первых стиха этой печальной песни.
– Так что вы мне говорили?
– О Боже мой, я говорил вам: «Говорите, Лизхен! Звук вашего голоса радует меня!», как я сказал бы птичке: «Пой, птичка, я люблю слушать твое пение!»
– Что ж, вот я говорю.
– Да, но теперь моя очередь говорить.
Он подошел к девушке и, протянув ей руку, сказал:
– Прощайте!
– Как прощайте? – воскликнула она.
– Лизхен, мне надо уехать, покинуть Вольфах, я должен уехать еще дальше, в глубь Германии.
– Вам грозит какая-нибудь новая опасность?
– Опасность, грозящая изгнаннику, – быть арестованным; опасность, грозящая приговоренному к смерти, – быть расстрелянным.
Затем с видом человека, привыкшего к любым опасностям, пусть даже и таким, он добавил:
– Вот и все.
– О мой Бог! – воскликнула девушка, сложив руки перед собой. – Я не могу себе этого представить.
– И однако это было первым словом, что я сказал вам три дня назад на этом самом месте, войдя через эту же дверь; случай – нет, я ошибаюсь, Лизхен, – само Провидение открыло передо мной эту дверь, я вам сказал тогда: «Я голоден, меня мучит жажда, я изгнанник».
– Но позавчера разве вы не сказали мне также, что нашли надежное убежище?
– Лизхен, покидая вас, я должен сделать вам одно признание: это убежище – ваш дом.
Девушка с ужасом посмотрела на молодого человека.
– Наш дом? – воскликнула она. – Вы спрятались в доме моего отца без его разрешения?
– Успокойтесь, Лизхен, – сказал молодой человек. – Я покину этот дом. Но дайте мне прежде сказать вам, как я в него вошел и кого вы приняли.
Девушка отодвинула прялку ногой, опустила руки на колени и посмотрела на изгнанника дружеским и в то же время обеспокоенным взглядом.
– Я был на острове Эльба вместе с Наполеоном. Он послал меня подготовить свое возвращение, и я вступил в связь с полковником Лабедуайером и маршалом Неем. Оба они были расстреляны; я был осужден так же, как и они, но оказался удачливее и, вовремя предупрежденный о том, что меня собираются арестовать, бежал в Страсбург, на свою родину, где и прятался в течение месяца у одного друга. Четыре дня тому назад мне стало известно, что мое укрытие обнаружено; тогда я спрыгнул с крепостных валов, вплавь пересек Рейн и очутился в Великом герцогстве Баденском. Прошагав целый день окольными дорогами, знакомыми мне с детства, я добрался до Вольфаха. Моим намерением было пробраться в глубь Германии, где мне надо выполнить одну священную миссию; но я встретил вас, Лизхен, – что вы хотите, ведь человек не всегда хозяин своей судьбы – и, рискуя тем, что со мной может случиться недоброе, я остался.
– Я думала, что вы ушли. Встретив вас на следующий день, я была счастлива этому и не спросила, почему вы остались.
– Почему я остался? – сказал молодой человек, окидывая жарким взглядом невинную девушку, так наивно признавшуюся ему в той радости, какую она испытала, вновь увидев его. – Почему я остался? Я сейчас вам скажу. Тот темный сарай, который находится в вашем дворе, имеет маленький заброшенный чердак – там я и спрятался, покинув вас. Окошки этого чердака выходят на ваши окна; я ждал ночи, собираясь уйти, и только бросил один взгляд в вашу сторону, посылая вам последнее прости, как вдруг ваше окно открылось и вы показались в нем… Нет необходимости, Лизхен, говорить вам, что вы красивы; но тогда, под лунным светом, вы были очаровательны!
Лизхен невнятно прошептала несколько слов, покраснела и опустила глаза в темноте.
Молодой человек продолжал:
– В руках вы держали букет роз; не знаю, какие чувства владели вами, какой душевный порыв освещал ваше лицо, но, устремив глаза на ту дорогу, по какой я должен был уйти, если бы не остался, вы отрывали эти последние лепестки осенних цветов, бледных, как те дни без солнца, когда они родились, и бросали их в сторону Шварцвальда, через который, по-вашему, я должен был идти.
– Я их обрывала и пускала на ветер, а не в какую-то одну сторону, – ответила Лизхен. – Ветер понес их туда, куда он дул.
– Ну так что ж! Ветер дул из Франции: это был дружеский ветер! Вы долго пробыли так у своего окна, а я все это время смотрел на вас; потом, когда ваше окно закрылось, я не мог заставить себя уйти.
– И однако сегодня вы уходите? – сказала со вздохом Лизхен.
– Послушайте, – ответил изгнанник, – сегодня я видел, как по городу бродили французские жандармы. Они заодно с жандармами великого герцога, и я не сомневаюсь, что вот-вот те или другие выследят меня.
– Боже мой! Что же делать? – воскликнула девушка.
– О! Для меня это не имеет значения, Лизхен, – сказал молодой человек. – Но если в вашем доме обнаружили бы французского заговорщика, это скомпрометировало бы вашего отца, а особенно вас, внявшую моей мольбе и давшую мне убежище.
– Эту тайну я охотно сохранила, тем более что мой отец – не знаю уж почему, ведь он такой добрый, хороший христианин, такой отзывчивый – относится к французам с непримиримой ненавистью; десятки раз я видела, как он вздрагивал и бледнел при одном виде кого-нибудь из ваших соотечественников! И все же, если для вас будет более надежным остаться здесь, чем бежать, оставайтесь.
– Лизхен! Дорогая Лизхен!
– Жизнь человека в глазах Господа Бога настолько ценна, что он, надеюсь, простит мне то, что я сделала.
– Вы ангел, Лизхен! – сказал молодой человек. – Но не только опасность, грозящая мне, удаляет меня от вас. Как я уже сказал, у меня есть одна святая миссия, и я должен ее выполнить. Я направляюсь в Баварию.
– В Баварию? – переспросила девушка, подняв на него свои прекрасные глаза.
– Да, в поисках одной девушки, такой же прекрасной, как и вы, Лизхен, но менее счастливой, чем вы… Выполнив это поручение, я буду свободен, и, какой бы опасности ни буду подвергаться, находясь у границ Франции, клянусь – я вернусь к вам!
– Когда же? – спросила Лизхен.
– Когда? Не знаю. Но я прошу у вас три месяца.
– О, три месяца! – радостно воскликнула Лизхен.
– Через три месяца вы снова увидите меня, Лизхен. Обещаете ли вы меня узнать?
– Вы не подвергаете мою память слишком большому испытанию, сударь, я привыкла помнить о своих друзьях более трех месяцев.
В это мгновение пробило семь часов.
Молодой офицер отсчитал один за другим семь ударов колокола.
– Семь часов, – прошептала девушка. – Мой отец сегодня утром уехал в Эттенгейм и скоро вернется.
– Да, – подхватил изгнанник, – мне тоже пора отправляться в путь.
Он подошел к открытому окну и оглядел горизонт.
– Вы знаете, по какой дороге вам надо идти? – застенчиво спросила Лизхен.
– Да, – ответил молодой человек. – Но я смотрю не на ту дорогу, по какой должен идти, а на ту, по какой пришел.
– Бедный изгнанник! Я понимаю, Вольфах совсем рядом с Францией, и каждый шаг, который вы сделаете…
– Будет удалять меня от нее и от вас, Лизхен; да, это так.
Затем он продолжал с чувством глубокой грусти:
– Как странно! Моя жизнь прошла вне Франции: я приезжал туда лишь время от времени, совсем как моряк, чье существование протекает между небом и водой, он лишь иногда вступает на остров, мимо которого проплывает. С двенадцати до пятнадцати лет я провел в Италии; с пятнадцати до двадцати – в Тироле и Германии; с двадцати до двадцати пяти – в Иллирии, Австрии и Богемии, с двадцати пяти до двадцати семи – в Польше и России. Никогда, отправляясь в другие страны, я не сожалел, что удаляюсь от границ Франции, и следовал за своим знаменем, устремив взгляд на орла с развернутыми крыльями, шел туда, куда шел он! И вот теперь мое сердце разрывается от мысли, что надо покинуть Францию! Никогда не казалась она мне такой дорогой! Послушайте, это безумие, Лизхен, но поверьте мне, я отдал бы один год своей жизни, если вы полюбите меня, и десять лет, если вы не полюбите меня, чтобы еще раз увидеть сквозь рейнский туман шпиц на колокольне Страсбурга!
– Да, ведь это родина!
– Вы не представляете себе, что это такое, Лизхен! Я один на белом свете: все, кого я любил – отец, мать, брат, – все умерли. Любовь, почитание, преданность – я все отдал одному человеку; но этот человек был низвергнут с такой высоты, что не увидел меня в своем падении! Я хотел последовать за ним на Святую Елену, как последовал на Эльбу: англичане оттолкнули меня; я вернулся во Францию, там меня приговорили к смерти. Я так устал от всего, что, хотя у меня есть богатство, относительное, конечно, сдался бы, пожалуй, и сам, если бы мог утешиться мыслью, что какое-нибудь сердце пожалеет меня.
– А ваши друзья? – спросила Лизхен.
– Моими друзьями были товарищи по оружию; я их видел павшими на полях сражений по всей Европе; а что стало с теми, кто выжил? Они такие же отверженные, как и я! Они рассеяны и бродят по тому миру, который сами завоевали!
И молодой человек грустно пожал плечами.
– А любовь? – прошептала Лизхен.
– Любовь? Знали ли мы, что это такое? Люди, вроде нас, вооруженные путешественники, шли по миру беглым шагом; ветер войны гнал нас перед собой, а голос, которому мы все подчинялись, неумолимо твердил: «Марш, марш вперед!» Невероятно, но это так. Скоро мне исполнится тридцать лет, Лизхен, а мое сердце, огрубевшее от всех страшных потрясений, готово испытать нежные волнения; отстрадав как мужчина, я чувствую себя способным любить как ребенок.
– Боже мой! – воскликнула вдруг девушка. – Слышите шум кареты на большой дороге?
– Да, – ответил изгнанник.
– Это возвращается из Эттенгейма мой отец.
– Это значит, я должен уходить?
Девушка протянула офицеру руку.
– Друг мой, – сказала она. – Поверьте мне! О! От всего сердца я хотела бы иметь возможность сказать вам «Останьтесь!»
Молодой человек задержал в своих руках протянутую ему руку.
– Лизхен, да, я сейчас уйду; но, прежде чем уйти, одну милость…
– Какую?
– Не дайте мне уйти, не взяв на память о вашем сострадании ко мне какой-нибудь предмет. В тот вечер я обменял бы каждый из отпущенных мне дней на лепестки розы, что вы бросали на ветер; у вас есть букетик фиалок – я чувствую их запах; дайте мне его, и я уйду!
– Букетик фиалок? – грустно повторила Лизхен.
– Да, это будет моим талисманом – он оградит меня в пути.
– Печальный талисман, сударь! – ответила ему Лизхен. – Эти фиалки – тоже последние осенние цветы, как и те розы, о каких вы говорили. Знаете, где они были собраны?
– Мне это не важно, поскольку вы дотрагивались до них.
– Они были собраны на кладбище, – продолжала девушка, – на могиле моей сестры, умершей… да, сегодня ровно три года назад!.. Впрочем, пока холод не погубит их, я каждое утро срываю эти бедные цветы смерти с одной и той же могилы, аромат этого букета сопровождает меня весь день: для меня это как бы дыхание моей бедной сестры!
– Простите меня, я беру обратно свою просьбу.
– Нет, вот он… Теперь уходите!
– Спасибо, Лизхен, спасибо! Я ухожу… я ухожу дважды изгнанный: далеко от Франции и далеко от вас, но я возвращусь… Не забывайте меня в своих молитвах, Лизхен!
– Увы! За кого я буду молиться? Я даже не знаю вашего имени.
– Молитесь за капитана Ришара.
– О! Мой отец, мой отец, там, на дороге… Уходите! Уходите!
Молодой человек схватил руку Лизхен и прижался к ней горячими губами, затем бросился прочь через одну дверь, в то время как другая открывалась.
– До свидания, Лизхен, – проговорил он быстро, – сказать вам прощайте для меня было бы слишком тяжело.
И он исчез.








