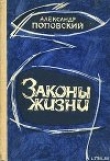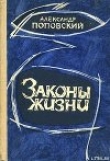Текст книги "Повесть о жизни и смерти"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Пора тебе подумать о том, чтобы отсюда убраться. Никому ты здесь не нужен и никто тобой не дорожит…
Меня удивило ее обращение к Антону на «ты» и еще больше – та перемена, которая произошла с ним. Серьезный и уверенный тон сменился легкомысленно-балагурским кривлянием. Он подмигивал не то себе, не то нам и жалкой улыбкой пытался скрыть свое недовольство ее вмешательством.
– Ты мешаешь нам работать, – с той же холодной строгостью продолжала она, окидывая его презрительным взглядом. – Ты отравляешь нашу жизнь своим присутствием… Никто тебе не позволит издеваться над Федором Ивановичем. Ты уйдешь, пока еще не поздно!
Она стояла перед ним бледная, со сжатыми кулаками, готовая, казалось, вцепиться в него. Он произнес что-то нечленораздельное, и голос ее спал до угрожающего шепота.
– Я просила директора института убрать тебя. Он слушать об этом не хочет. Не вынуждай нас прибегать к мерам, которые тебе не придутся по вкусу. Не толкай нас на крайности!
Вместо ответа он сделал нетерпеливое движение рукой, словно перевернул страницу скучной книги, и злобно на нее взглянул.
– Ты отмахнулся от наших опытов, – продолжала она, – и даже не спросил, с какой целью мы их проводим. Мы умеем сшивать артерии и вены. Для пересадки сердца и легких этого достаточно. А хватит ли у нас искусства восстанавливать связи с головным мозгом? Ведь никто этого до нас не делал. Мы углубляем наши знания, чтобы служить науке, и ты нам для этого не нужен.
Беспомощный ли вид Антона погасил гнев Надежды Васильевны, или вспышка исчерпала ее силы, под конец голос звучал глухо и угрожающие нотки исчезли. Не взглянув на того, к кому обращена была ее речь, она круто повернулась и вышла…
* * *
После этого разговора трудно было надеяться, что наши отношения с Антоном наладятся. Он должен был уйти из лаборатории. Увольнение из института могло бы отразиться на его репутации, и я решил попросить моего друга убедить сына добровольно оставить нас. Обсудить это с ним я намеревался в ближайшую среду, когда мы встретимся в Большом театре на новой постановке «Евгения Онегина». Предстоящий разговор тем более казался мне удобным, что и Лукин собирался о чем-то важном со мной поговорить.
В тот день я рано освободился и отправился к моему другу на службу, чтобы до начала спектакля вдвоем погулять…
В жизни Лукина недавно произошла перемена, вызвавшая много толков среди его друзей и врагов. Причиной послужил незначительный случай, каких в практике санитарного инспектора немало. Результат был более чем неожиданным. Санитарный инспектор Лукин, как лаконично отмечалось в приказе, сложил с себя полномочия «в связи с переходом на другую работу».
Вот что предшествовало этому.
С давних пор установлено, что за спуск в речной бассейн загрязненных вод виновные облагаются штрафом. Расчетливые администраторы сочли наказание не слишком обременительным для бюджета предприятия и вместо постройки очистных сооружений предпочитали отделываться штрафом. Напрасно инспектор искал поддержки исполкомов. С тех пор, как эти суммы стали обогащать городской бюджет, власти охладели к подобного рода жалобам. Лукин задумал разлучить нарушителей закона с их высокими покровителями. В своем письме министру он предложил штрафы впредь зачислять не в местный бюджет, а в доход казны. Предложение было принято, исполкомы стали строже охранять воды от загрязнения, а Лукин, увлеченный гигиеной солнечного освещения, занял маленькую должность в коммунальном институте. Совпало ли его перемещение с новым увлечением, как он меня уверял, или ему не простили письма в высокую инстанцию «в обход» и «за спиной» начальства, как утверждали другие. – трудно сказать. Нашлись защитники дотошного инспектора, которые взяли его под защиту, но Лукин этой поддержкой не воспользовался.
Наши отношения с ним в последнее время улучшились. С тех пор как он увидел подопытных собак с двумя сердцами, он проникся уважением к нашим трудам и согласился с моими взглядами на долголетие. Лукин часто навещал нас в лаборатории и с нетерпением ждал опыта пересадки головы собаке.
Новый круг интересов моего друга должен был, естественно, стать и моим. Мне приходилось теперь выслушивать долгие рассуждения на тему «Как много значит ультрафиолетовое излучение для человека». Речь шла о давно знакомых вещах – о дыме, тумане, пыли, но теперь их зловредность определялась еще тем, что они поглощали ультрафиолетовое излучение солнца. Безжалостно укорачивая спектр великого светила, они оставляли жилища без живительных лучей, порождая рахит и туберкулез. Невинные частицы пыли, водяные пары и туманы, все чаще обволакивающие небо городов, оказались бичом человека. Столь неодолима эта преграда, что даже в летнюю пору благодатные лучи не всегда достигают земли. Все больше становится сумеречных дней. За полвека число их утроилось, и облучение городов неизменно слабеет. Чем не перемена климата? Случается, что буря поднимет миллионы тонн пыли в воздух, свет солнца померкнет, мгла, хоть свет зажигай. Но что значит редкое стихийное бедствие в сравнении с тем, что изо дня в день повторяется?..
Лукин искренне горевал по поводу световых неурядиц в эфире и собирался кое-кому «вправить мозги» и кое-кого «поставить на место». Нельзя мириться с теми, кому раз и навсегда все ясно на свете.
Институт, где Лукин обосновался, находился в одном из переулков, примыкающих к Пироговской магистрали. За каменным забором, скрытым густой зеленью двора, стоял старомодный четырехэтажный дом с широким крыльцом и причудливым сплетением лестниц внутри. В прошлом богадельня для престарелых людей, ныне этот дом снизу доверху был занят институтами. Поднявшись по боковой лестнице на третий этаж, я нашел Лукина в конце длинного коридора, вернее, не нашел, а услышал его голос. Он доносился из-за двери с налепленной на ней запиской: «Тише! Идет семинар!» Я вспомнил, что друг мой, по его выражению, готовит здесь «армию бойцов, готовых костьми лечь за счастье человечества». Два раза в неделю сюда являются санитарные инспектора, чтобы вникнуть в науку о значении солнечного света для городов.
Я открыл дверь и вошел. Лукин движением руки указал мне на стул и улыбкой дал понять, что приход мой доставил ему удовольствие. Немногочисленная аудитория, разместившаяся на трех стульях и четырех табуретах, ив обратила на меня внимания, и я уселся рядом с пожилым инспектором, которого видел однажды на квартире Лукина.
Мой друг продолжал свою речь с той же бодрой интонацией, с какой прервал ее.
– Мы должны помнить и пи в коем случае не забывать, – призывал он аудиторию, – что человек питается не только хлебом, но и светом. К сожалению, не на все природа снабдила нас чувствительной аппаратурой. Мы чувствуем, как лучи солнца нас ослепляют, и вовсе не чувствуем действия ультрафиолетовых лучей…
Мой сосед пригнулся к моему уху и прошептал:
– Это он ради вас повторяет, мы это слышали уже по раз…
– Говорите всем, кому дорога жизнь их детей, что рахит излечивается витамином «Д», и главным образом не тем, который отпускают в аптеках, а тем, который мы в своем теле производим. Ультрафиолетовый луч, упавший на обнаженные ткани, превращает продукты кожного сала в витамин «Д». Кожные покровы всасывают его и предотвращают болезнь… Крысы, болеющие рахитом, выздоравливают, если кормить их кожей животных, облученных ультрафиолетовым светом.
Снова мой сосед мне шепнул:
– Не надоест же человеку, третий раз повторяет…
Он не то, что был недоволен, но мне показалось, что семинар изрядно ему надоел.
– Недаром говорят, – с той нарочитой веселостью, с какой учителя подбадривают скучающих учеников, продолжал Лукин. – «Куда не заглядывает солнце, заглядывает врач». Добавим от себя: «Береженого бог бережет».
Дальше следовали наставления «помнить и не забывать», что благодетельные лучи снижают кровяное давление, улучшают согласованность движений, благоприятно отражаются на содержании гемоглобина в крови, на количестве кровяных телец, улучшают состояние нервной системы и состояние зубов…
У Лукина была удивительная способность так говорить о целебных свойствах лучей, как и, впрочем, о многом другом, так нескладно сочетать понятия и некстати приводить примеры, что самое глубокое уважение к нему становилось недостаточным, чтобы довериться его словам. К неудачам такого рода следует причислить его ссылку на Дарвина, не очень достоверную, которой Лукин обосновывал значение ультрафиолетовых лучей в наследственности.
– Дарвин полагает, – с излишней уверенностью настаивал Лукин, – что темный цвет негров не случаен.
Именно те индивидуумы выжили и передали свою окраску потомству, которым щедрое солнце дарило жизненную устойчивость…
По дороге в оперу мы завернули в кафе, и, пока нам готовили сосиски с хреном – любимое блюдо моего друга, Лукин под свежим впечатлением своих речей на семинаре стал рассказывать о чудо-лампах, излучающих жизненно важный свет. С особым удовольствием награждал он эти светильники эпитетами, заимствованными из греческой мифологии. Так, я узнал, что «Солнцеподобный» располагает теми лучами спектра, которые в зимние месяцы так необходимы жителям севера. Лампу «Аполлон» не следует смешивать с ртутно-кварцевой, в которой много вредных лучей. В спектре «Аполлона», столь схожем со спектром лампы дневного света, нет ничего вредного для человека. Свечение его близко к свечению солнца.
Я хотел было перевести разговор на другую тему, но Лукин счел важным добавить, что коровы, облученные чудо-лампами, повышают удой на тысячу литров молока в год, поросята набирают в весе примерно на двадцать процентов больше обычного, а куры откладывают на сорок шесть яиц больше в год…
Назрело время заговорить о том, что послужило причиной нашего свидания. Несколько раз мы, склонившись над едой, умолкали, как бы давая друг другу возможность начать. Мне это было весьма нелегко. Я должен был огорчить старого друга, заручиться поддержкой против его же сына. Ни в жене, ни в сыне Лукин не нашел друзей, я был единственным близким ему человеком. Он верил в мою дружбу и готовность научить и исправить Антона, и вдруг, вместо того чтобы успокоить измученное сердце отца, я принес ему огорчение.
– Как поживает Вера Петровна? – обрадовался я возможности отодвинуть предстоящий разговор. – Ты, пожалуйста, извинись от моего имени, я давно уже ее но навещал.
Лукин не любил говорить о жене и не одобрял моего расположения к ней. Он окинул меня сердитым взглядом и с чувством человека, у которого осведомляются о здоровье его злейшего врага, буркнул:
– Анастасия Павловна имеет право на такое же внимание с твоей стороны. Тебе бы следовало и ее навестить.
От моего ответа зависело, сохранит ли мой друг душевное спокойствие, необходимое для предстоящей беседы, или последует взрыв, который не скоро уляжется.
– Обязательно навещу, – возможно спокойней произнес я. – Так и передай ей.
Он знал, что жена Антона мне так же неприятна, как и ему, и все-таки продолжал:
– Анастасия Павловна любит тебя и при случае шлет тебе приветы.
Я не мог ему простить навязчивой насмешки и не без иронии спросил:
– Не об этом ли ты хотел со мной поговорить? Изволь, я к твоим услугам.
Он, видимо, как и я, решил не ввязываться в спор и, переложив в мою тарелку кусочек колбасы, придвинул мне горчичницу и со вздохом сказал:
– Заботы, заботы, не видно им ни края, ни конца…
С этим и я бы мог согласиться, заботы и меня не обходили, а некоторые даже привели сюда.
Мы ушли из кафе, так и не поговорив о главном. Лукина это как будто не огорчало, он разглядывал улицы, дворы и говорил о них, как о старых знакомых:
– В этом здании архитектор разместил окна так, словно солнце восходит с запада. В нижних этажах, куда солнечным лучам не пробраться, дети будут болеть рахитом… Наши строители много думают о том, как обогревать людей, и не задумываются над тем, как их облучать… Обрати внимание на этих глупцов, – неожиданно затормошил он меня, – они окрасили двор в светло-желтый тон, который поглощает самый важный для нас спектр солнца – ультрафиолетовые лучи. Архитекторы – первейшие наши враги, но их милости тысячи поколений людей провели свою жизнь во дворах-колодцах, куда солнце никогда не заглядывает. Нерациональная одежда и закрытые помещения с оконцами без форточек довершали несчастье – на долю человека приходились сотые доли ультрафиолетовых лучей. Неправильные застройки больше нас разлучают с солнцем, чем пыль, дым и туманы…
Он положительно не мог ни о чем другом думать и говорить. В его представлении земля тонет во мраке и его, Лукина, долг – вернуть ей утраченный свет.
– Ты, кажется, хотел о чем-то важном поговорить, – набравшись храбрости, перебил я его. – Или это не срочно?
– И ты, как будто, собирался мне что-то сказать… Хорошо, потолкуем…
Толковать, собственно говоря, не о чем было. Мой друг слово в слово повторил опасения сына и по его рецепту советовал мне совершенствовать операции на сердце и не увлекаться пустяками.
Он, видимо, вспомнил, что выказывал интерес к пересадке головы собаки, и тут же добавил:
– Я и сам прежде думал, что эти опыты важны, но, вероятно, ошибался.
Мой друг говорил необыкновенно спокойно, без свойственного ему жара и даже как будто не очень настаивал на своем.
– Что же ты предлагаешь? – заранее зная, что он скажет, с притворным интересом спросил я.
Любопытно было узнать, действительно ли он верит тому, что говорит, или, скрепя сердце, повторяет слова сына. Не подозревая, что я готовлю ему неприятный сюрприз, Лукин с сердечным простодушием стал мне подсказывать дальнейшие планы моего поведения.
– Брось свое донкихотство, оно к долголетию отношения не имеет. Мы не дети с тобой, наши дни на земле сочтены, надо круг дел не расширять, а сужать, завершить то, что начато…
– Ты не единственный, кто мне так говорит, – ответил я. – То же самое мне советуют все близкие и друзья Антона.
Мой друг не понял моей иронии и обрадовался, что его мнение разделяют и другие.
– К чему тебе собачья голова, – уже с некоторым оживлением заговорил он, – к чему тебе ложная шумиха? Наука о пересадке человеческого сердца – твое бессмертие… Завершай начатый труд.
Пришел и мой черед поучать и советовать. Я сделал это с деликатной осторожностью, зная из опыта, как болезненны укусы змеи.
– Ты рекомендуешь мне «завершить то, что начато». А ты в своей практике держишься этого правила? Долгие годы ты отстаивал для людей чистоту воздуха, воды, вел борьбу против шума в домах и на улице и, не завершив ни того, ни другого, занялся проблемой света и облучения. Какая непоследовательность, Семен Анисимович, какое легкомыслие!
– Я не ученый, – оправдывался Лукин, – я практик – солдат науки. Куда меня пошлют, туда я иду… Это неудачное сопоставление.
– Очень удачно, – возразил я, – истинно творческой натуре тесно в своей оболочке. Ей впору не на месте топтаться, а семимильными шагами землю бороздить… Пусть добытое нами совершенствуют другие, те, кто неспособен искать или не желает этого делать… Ты когда-то мне рассказывал, что есть много общего между ощущением вибрации и слухом. Всей поверхностью тела и особенно кончиками пальцев воспринимаем мы звуки и речь. Двух глухонемых даже приучили, касаясь пальцами диафрагмы радиомикрофона, воспринимать музыку… Каждый раз, когда вместо новых путей мне советуют топтаться по хоженым дорожкам, мой организм приходит в состояние вибрации.
Некоторое время длилось молчание. Лукин смотрел на дома, заглядывал в открытые ворота, и трудно было решить, думает ли он о нашем разговоре, или голова его занята другим. Сомнения рассеялись, когда мой друг отпел глаза от группы домов, расположенных полукругом на перекрестке, и задумчиво сказал:
– Эти здания задерживают движение воздуха, он застаивается во дворах, как и в узких улицах и переулках… – Последовало короткое молчание, и голос зазвучал менее твердо. – Возможно, ты и прав – надо следовать туда, куда зовет тебя сердце. Попробуй убедить такого упрямца, как Антон… Не понимают они Нас, рядом живут, а души нашей не разумеют…
Мне стало жаль Лукина и не хватило решимости к его огорчениям прибавить новые.
– Теперь говори ты, – предложил он, – послушаем.
– Да, да, у меня было к тебе дело, – сказал я ему, – но я передумал… В другой раз поговорим.
* * *
Случайно ли это вышло, или Антон умышленно приурочил свою поездку ко времени наших опытов, но долгожданную пересадку головы щенка с двумя передними лапами мы осуществили в отсутствие Антона. Операция прошла хорошо, щенок после наркоза проснулся одновременно с собакой. Он живо откликался на то, что происходило вокруг него и смотрел на пас спокойными, осмысленными глазами, жадно лакал молоко и воду, а при виде блюдца заранее облизывался. Когда у собаки повышалась температура, щенок, высунув язык, часто дышал. Связанные общей кровеносной и нервной системой, они как бы составляли сдвоенный организм и в то же время вели себя каждый сообразно своему возрасту и типу. Игривый щенок непрочь был ухватить ученого за палец, когда с ним играли, а разозлившись, больно укусить. Он также покусывал ухо собаки, когда неудобное положение причиняло ему боль. Старая собака сохраняла спокойствие, тогда как щепок не уставал двигать лапами порой с быстротой, напоминающей бег.
Когда Антон увидел на шее собаки голову щенка, он вначале усмехнулся, назвал собаку двуглавой гидрой, подразнил щенка и, не поздравляя нас с успехом, спросил:
– А что дальше, Федор Иванович? Опять какая-нибудь блажь или сердцами займемся?
С того памятного дня, когда Бурсов чуть не набросился на Антона и внутренний голос призвал меня к сдержанности, я не мог уже с Антоном иначе говорить, как с кажущимся спокойствием и даже некоторым безразличием.
– Дел много, – сказал я, – хватит на долгую жизнь. – Я подумал, что перечисление этих дел будет особенно неприятно Антону, и продолжал: – Надеемся пересаживать почки, подшивали их и до нас животным и людям, но ненадолго… Попробуем сделать лучше, может быть, удастся. Хорошо бы и легкие отдельными долями или целиком прочно пришить, чтобы нас потом не бранили, – Я видел, как Антон менялся в лице, и втайне надеялся довести его до бешенства. – Затем последует наступление на атеросклероз… Болезнь, как тебе известно, чаще всего поражает начальную часть коронарной артерии, питающей сердечную мышцу. На коротеньком участке в два-три сантиметра сужается просвет сосуда, и в результате – сердечные боли, инфаркт сердца и паралич. Мы когда-то удачно с этим справлялись – вызывали у собаки сужение сосуда и вшивали идущую рядом с сердцем артерию в коронарный сосуд ниже места его сужения… Проделаем несколько опытов, авось и хирурги обратят на это внимание…
Антон был спокоен, он даже не грыз ногтей, уравновешенный взгляд выражал удовлетворение. Можно было подумать, что я на сей раз ему угодил. Он покружился по комнате и с видом человека, не знающего разочарования, сказал:
– Работы действительно на целую жизнь, на все дни и ночи без перерыва, а когда мы будем жить? Наслаждаться выпавшим на нашу долю счастьем? Вы напоминаете мне отца. Он глубоко уверен, что день и ночь надрываться за работой, разоблачать, привлекать и одерживать победы в камере народного суда – неповторимое счастье.
Я не терял надежды досадить ему и задал вопрос, над которым он вряд ли когда-нибудь задумывался.
– У тебя, конечно, свое представление о счастье?
– Да, свое, – с непререкаемой уверенностью произнес он.
– Расскажи.
Он поверил, что я задал этот вопрос всерьез, и недолго думая, выпалил:
– Жить – значит наслаждаться. Там, где нет наслаждения, нет и жизни.
Мой ответ крайне его удивил:
– Так вот, и я так думаю. Все, что не приносит мне удовольствия, я отвергаю. Теперь договоримся, что следует понимать под «наслаждением». Я, например, признаю то из них, которое никогда не приедается, всегда желанно и обостряет наши чувства для последующих радостей. Уж так построен человек – либо он свои чувства обостряет, либо притупляет, третьего не дано.
– Простите, Федор Иванович, за откровенность, но ведь это игра в «кошки-мышки». Вы придумываете себе цели и считаете себя счастливым, добравшись до них. Это все равно, что наставить колышков на дороге и ползти от одного к другому.
Между мной и этим варваром лежали века, не коснувшиеся его сознания. Оп был уверен, что природа ставит нам цели, а мы – слепые слуги ее. Наши цели действительно нами придуманы, мы их творцы и слуги, но мы свои колышки натыкаем не иначе как по высокому велению общественного долга и собственных склонностей. Объяснять это Антону было бессмысленно, и я сказал:
– Твои наслаждения не греют и не очень тебя веселят. Ты не знаешь, куда порой деться от скуки, а мне в моей жизни некогда было скучать. Не потому, чтобы времени не было, я в радостях утопал. Вокруг меня шла битва за последние тайны природы, один за другим срывались покровы, и я не был среди тех, кто сидел сложа руки. В муках и пламени отливались новые формы общественной жизни, шла жестокая схватка, и мне хотелось узнать, кто возьмет верх…
Я прекрасно понимал, как бесплодны мои речи, уверения и доказательства. Предо мной во весь рост стояла посредственность со своим миром, насыщенным страхами, сомнениями и мудростью, рожденной расчетом и трусостью. Где ему, скованному мелким честолюбием, подняться выше собственного настроения! И все же мне доставляло удовольствие видеть его встревоженный взгляд и плохо скрываёмое смущение, когда мои доказательства вынуждали его изворачиваться и поспешно менять тему разговора.
– Вы забываете, что вас окружают помощники, – не то жаловался, не то упрекал он меня, – им нет дела до ваших высоких порывов, они жаждут славы и наград. Вам не нужно ни то, ни другое, а для нас и то и другое желанно. Нам не угнаться за вами, не делайте мучеников из нас.
Смахнув, с пьедестала высокие идеи добра и зла и водрузив на их место обнаженное тщеславие, Антон снова почувствовал себя в своей стихии, где уверенность неизменно сопутствовала ему.
– Посредственности мучениками не бывают, – успокоил я его. – У них с жизнью короткие и несложные расчеты. Они обходятся без таких сомнительных абстракций, как долг, совесть и честь, любовь к народу и отечеству. Щедрая награда примирит их с любым законом… А меня, пока я жив, тебе все-таки придется догонять. Лишь после моей смерти тебе, моему ученику и последователю, станет легче. Вся работа твоя сведется к охране научного наследства, соблюдению его в чистоте и непогрешимости. Делая вид, что охраняешь мои труды от извращений, ты ни себе, ни другим не позволишь обогащать их новыми идеями… Ради такой перспективы тебе стоит и потерпеть.
Это было уж слишком даже для терпения Антона. Он слабо усмехнулся и сказал:
– Не слишком ли вы против меня ополчились?.. Вы в самом деле считаете, что между нами ничего общего нет?..
– Зачем? – перебил я его. – Нас единственно разделяют философские взгляды… Мне порой, например, на земле тесно, а тебе любая дыра – отечество. В твоем мире нет друзей и никому ты не нужен, все люди – волки, и ты в этой стае такой же. Друзей и учителей ты отбираешь не по признакам ума и порядочности, а по тому в какой мере они готовы чем-нибудь для тебя поступиться. Твоя философия убедила тебя, что природа фабрикует слишком много брака и разборчивость в людях бесполезна… Мои правила отбора подсказывают мне, что нам пора расстаться. Друзьями мы с тобой не будем. Нас единственно разделяют философские взгляды, но этого достаточно, чтобы мы стали врагами – и навсегда…
На следующий день Антон уехал в командировку, а десять дней спустя он лежал у моих ног мертвым.