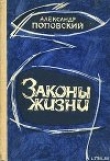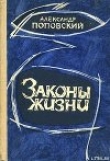Текст книги "Повесть о жизни и смерти"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
То ли сама лаборатория, где мои мысли напряжены, настраивает меня на творческий лад, то ли близость препаратов и запах химикалиев благотворно действуют на мое воображение, кто знает… Было уже около десяти часов вечера, когда в дверь постучались и вошел Антон. Его неожиданный приход не удивил меня. Мы в последнее время подолгу задерживались на работе. Он выглядел озабоченным и, после обычных заверений, что не отнимет у меня много времени, сразу же перешел к делу.
– Меня очень беспокоит, – начал он, – что наши успехи ничем не прикрыты и не защищены. Хороший хозяин держит под замком дворовый хлам, а мы драгоценности оставляем без присмотра.
Благонамеренное усердие моего помощника показалось мне подозрительным. Я знал его практическую смекалку, но все еще не понимал, какие материальные ценности он собирается отстаивать и от кого.
– Говори яснее, в чем дело, – нерасположенный в тот момент к его иносказаниям и манерничанию, предупредил его я. – Тебе пора научиться говорить кратко и точно.
Он сразу же согласился и стиль торжественного многословия сменил лаконическим.
– Нам нужен заявочный столб, чтобы никому повадно не было…
Мне показалось, что Антон дурачится, и я без излишней деликатности предложил ему уйти.
– Тебе я вижу делать нечего, а меня ждет работа. До свидания, мой друг.
Не в правилах Антона было обижаться и принимать к сердцу мои замечания. Он со скучающим видом взглянул на меня, перевел взгляд на исписанные листы бумаги, лежавшие на столе, и, не спрашивая разрешения, вслух прочитал: «…Дабы наши ошибки при операциях на животных не повторялись хирургами, мы сочли долгом поделиться горьким опытом неудач, возникших как по нашей вине, так и независимо от нас…»
– Что за список прегрешении? – с ненавистной для меня усмешкой спросил он. – Для кого это составили вы?
– Для журнала, – ответил я.
Он был озадачен и недоволен. Его манера почтительно разговаривать со мной едва скрывала всю глубину неприязни к моей затее. Я намеревался рассказать, с каким трудом давались нам наши успехи, и предостеречь других от этих ошибок. Нам нечего утаивать. Бывало, и не раз, что от недостаточного обеззараживания погибали животные. От плохо сделанных артериальных швов наступало смертельное кровотечение и гибли плоды многодневных трудов. Случалось, что междуреберные артерии, поврежденные и вовремя не перевязанные, губили опыт, а с ним и животное. Сколько раз из-за какой-нибудь малости – недостаточно откачали воздух из грудной клетки, недосмотрели, и дыхательная трубка выпала из гортани – опыт приходилось начинать сначала… Одну из собак тотчас после операции отправили в клинику, поторопились и тем сгубили ее…
– Ты, вероятно, эти случаи помнишь, – закончил я, – они происходили на твоих глазах.
– Вот это заявочный столб! – не сдержался и выпалил Антон. – Удивительно, до чего вы, дядя, непрактичны и легковерны! Так ли разделываются со своими успехами? Какой-нибудь младший научный сотрудник чуть улучшил чужую методику или только подумал, что это возможно, и, глядишь, в журнале торчит уже заявочный столб. Так, мол, и так, первое место за мной. Кто бы этим делом ни занялся, должен свою заслугу с ним поделить… Никто и в претензии не будет, люди любят, чтобы их немного обманывали…
Так вот что беспокоило Антона – он опасался, что наши успехи достанутся другим! Стоило ли из-за этого от дела меня отрывать!
– Истинное открытие, – сказал я ему, – ни похитить, ни похоронить нельзя. Леопольд Ауэнбруггер, после того как он выяснил, что выстукиванием грудной клетки можно распознавать состояние легких и сердца, сорок восемь лет отстаивал свое открытие. За год до смерти престарелый ученый убедился, что дело его жизни не погибло – лейб-медик Наполеона Корвизар перевел книгу с латинского на французский и собственным авторитетом приумножил славу ученого.
Пример не произвел на Антона ни малейшего впечатления, он пригнулся к моему уху и размеренно, четко проговорил:
– Я решительно не советую публиковать статью в таком виде. Часть ученых ее не поймет, другая в ней увидит одни провалы и посмеется над вами. Не понравятся ваши грехи и в министерстве – там ведь не ошибок, а успехов ждут. Не все так честны и искренни, как вы. Не оценят статью и в нашем институте. Не слишком ли много ошибок, спросят вас, недосмотра и непростительных промахов, где были глаза заведующего лабораторией? Хвастать такими делами – значит чернить институт! Пора вам запомнить, – продолжал мой племянник меня поучать, – чины и звания достаются не за ученость, а за рвение, за умение товар лицом показать… Как хотите, Федор Иванович, но слава других путей не знает…
Глава восьмая
Не прошло и месяца, как мы снова с Антоном повздорили, опять без серьезного повода и даже вне связи с кругом наших дел. Кто бы подумал, что невинная беседа на литературную тему так взбудоражит меня? Возвращаясь мысленно к тем дням, когда это случилось, и перебирая в памяти причину, вызвавшую наш разлад, я начинаю понимать, что не в ссоре дело – для созревшей вражды всякий повод хорош. Мы не были еще тогда врагами, но предчувствовали, что до неизбежной схватки остается немного. Мы не могли разойтись и предотвратить несчастье, для этого было достаточно причин. Я считал себя связанным узами родства и долгом педагога, призывавшим мою совесть к терпению. Антон не мог от меня уйти, потому что слишком многого ждал от меня и, видимо, считал себя почти у цели. Он дал мне это однажды понять в полушутливой, полусерьезной форме:
– При жизни вы от меня не отделаетесь, я накрепко привязан к вам.
Тогда я был склонен принять это за шутку, теперь я оценил могущество пут, свитых его ловкими руками.
Спор возник из-за журнальной статьи, которую я предложил написать Антону. В ней не было особенной срочности, мне просто хотелось доставить ему удовольствие.
– Тебе представляется случай, – сказал я, – оказать науке услугу и заодно расположить к себе клиницистов. Они не забудут того, кто, экспериментируя на животных, думал о человеке и о своем долге перед медициной.
Предложение как будто понравилось ему, он близко подсел ко мне и приготовился слушать. Я был уверен, что Антон обрадуется случаю выступить по серьезному поводу в научном журнале и не преминет, конечно, наговорить мне всяких любезностей. Мне было небезразлично, как он отнесется к материалу, и я самым серьезным образом ему рассказал:
– У старых животных наблюдается часто расширение легких, вызванное отмиранием эластичной ткани и заменой ее малоупругой соединительной. Чтобы сохранить жизнь такого животного при операции и облегчить его дыхание, я щедро насыщаю организм кислородом.
Посоветуй хирургам, – предложил я Антону, – чтобы и они, оперируя в грудной клетке стариков, не оставляли их без искусственного дыхания. Эмфизема – неприятная вещь, мы обязаны с ней считаться. Как ты находишь, Антон, пригодится наш опыт врачам? Или я переоценил его значение?
Он кивнул головой, что могло означать и да, и нет. Из опыта я знал, что подобного рода неопределенность таит в себе всяческие неожиданности.
– Случается, – продолжал я, – что во время операции исчезает электрический ток или аппарат искусственного дыхания приходит в негодность. Опасность велика, но избежать ее нетрудно – любой из присутствующих в операционной может своим дыханием спасти больного. Ведь выделяемый нами воздух на четыре процента лишь беднее кислородом, чем окружающая нас среда. Зато углекислоты, благотворно действующей на дыхательный центр, в нем на сорок процентов больше… Не правда ли, дельная мысль?
Мой собеседник снова кивнул головой, не проронив ни слова.
– И еще один совет врачам, – закончил я. – Мы не раз наблюдали при операции в груди, как вдруг стремительно падает кровяное давление. Грозное предостережение, а никому в голову не приходило, что незначительный нажим на грудную аорту сразу же повышает давление крови в коронарных сосудах и в головном мозгу. Нарастает сила сердечных сокращений, а это в свою очередь еще больше повышает давление кровеносного тока… Не правда ли интересно? Нужная статья, ничего не скажешь.
Нужная, не спорю, Федор Иванович, – лениво покручивая свисающий локон на лбу, проговорил он, – только не нам, а другим. Ни мне, ни вам от этой статьи теплей не станет. Жди признательности от нашего брата клинициста – проглотит и спасибо не скажет.
Удивительный человек! Ничего еще не сделав и никому не оказав какой-либо услуги, он подсчитывает уже барыш. Как можно доброе дело измерять благодарностью? Когда этот варвар наконец образумится?
– Пе поблагодарят нас врачи, – пытался я ему внушить, – больные не забудут. Ведь не для себя хирург наши советы припрячет. Не понимаю я тебя, ведь ты говорил, что любишь гласность…
Антон ухмыльнулся внезапно осенившей его мысли, потер руки от удовольствия и издал звук, напоминающий крик ворона, угодившего на вкусную трапезу.
– Уж если писать, то не об этом. Есть у меня на примете ходкая тема, я кое-где уже прощупал, говорят, пойдет. Вот когда народ всполошится.
Он вдруг заговорил на языке своих друзей-собутыльников, словно я был одним из них. Забавна была новая для моего слуха интонация, поразительны развязные жесты, мимика и лексика рыночного зазывалы.
– Вы как-то говорили, – не выжидая моего согласия, принялся он выкладывать свою «ходкую тему», – что больные, вышедшие из состояния клинической смерти, если их оживление затянулось, – неполноценны. Что если таких людей пустить в оборот, сделать базой органов и тканей для других?
То, что он предлагал, было настолько чудовищно, что я усомнился, правильно ли я понял его.
– Ты рекомендуешь убивать тех больных, которым врачи по неопытности не сумели сохранить кору головного мозга?
– Наоборот, – совершенно серьезно уверял он меня, – мы продлим их жизнь в другом организме. Одного человека хватило бы на десять больных…
Этот варвар меня напугал. Я едва собрался с мыслями, чтобы ответить ему.
– Как могло это прийти тебе в голову? Ведь ты врач – наперсник больного, его первый друг. Не стыдно ли тебе его, слабого и беспомощного, потрошить? Твоя ужасная статья рассорит нас с больными, пойдут толки, что мы готовим уродов, чтобы потом их кромсать…
Я знал, как трудно Антона переубедить, и напряженно думал над тем, как его отвратить от нелепой затеи. Я искал опору в нравственных правилах людей далекого и недавнего прошлого, мысленно прикидывал уже, на кого бы из наших друзей опереться, когда Антон вдруг мягко коснулся моего плеча и с той милой улыбкой, которая не раз умасливала мое сердце и смягчала мой гнев, сказал:
– Не хотите, Федор Иванович, уступаю… Сойдемся на другом. Я выполняю вашу волю – пишу статью, снабжаю хирургов добрыми советами моего дядюшки, одним словом, использую материал, как вам будет угодно, и подписываюсь своим малоизвестным именем. Что значит для ученого, насчитывающего сотни работ, маленькая статейка в триста строк. Давно вам пора и обо мне вспомнить.
Он опять меня ставил в трудное положение. Пора ему, конечно, появиться в печати, но ведь никто не поверит, что эти наблюдения сделаны им. Скажут – дядя выводит племянника в люди, насаждает в науке фальшивые имена. Мне было решительно безразлично, чья подпись украсит статейку, но это обязывало меня каждому, кто усомнится, действительно ли Антон – автор статьи, солгать, а для убедительности свою ложь разукрасить небылицами. Задача была не по мне, и я не без сожаления сказал:
– На этом мы с тобой не сойдемся. Твоему имени обеспечено место рядом с моим… Нельзя научную карьеру начинать ложью.
Антон воспринял мой ответ как почву для последующего торга. В этом искусстве трудно было его превзойти.
– Не хотите подарить мне свое местечко на статье, дайте его мне взаймы. Я расплачусь полной монетой. Вы не пожалеете. Кто станет подсчитывать, что мое и что ваше, ведь мы работаем рядом, как говорится, за одним станком.
Меня оскорбляли его мелочные расчеты и притязания, я не мог ему позволить продолжать разговор и резко сказал:
– Оставь свои глупости, они мне неприятны.
Он, видимо, надеялся, что я все-таки уступлю, и, состроив обиженную физиономию, по-детски шепелявя, продолжал клянчить:
– Вы упускаете случай пристыдить своих коллег-ученых, – с ужимками, сделавшими бы честь завзятому барышнику, произнес он. – Они ведь мастера присваивать себе труды помощников. Покажите им пример благородства… Сделайте эксперимент!
Антон впервые за все время опустился на стул и с деловой усмешкой спросил:
– Договорились?
Я не стал его больше слушать и ушел.
Поздно вечером того же дня ко мне на квартиру пришла Надежда Васильевна. Она не часто жаловала меня своим приходом, но я был ей благодарен и за те редкие минуты, которые она мне дарила. В последнее время чувство одиночества томило меня, и не давали покоя грустные мысли. Я уставал вести бесконечные разговоры с собой, мысленно спорить, домогаться ответа и оправдываться. Усталый от бесплодных размышлений, я стал рассеян и не очень внимателен к другим. Так, в разговоре с моим знакомым ученым я как-то ответил ему невпопад. Оп, должно быть, догадался о моем состоянии, поправил меня и сказал: «Ничего, ничего, это бывает, случается иной раз и со мной». Дома ли, в лаборатории, сплин мой держался лишь до появления Надежды Васильевны. От первых же ее слов, от одного лишь вида ее ко мне возвращался утраченный покой.
Моя помощница выглядела не то усталой, не то чем-то расстроенной. Она извинилась, что так поздно пришла, не предупредив меня по телефону.
– Захандрила и прибежала сюда, – удобно усаживаясь в кресло и высоко запрокинув голову, сказала она, – скажете – нехорошо своей тоской людей волновать. Благоразумные люди уткнут голову в подушку, поплачут вдосталь, и делу конец…
Ей было не до шуток, и голос, и взгляд говорили о другом. Я сделал вид, что не слышу иронии и не вижу тревога в ее глазах.
Она вскочила с кресла, бросилась на диван и, уткнув голову в подушечку, замерла.
– Что с вами, мой друг, – взяв ее руку, спросил я, – что вы голову, будто сердечник луговой перед ненастьем, склонили. И откуда у вас хандра? Обязательно у кого-то подхватили. У Блока ли, Бальмонта или вовсе у Есенина, сознайтесь!
Надежда Васильевна оторвалась от подушечки и, болезненно усмехаясь, сказала:
– Если бы вы знали, зачем я пришла, вы бы дверей мне не открыли. Меня поставили перед выбором – остаться верной вам или стать сообщницей вашего врага. «Федор Иванович, – было сказано мне, – считается с вами и не откажет, если вы попросите его… Похлопочите, я в долгу не останусь». Не за многим дело стало – надо Антону Семеновичу позволить свершить благородную кражу… Как мне за него не похлопотать?
Чтобы отвлечь мою гостью от невеселых мыслей, я решил обратить слова ее в шутку и с торжественной миной проговорил:
– Рад бы способствовать благородной краже, но боюсь как пособник утратить потом расположение сообщницы.
Печаль моей гостьи понемногу рассеялась, и рука ее, приложенная к сердцу, подтвердила, что этой благодатной перемене она обязана мне.
– Вы только подумайте, – со смешанным чувством гнева и боли проговорила она, – так обидеть и требовать после этого, чтобы я… – Она почему-то смутилась, внезапно умолкла и с той же горечью в голосе продолжала: – Расскажи ему, не надумали ли вы вернуться к прежним работам… Да, надумал, говорю я ему, – собаке приживлять голову щенка. Он расхохотался и обозвал вас сумасшедшим. «Я, – говорит, – этой глупостью заниматься не буду».
– Тем лучше, – сказал я Надежде Васильевне, – мед, собранный с ядовитых цветов, не приносит людям пользы… Когда я думаю об Антоне, мне приходят на память опыты над культурой тканей. Они, как известно, могут в питательной среде жить и развиваться десятилетиями, пережить организм, из которого взяты, но никогда органа не образуют. Зародышевая ткань останется такой же и никогда в этой среде не созреет. Развиваться могут только клетки, которые сложили свои силы и связали себя с судьбой всего организма… Антон не чувствует себя связанным ни с наукой, ни с народом, он слишком занят собой и житейскими радостями, от которых оторваться нет у него сил.
– Это слишком туманно, – произнесла она с той уверенной легкостью, с какой женщины отвергают всякую попытку простое и ясное сделать сложным и глубоким. – Вы должны запомнить очевидную истину – Антон завидует вам, ему ненавистно ваше духовное превосходство.
– Завидовать мне? – удивился я. – Не поверю, да и незачем.
– Он таланту вашему завидует, себя он хорошо знает, – настаивала Надежда Васильевна.
– Да ведь он молод, ему ничего не стоит меня перещеголять. Что значит талант? Ведь это слово, как и «гений», ничего не выражает. Наивные люди полагают, что у иных счастливцев в мозгу заделана штучка, которая их выделяет из общего круга людей. Не так уж природа скупа, чтобы на миллионы людей дарить нам способного одиночку. Особенных людей сколько угодно, каждый человек в своем роде особенный, дайте ему только правильно себя проявить. Не всем дано сберечь и взрастить свое дарование, у таланта характер крутой – подай ему пота и сил, страстную веру и готовность переносить лишения… Не талант нужен Антону, понадобится – он найдет его в себе, ему выдержка нужна, душевные силы против искушения бежать из научной неволи… Он раньше от науки спасался в пивной или в бильярдной. Теперь уверил себя и других, что его отлучки из лаборатории жизненно нужны стране… И я когда-то думал, что Антон бездарен и туп, ничего в науке не смыслит. Стал расспрашивать его, вижу – знает, и смекалка, и память хороши. Одного не хватает – страстной влюбленности в дело. Науку он запомнил как знакомую дорогу – ориентиры, повороты и ничего больше. По этим путям до него ходили и будут ходить другие, не его это родная дорожка, не за что ее любить, не стоит и распинаться…
Надежда Васильевна с чувством признательности взглянула на меня и чуть покраснела. Так выглядит человек, который, проделав сложный умственный экскурс, доволен его результатами. Теперь мои рассуждения не казались туманными и даже понравились ей:
– Какой вы умница! Знали бы вы, с каким удовольствием я слушаю вас! – Она произнесла это с той непринужденной простотой, которая всегда трогала меня. Я знал, что за этим признанием дрогнут ее брови и длинные ресницы надолго закроют глаза. Она приподнялась с дивана и с какой-то новой для меня интонацией продолжала: – И не только слушаю, но и наблюдаю за вами.
Особенно за работой, когда сосредоточенно-грустное выражение вашего лица сменяется выражением отрешенности, голос падает до шепота, взгляд скользит, не угонишься за ним… Неожиданно выросло препятствие, и вы снова другой, не зодчий, кладущий камень за камнем, а боевой командир. В голове лихо несутся планы, проекты, неутомимая машина выбрасывает их один за другим. Я словно слышу ее жужжание и короткие возгласы: «Что если так?», «Почему невозможно?», «А если иначе?», «Надо продумать, ага, вот так!..» Еще один щелчок чудесной машины, и озабоченный взгляд проясняется. «Только так и не иначе, – решительно бросаете бы, – никаких уступок, начинаем!» Удивительный вы человек, Федор Иванович, – пряча лицо в подушку, говорит она.
Ее речь будоражит мои мысли. За каждым словом мне мерещатся волнующие, желанные признания. Воображение заходит так далеко, что я вникаю в их скрытый смысл. Ответить ей тем же, подавить свою робость мне трудно, я могу лишь с благодарностью взглянуть на нее. Она умолкает, и мне сразу же становится грустно. Непрошеная мысль напоминает мне, что милая гостья скоро уйдет, и с ее уходом вернется чувство одиночества. Я утешаю себя тем, что с ее новым приходом в доме и на душе опять водворится порядок…
Я должно быть долго продумал. Надежда Васильевна успела подняться, пройтись взад и вперед, поправить платье и оглядеть себя в зеркале.
– Меня очень беспокоит Бурсов, – склонившись к подзеркальнику и рассматривая безделушки, расставленные на нем, неожиданно сказала Надежда Васильевна. – Он так невзлюбил Антона Семеновича, что малейшего повода, кажется, достаточно, чтобы они сцепились. Этот смирный человек в гневе ужасен. Он и меня пугает порой. Я как-то неосторожно при нем оговорилась… мало ли что брякнешь в горячую минуту… сказала, что Антон Семенович скверно обошелся со мной… Он так долго и настойчиво расспрашивал меня, пока не узнал больше, чем ему следовало знать… Теперь этот задира ждет случая, чтобы схватиться с ним… Как Антон Семенович не понимает, – неожиданно закончила она, – что ему следует оставить нас.
Я подумал о несчастной любви Бурсова, и на память мне пришло одно из его признаний, случайно дошедшее до меня, и ответ Надежды Васильевны: «Я устала от любви, пора вам, Михаил Леонтьевич, запомнить… Не полюбил меня тот, кого я полюбила, другой обманул мои чаяния, а теперь пришли вы…»
– Поговорите с Бурсовым, – попросила меня Надежда Васильевна, – Михаил Леонтьевич вас любит и послушается… Объясните ему, что грубостью такие вещи не решаются… Обещайте, прошу вас… А теперь, – вздохнув с облегчением, добавила она, – поговорим о другом.
* * *
Из очередной командировки Антон привез с собой новость, которая прежде всего обрадовала его самого. Он с упоением рассказывал о людях, чьи добрые советы воодушевили его и напомнили о долге перед наукой. Красочное описание собственных чувств и благородства тех, с кем судьба его свела на побережье Черного моря, грозило затянуться, и я начинал проявлять нетерпение. Ему казалось важным отметить и служебное положение, и общественный вес его новых друзей, их связи, а главное – готовность пожертвовать всем для него. Чтобы излишние описания не наскучили мне, он насыщал их шутками, многозначительно намекая на высоких персон, стоящих за спиной этих во всех отношениях приятных людей.
– Нам представляется возможность, – после торжественной паузы и для пущей убедительности низко склонившись надо мной, проговорил он, – выступить с докладом в Академии медицинских наук. Ваше слово – основное и временем но ограничено. Мое – дополняющее и краткое. Спросите, как это возможно, ведь институт наш не входит в состав академии? Откуда, наконец, такой интерес к нашим успехам? Эта ведомственная неувязка не должна вас смущать, все учтено и предусмотрено… Стенографический отчет поступит в «Природу», где нам обеспечен радушный прием… – На лице Антона сверкнула улыбка, достаточно красноречивая, чтобы я прочитал в ней примерно следующее: «Вот как, дядюшка, надо жить…» – Я не раз вам говорил, – с любезной назидательностью продолжал он, – берегите друзей, она – фундамент нашего благополучия, принимайте их, угождайте их привычкам и вкусам, делайте вид, что следуете их советам, не обнаруживайте, что они вам надоели, и вы будете щедро награждены.
К чести Антона надо сказать, что его вера в непогрешимость этих принципов была так велика, что он с одинаковой готовностью излагал их в интимном и широком кругу. Присутствовавшие при этом Надежда Васильевна, Михаил Леонтьевич, две лаборантки и уборщица нисколько не стесняли его. Склонность Антона к «публичности», как он выражался, и ухищрения его изобретательного ума положительно не нравились мне. И «заявочный столб», и статья об «оживленных телах», чье назначение обслуживать собой хирургов, и предстоящий доклад были рассчитаны на сенсацию. Не славой, а бесславием грозили они мне. Он становился опасным, и я впервые подумал, что одному из нас не место в лаборатории.
– Не скажешь ли ты мне, – спросил я Антона, – зачем это нам? Мы взбудоражим людей пустыми обещаниями. Кто знает, удастся ли врачам добиться того у постели больного, что нам удается на собаках? Другое дело, если хирурги согласятся наше дело продолжать. Тогда и докладывать и в газетах печатать не грех.
Мои слова не удивили и не огорчили Антона, он продолжал, словно меня не было возле него.
– Мы обязаны, Федор Иванович, давать о себе знать, напоминать, что мы живы, не то о нас забудут. Вы но знаете, до чего люди забывчивы, год-другой о человеке не вспомнят, и его словно не было. Нам нужна слава, а зависит она от отдельных людей…
Я заметил, что Михаил Леонтьевич сорвался с места и сделал шаг к нам. Выражение его лица было угрожающе злым. Я вспомнил опасения Надежды Васильевны, что столкновение Бурсова с Антоном может закончиться скверно, и выпроводил Михаила Леонтьевича из лаборатории. Словно ненависть Бурсова передалась мне, я почувствовал к Антону отвращение. Все дурные инстинкты поднялись во мне, чтобы толкнуть на скверную выходку. Прежде чем я придумал, как вернее уязвить этого недостойного человека, внутренний голос мне подсказал: «Ты не можешь уподобляться Бурсову, он молод и горяч. В твои годы горячность не столько свидетельствует о гражданском мужестве, сколько об отсутствии того, что принято называть мудростью. Есть казни пострашней расправы, они лишают врага его сильнейшего оружия – уверенности и спокойствия».
– Нужна, говоришь, слава? – с уравновешенной сдержанностью, которая меня самого удивила, спросил я. – Мне она ни к чему! Пусть те вокруг нее увиваются, кому без нее жить нельзя.
Антон провел рукой по своей русой шевелюре, что служило свидетельством серьезных затруднений в глубинах его сознания, искоса взглянул на Надежду Васильевну, возможно, полагая найти у нее поддержку, и, словно перед ним была аудитория отпетых честолюбцев и карьеристов, с насмешливой уверенностью сказал:
– Не спешите отказываться. Слава поможет вам крепче держаться на ногах, обеспечит положение, при котором все не только возможно и дозволено, но и всякую вашу ересь сочтут за откровение, и никому в голову не придет сомневаться. Слава – мощная машина, она многим позволяет жить без забот и исправно на них работает…
Я знал, какое применение лентяи делают из славы, и скорее из озорства, чем из любопытства, спросил:
– Не слишком ли рано приглянулась тебе слава? Мне в твои годы советовали больше трудиться.
Мой вопрос не застал его врасплох. На всякого рода житейские вопросы у него был готовый ответ. Он был тверд и принципиален в своей беспринципности.
– Благоразумные люди, прежде чем отдаться науке, – наставлял он меня, – обеспечивают себе положение. На одних знаниях далеко не уйдешь… Науке недостаточно, чтобы ее любили, она требует, чтобы ее баловали, украшали и ничего для нее не жалели…
Чем наглее и навязчивее становилась его речь, тем спокойней и уверенней были мои ответы.
– Рассуждения любопытные и, вероятно, многим понравятся, – заметил я, – но, должно быть, чертовски трудно создать себе положение из ничего. Это как будто одному лишь богу удалось, и то один только раз… Объясни мне, дорогой мальчик, к чему тебе этот доклад в академии?
Ничего более вразумительного он сказать не смог, и я перестал его слушать. Убедившись, что я непреклонен, Антон заговорил о другом.
– Вы действительно намерены пересаживать собакам головы щенков? Я, признаться, не очень этому поверил. Как можно в лаборатории, где были пересажены десятки сердец, в этом святилище науки такими пустячками заниматься.
Примерно то же самое и с тем же сознанием собственного превосходства говорил он, когда я науке о клинической смерти предпочел опыты по пересадке сердца животных. Верный своему правилу обходиться без аналогий и сопоставлений, не связывать настоящее с минувшим, Антон, естественно, не мог себя ни в чем упрекнуть. Как не мог изменить своему другому правилу – видеть в новшествах и переменах повод для тревоги. Для него они были равнозначны нескромности, неумеренной претензии, «противоречили трезвому взгляду», «выглядели беспочвенными» и, естественно, «вызывали насмешку». Мораль века – не излишествовать, а довольствоваться немногим. Малоуспевающим никто не завидует. Шумный успех – вызов большинству, тому самому, которое определяет нашу судьбу.
– Пересаживать головы! Надо же такое придумать, – не успокаивался Антон. – Вы полагаете, что и людям такого рода манипуляции пригодятся?
– Нет, – ответил я, – впрочем, это дело хирургов. Мы рассматриваем нашу работу, как чисто экспериментальную. Те, кто этим занимались до нас, ограничивались немногим: с помощью искусственного прибора они поддерживали жизнь в отсеченной голове лишь в течение нескольких часов. Мы надеемся ее приживить, создать для нее нормальную и естественную среду в чужом организме.
Я намеренно не упомянул причин, побудивших нас этим заняться, чтобы не лишить Антона возможности досыта побалагурить. Завязавшийся поединок уж тем был хорош, что позволял мне заглянуть в нутро человека, недавно еще близкого, сейчас весьма далекого от меня. Ничто так не могло убедить меня в этом, как наша мирная дуэль в присутствии женщины-секунданта.
– Я часто спрашиваю себя, – тоном сдержанного осуждения говорил Антон, – где и на чем вы остановитесь? Когда закрепите свои позиции и утвердите свое имя в науке? Вы напоминаете летчика, который носится в небесах, не помышляя о запасах горючего и о выносливости самолета.
Я прекрасно его понимал. Ему надо было задержать мою мысль, угнаться за ней у него не хватало сил. Мы ни в чем так не расходились, как в понимании цели и долга перед наукой. Увлеченный новой идеей, я без размышлений отдавался ей. Безграничная покорность не лишала меня свободы и не делала рабом. Насладившись идеей, трудными поисками и удачами, я легко расставался с ней. Словно не было в прошлом счастливых и грустных минут, я, следуя к новой цели, мог о старой не вспоминать…
– Долг мой, дядя, предупредить вас, – с неожиданно пробудившейся нежностью заговорил Антон, – что вы попираете собственные интересы, топчете ногами то, о чем другие смеют лишь мечтать… Вы набрели на золотую жилу, сумейте же использовать ее. Вам величия и славы на всю жизнь хватит, хотя бы вы до конца дней палец о палец не ударили. Сколько ученых так прекрасно устроились, натворили в дни молодости чудес на грош и до старости этим спасаются. Как вам будет угодно, я собачьими головами заниматься не могу, придется эти опыты проводить без меня.
Неожиданное заявление Антона не удивило меня, я был к нему подготовлен. Меня даже обрадовала его неосмотрительность. Нелегко ему будет теперь продолжать поединок.
– Ты так рассуждаешь, словно не я, а ты несешь ответственность за лабораторию, – с преднамеренной холодностью проговорил я. – Не советую тебе настаивать, мне не хотелось бы беспокоить директора нашими спорами.
У Антона были чудесные нервы. Можно было позавидовать тому, как искусно он меня осадил:
– Я имел в виду, что общественные обязанности могут меня отвлечь в самую пору опытов. Надо ко всему быть готовым…
Наш секундант не стерпел и вмешался. Надежда Васильевна спокойно приблизилась к нам и со сдержанностью, которая, видимо, стоила ей немалых усилий, сказала: