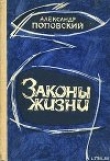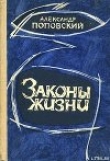Текст книги "Повесть о жизни и смерти"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Александр Поповский
Повесть о жизни и смерти

Глава первая
 Удивительно, до чего наш ум изощрен, до чего изобретателен, когда ему противостоят наши чувства. Как мало значат для него сердце, душа, голос интуиции и могучий дар предков – инстинкты. Что этому непрошеному наставнику, придирчивому судье, до чаяний души! Он отравит наши дни бесплодной тревогой, недобрыми воспоминаниями и водворит в сердце разлад. Не силой трезвых убеждений одерживает он свои победы, а назойливым повтором истин, последовательных и безупречных, как судебный приговор. И в радостях, и в печалях, и днем, и среди ночи будут неистово звучать внушения рассудка… Вот и сейчас они уводят меня к печальным событиям, ставшим для меня источником страданий. Напрасны мои старания не думать о них – мой суровый судья не оставляет меня в покое…
Удивительно, до чего наш ум изощрен, до чего изобретателен, когда ему противостоят наши чувства. Как мало значат для него сердце, душа, голос интуиции и могучий дар предков – инстинкты. Что этому непрошеному наставнику, придирчивому судье, до чаяний души! Он отравит наши дни бесплодной тревогой, недобрыми воспоминаниями и водворит в сердце разлад. Не силой трезвых убеждений одерживает он свои победы, а назойливым повтором истин, последовательных и безупречных, как судебный приговор. И в радостях, и в печалях, и днем, и среди ночи будут неистово звучать внушения рассудка… Вот и сейчас они уводят меня к печальным событиям, ставшим для меня источником страданий. Напрасны мои старания не думать о них – мой суровый судья не оставляет меня в покое…
Это случилось ранней весной в безоблачный теплый день. В том году как-то сразу отступили морозы, холодное солнце потеплело, и за окном лаборатории замелькали первые вестники весны – краснолобые коноплянки и нарядные овсянки. Мне тогда было не до птиц, и сияние солнца не радовало меня. Виной этому был сотрудник моей лаборатории, мой племянник Антон Семенович Лукин. Он опять куда-то пропал и с конца прошлой недели не показывался мне на глаза. Так бывало с ним не раз: не сказав ни слова, он вдруг исчезал и так же внезапно появлялся. Ничего с ним при этом не происходило, он не болел, не бражничал с друзьями; его неожиданно назначали то в одну, то в другую комиссию, включали в делегацию либо срочно направляли в распоряжение какого-то важного лица. Мне, заведующему лабораторией, об этих назначениях не сообщали, и узнавал я о них из приказа директора института, вывешенного у дверей канцелярии. На этот раз отсутствие Лукина затянулось, и никто толком не знал, куда он девался. Директор ушел в отпуск, не отметив в приказе, куда отбыл мой сотрудник и надолго ли.
Я узнал о возвращении Лукина с утра, когда из соседней комнаты донесся его голос, звонкий и скользкий, легко взвивающийся вверх и спадающий до шипения. Твердой и вместе с тем легкой походкой он приблизился ко мне, распространяя крепкий аромат духов и густой запах табака. На нем, как всегда, был тщательно выглаженный костюм кофейного цвета, яркий галстук, завязанный широким узлом, и университетский значок в петлице.
– Доброе утро, – с беззаботной улыбкой произнес он, учтиво пригнулся и пожал мне руку. – Что нового, как живете, Федор Иванович?
Не дожидаясь ответа, он направился к шкафу, вынул накрахмаленный халат, надел его и не спеша опустился на стул.
– Где ты был эти дни? – спросил я, с неприязнью оглядывая его бочкообразную грудь, широкие плечи спортсмена и длинные руки – истинное украшение землекопа. Мне были противны его пухлые розовые щеки – так и хотелось их отхлестать, и круто срезанный подбородок – наглядное свидетельство его безграничного упрямства и своеволия. Мой вопрос почему-то вызвал у него удивление. Он высоко вскинул плечи, и на его крупном лице отразилось неподдельное изумление.
– Неужели вы не читаете приказов? Там отчетливо сказано, что я направлен с группой ветеранов войны сопровождать делегацию итальянских товарищей. Мы побывали на Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье… Чудесные ребята, мы коротко с ними сошлись и здорово повеселились.
Я знал, что за этим последует поток хвастливых признаний о потехах и забавах, столь близких его сердцу, о сомнительных развлечениях и, конечно, о победах за биллиардным столом. Чтобы не слышать всего этого, я коротко сказал:
– Ты будешь объясняться с отделом кадров и директором. Я тебя поддерживать не стану.
Он нетерпеливо прочесал рукой свою вьющуюся шевелюру, и между пальцами выпал русый локон, повис на лбу, и в голубых глазах вспыхнул вдохновенный огонек.
Меня покоробил его взгляд, я лучше других знал истоки этого вдохновения. Некогда возникшее как невинное притворство, оно с годами освоилось и утвердилось на лице как родимое пятно.
– Вы напрасно беспокоитесь, – примирительным топом проговорил он, – директор был поставлен в известность… Все произошло внезапно, и я не успел вас предупредить…
Я не стал ему отвечать. Мне надоели его бестолковые поездки, опротивел он сам, и я дал себе слово избавиться от него. Никогда еще это желание не было так сильно. Он должен уйти из лаборатории, прежде чем случится непоправимое. Мой нелюбимый помощник должен это наконец понять.
– Ну и ребята! – отмечая улыбкой мелькнувшие в памяти воспоминания, медленно продолжал он. – С таким не пропадешь! И пить, и играть, и веселиться молодцы! Парни, одним словом, что надо!
Мне претила его вульгарная лексика, жалкий круг интересов. Я чувствовал, как нарастало во мне раздражение, и был этому рад. Еще немного, казалось, и я обрушил бы на него все, что за эти годы во мне накипело.
– Особенно развеселил меня артист из Милана, – лукаво посмеиваясь и прикрывая один глаз от удовольствия, вспоминал он. – Начнет рассказывать о своей подружке, такое нагородит, так скопирует ее ужимки и манеры, что мы со смеху чуть не лопались… Простите, Федор Иванович, что я занимаю вас пустяками… – вдруг спохватился он. – Уж вы бы лучше остановили меня… Ведь я порой говорю лишнее… – Он встал, вплотную подошел ко мне и, виновато улыбаясь, спросил: – Ведь вы не сердитесь?
Его высокая фигура нависла надо мной, и я словно ощутил ее тяжесть. Я невольно отодвинулся, не скрывая своего отвращения. Этому человеку было глубоко безразлично, сержусь ли, не сержусь, доволен ли я им или осуждаю. Его не тревожили мои упреки, нескрываемое пренебрежение; на угрозы отвечал раскаянием и, соглашаясь для вида, неизменно поступал по-своему.
– Что же у вас здесь нового? – подмигивая младшему научному сотруднику Михаилу Леонтьевичу Бурсову, спросил он. – Без меня, надеюсь, не скучали? Сознайтесь, Федор Иванович, много ли и каких чудес натворили. Чем черт но шутит, взяли да набрели на перпетуум мобиле или на философский камень… У меня, кстати, ни гроша за душой. Хорошо бы с вашей помощью начеканить монету.
Чем больше он говорил, тем мучительней я ощущал его присутствие. Раздражение уступало место чувству презрения, не сердиться и бранить хотелось мне, а посмеяться над ним. Уничтожить насмешкой, заставить поверить в несусветную чушь, зажечь в нем нечистые чувства и любоваться его обескураженным видом. Я мысленно представлял себе глупую физиономию этого самоуверенного человека, когда он узнает, что его одурачили, поднесли к глазам сокровище, а в последнюю минуту сунули кукиш…
Думать некогда было, и я сказал первое, что пришло мне в голову:
– Мы кое-что успели в плане борьбы за долголетие.
Я не представлял еще себе, какую именно шутку сыграю с ним, но был почему-то уверен в успехе. В этой вере меня укрепила перемена, отразившаяся на его лице. Игривость сменилась серьезностью, он доверчиво опустился на стул и, не сводя с меня глаз, был готов внимательно слушать. В такие минуты его наигранная мечтательность уступала место ребяческой доверчивости, той простоте чувств, которая свидетельствовала, что не все человеческое погасло в нем.
– Я случайно набрел на этот секрет… – стараясь сохранить прежнюю строгость, не спеша проговорил я. – Рецепт найден в бумагах шведского короля, умершего в начале двенадцатого века… По свидетельству современников, – продолжал я плести чепуху, решив во что бы то ни стало обмануть этого ловкого человека, – прапрадед короля жил сто двадцать пять лет, прадед – сто двадцать три, дед – сто восемнадцать, мать – сто семь, а отец – сто двенадцать лет… Лекарство укрепляет слабеющие силы, излечивает всякого рода болезни, особенно хронические головные боли.
Упоминание о целебном действии лекарства имело целью разжечь интерес моего помощника, страдающего частыми головными болями.
Я долго и страстно упивался своей ложью, рисовал перспективы, стоящие на грани фантазии. Захваченный моими измышлениями, он едва успевал выражать свое восхищение, как всегда, однообразное и лишенное малейшего признака истинных чувств.
– И мы это лекарство можем изготовить? Надеюсь, не секрет, из чего оно состоит? – спросил он с усмешкой.
Я назвал травы, которые первыми пришли мне на память: горицвет, наперстянка и ландыш. Других не упомянул, хоть и намекнул, что число их значительно больше. Антон ждал дальнейших объяснений, а я молчал.
– И еще какие травы? Или мне нельзя этого знать? – с притворной улыбкой спросил он.
Я не спешил его разуверить. Я знал, что молчание порой становится испытанием, и был непрочь его муки продлить.
– Было бы лучше, – с многозначительным видом ответил я, – чтобы состав был известен мне одному… По крайней мере, некоторое время…
– Почему?
Я предвидел, что его терпения хватит надолго, и длительными паузами надеялся эту выдержку подорвать. Мне страстно хотелось вывести его из себя, заставить вспылить, наговорить мне дерзостей. Он никогда раньше себе этого не позволял, трудно было и сейчас ждать чего-нибудь подобного.
– Лекарства я не дам, не могу, – тоном, не оставляющим сомнения, что решение мое твердо, проговорили.
Мой сотрудник неплохо меня изучил и безошибочно определял малейшее движение моей души. Чутье и на этот раз не обмануло его, он быстро сменил маяку самонадеянности на кажущуюся покорность и послушание.
– Не дадите лекарства? – проскулил он. – Никому? Ни за что? Даже больному? Неужели откажете? Вам известно, как я страдаю от головных болей. Кто знает, как далеко я ушел бы, не будь у меня этой болезни.
Я был готов уже назвать имена людей, чьи телесные недуги не помешали им прославиться в веках, по подумал, что это не рассердит, а успокоит его. Я не был склонен давать ему передышку и холодно сказал:
– Я не врач… Мы только патофизиологи.
Никто не даст ему лекарства, не получившего еще одобрения фармакологического комитета.
Он понимал, что ничьи разрешения мне не нужны, помочь больному может и патофизиолог, но вряд ли догадывался, какую шутку я с ним сыграл. Внешне примиренный, внутренне спокойный и уверенный в себе, мой племянник не сомневался, что добьется своего. Что значила моя твердость против испытанной силы его речей…
Он еще ближе подсел ко мне и, поигрывая непокорным локоном, заскулил:
– Не будьте таким жестоким, дядя… Ведь вы добрейший человек.
Упоминание о наших родственных связях давно уже не трогало меня. Всякий раз, когда моему племяннику нужно было разжалобить меня, он таким же образом подсаживался и, сменив высокие поты звонкого голоса на шепот, клянчил, молил и, заглядывая мне в глаза, клялся стать достойным своего замечательного дяди…
Затея начинала меня утомлять, я устал от его близости и речей, мое раздражение нарастало, и, как всегда в таком состоянии, у меня начиналась одышка. Мой племянник в подобных случаях говорил, что я рассчитан на короткое дыхание, на быстротечные дела. Короткая пауза вернула мне спокойствие и решимость продолжать игру. Я открыл шкаф, вынул наугад первую попавшуюся склянку и сказал:
– Вот оно, заветное лекарство! Нескольких капель достаточно, чтобы тебя излечить, но ты их никогда не получишь… Понюхай хорошенько, – дразнил я его, – мой нектар пахнет горьким миндалем… Поставим его на место, на вторую полку, в самый угол налево…
Я запер шкаф и направился к выходу. Меня потянуло из лаборатории вон, подальше от человека, ставшего мне ненавистным. Я отлично помню, что сунул ключи в карман, и младший научный сотрудник Бурсов, заметив это, одобрительно кивнул головой… И еще я запомнил, что никого, кроме нас троих, в лаборатории не было. Сделав несколько шагов к выходу, я вынужден был остановиться: Антон закрыл собой дверь и с выражением злобной решимости сказал:
– Вы должны мне помочь… Я настаиваю на этом…
Наконец-то я добился своего! Мой племянник был взбешен, от его хваленого спокойствия не осталось и следа. Он глубоко дышал, ноздри вздрагивали от волнения, в глазах засела тревога. Я мог поздравить себя, комедия принесла свои плоды. Любопытно, как молодчик себя поведет, – чем больше глупостей он натворит, тем скорей я от него избавлюсь.
Он не мог помешать мне уйти. Я вышел в соседнюю комнату и тут же пожалел, что ушел. Чего ради бежал я – не проще ли было бы выгнать его… Я простоял в нерешительности несколько минут, вряд ли больше пяти, впрочем, возможно и все десять. Вернувшись, я Антона уже в живых не застал – он лежал на полу, разметав руки, с широко раскрытыми глазами. Никого вокруг него не было. Я бросил взгляд на откупоренную бутылочку, понюхал пролитую жидкость и все понял: микстура, пахнущая миндалем, была синильной кислотой… Я убил его.
Что было со мной дальше, не помню, я пришел в себя от холодной воды, которой кто-то опрыскал меня.
Пережитое болезненно отразилось на мне. Я несколько недель пролежал в постели. Меня мучили кошмары, угрызения совести, нездоровые мысли не давали покоя. И ночью, и днем я оставался во власти жестоких сомнений. Бессмысленные и нелепые, они призывали меня к ответу. Я должен был вывернуть себя наизнанку, отдать себе отчет, не желал ли я втайне смерти Антона, ответить на другой, не менее праздный вопрос – догадался ли несчастный, что его отравили, или он умер мгновенно, прежде чем сообразил, что я его погубил?
Встреча с сотрудниками после болезни не принесла мне радости. Они жалели и, видимо, по-прежнему любили меня, но почему-то в один голос твердили, что память мне изменила и что я неверно излагаю обстоятельства смерти Антона. Мне легче было бы усомниться в собственном рассудке, чем поверить им.
Я спросил Бурсова:
– Ведь вы здесь были все время, при вас мы объяснялись с Антоном Семеновичем. Он просил у меня лекарства, а я отказывал ему. Кто открыл шкаф, как попала в его руки синильная кислота?
Молодой человек удивленно меня оглядел и покачал головой.
– Вы ошибаетесь, Федор Иванович, меня не было здесь. О вашем разговоре я слышу впервые.
Его уверенность смутила меня, я готов был уже поверить ему, но тут же вспомнил, как Бурсов одобрительно кивнул головой, когда я прятал ключи от шкафа. Я мысленно увидел его улыбку и твердо сказал:
– Не мне, а вам изменила память.
Он не дал мне договорить и со странной поспешностью стал уверять, что ключей от шкафа он Антону Семеновичу не давал. В его растерянном взгляде я прочитал жалость и сочувствие ко мне. Этого было достаточно, чтобы сомнения вновь овладели мной. Неужели болезнь навязала моему воображению ложную картину и заставила поверить в нее? Мои колебания длились недолго. Слишком свежа была память о случившемся, я ничего не забыл.
– Кто же все-таки открыл шкаф? – спрашивал я. – Неужели Антон его взломал?
– Конечно, нет, – вмешалась в разговор научная сотрудница Надежда Васильевна Преяславцева. – Я дала ему ключи.
Я едва нашел в себе силы проговорить:
– Не может быть… Вас тут не было… Я это отчетливо помню.
Научная сотрудница не поленилась подробно рассказать, где и как она провела день, куда отлучалась, вспомнила утреннюю встречу с директором института и закончила:
– В лаборатории я застала Антона Семеновича. Он был расстроен и, как всегда в такие минуты, грыз свои ногти. Он попросил открыть шкаф, и я исполнила его просьбу.
Эти люди взялись меня с ума свести.
– Не может быть, – простонал я, – тут что-то не так… Вспомните лучше, вы не могли этого сделать, ключи были у меня… Вот в этом кармане…
– У вас? – чуть не рассмеялась она. – Нет, Федор Иванович, ключи находились на месте, в ящике вашего стола. – Она снисходительно усмехнулась и добавила: – Память подводит вас…
Ни ему, ни ей я не поверил. Они из жалости ко мне взваливали на себя чужую вину.
– И что же было дальше?
– Право не знаю, я тут же ушла.
Я часто возвращаюсь к событиям того дня, мысленно восстанавливаю их в памяти, и что-то настойчиво подсказывает мне, что ключи от шкафа были при мне, Надежды Васильевны в лаборатории не было, а Бурсов никуда не отлучался.
Глава вторая
Мы близко узнали друг друга на войне. Антону тогда шел двадцать восьмой год, мне сорок восьмой. Отец его, мой друг со школьной скамьи, умный и способный санитарный инспектор, мне много рассказывал о сыне, восхищался его уменьем держать себя и успехами в науке. Мать Антона рано умерла, отец вторично женился спустя несколько лет, и воспитанием ребенка занималась родня. Он и у нас живал часто, проводил в нашем доме каникулы, ездил с нами на Кавказ. Вежливый и обходительный юноша пользовался особым расположением моей жены. Двадцати лет он определился в Военно-медицинскую академию в Ленинграде, и с тех пор мы почти не виделись.
Мы встретились в декабре тысяча девятьсот сорок четвертого года в Военно-санитарном управлении фронта, куда я прибыл за назначением. С первого взгляда Антона было не узнать. Он вырос, возмужал и выглядел бравым офицером. Высокий рост, широкие плечи, выпуклая грудь и мягкий взгляд больших голубых глаз выгодно отличали его среди других.
После того, как мы по-родственному расцеловались, он спросил, куда я следую, доволен ли присвоенным званием, должностью и местом назначения. Я сказал, что меня посылают патологоанатомом в медсанбат и что звание и должность мне безразличны.
Ответ мой заинтересовал его и, насколько я заметил, заставил даже призадуматься. После некоторого размышления, он чему-то улыбнулся и вскоре под влиянием другой мысли насупился. На переносице у него легла глубокая морщина, которой я раньше не замечал. Когда меня позвали к начальнику кадров, он схватил меня за руку и прошептал:
– Не торопитесь, успеете… Вас вызовут снова.
Я понял, что ему не хочется расставаться со мной, и согласился.
– Значит, в медсанбат направляют, – задумчиво проговорил Антон, – а как же с вашей научной работой? Там ведь врачу не до экспериментов… Придется оставить, а жаль… Ваши труды здесь пригодились бы… Не каждый способен вернуть к жизни умершего, трижды оживить человека на операционном столе… Я читал описание этого случая, и мне понравились ваши слова: «Смерть не так уж страшна и не так уж необратима…»
Мне было приятно его участие, и в то же время на меня повеяло грустью. Антон напомнил мне о том, о чем я всячески старался не думать. Пять лет ушло на то, чтобы самому убедиться и другим доказать, что не всякая смерть – конец и гибель организма. Множество опытов на животных подтвердили, что смерть обратима. Там, где организм себя не изжил, жизнь может вновь утвердиться… Труды мои не были напрасными, испытания на людях прошли удачно. Предполагалось создать лабораторию, подготовить помощников, как вдруг грянула война.
– Не время сейчас об опытах думать, – с невольной грустью ответил я, – война требует от нас другого… Ты не должен, мой друг, преувеличивать – я вовсе не чародей… Задолго до меня профессор Оппель остановил сердце раненого солдата, извлек из груди пулю, зашил сердечную мышцу и вернул человека к жизни… Оживляли нередко и убитых электрическим током…
Антон делал вид, что слушает меня, кивал головой и, судя по всему, что-то обдумывал. И непроизвольная игра мышц лица, и нервное подергивание губ, и блуждающий взгляд, обращенный вдаль, свидетельствовали о том, что мысли его далеко.
– А как бы вы отнеслись, – все еще не отделавшись от своих размышлений, медленно проговорил Антон, – если бы вам дали возможность продолжать научную работу – хотя бы… в одном из фронтовых госпиталей? Врачи охотно вам помогли бы и сами у вас поучились…
Он встал, и я снова подумал, что у него приятная внешность: добрый, участливый взгляд, искренняя, теплая улыбка и завидный рост. Такие люди великодушны, чужды мелочным расчетам и незлобивы. Я мысленно поблагодарил его за заботы и сказал:
– Не беспокойся, пожалуйста, из этого ничего не выйдет. В управлении скорей поверят, что я ищу себе теплое местечко, чем рабочую лабораторию. Не я один оставил незаконченную работу, здесь таких наберется немало.
– Вы правы, не спорю, – охотно согласился он, – могут всякое подумать. А что бы вы сказали, если бы такого рода предложение последовало не от меня, а от санитарного управления? – Заметив, что я готов ему возразить, он предупредил меня: – II не в виде частного мнения должностного лица, а официального назначения… Приятней, как мне кажется, оживлять, чем анатомировать.
Последние слова меня покоробили. Я хотел ему сказать, что на фронте не выбирают себе приятных занятий, по Антон мягким прикосновением руки снова остановил меня:
– Простите, Федор Иванович, – тоном искреннего раскаяния произнес он, – это вышло у меня неудачно… Я хотел сказать, что занятие анатомией не могло бы вас так удовлетворить, как терапия клинической смерти.
Мне понравилась простота, с какой он признал ошибку, понравилось выражение «терапия клинической смерти», которое я от него услышал впервые. Не покривив душой, я ответил:
– Если бы от меня зависел выбор, я, конечно, избрал бы фронтовой госпиталь.
Антон словно этого и ждал. Он порывистым движением схватил мою руку, крепко пожал ее и решительно направился к кабинету начальника кадров. Прежде чем я успел опомниться, Антон обернулся, махнул мне рукой и громко оказал:
– Можете себя поздравить, будет по-вашему.
Он скоро вернулся, протянул мне документы и сказал:
– Вы направлены во фронтовой госпиталь. Сегодня же будете на месте.
Все это произошло так стремительно, что у меня закралось сомнение, не вздумал ли Антон подшутить надо мной. Так ли просто и легко устраиваются назначения в армии? Я развернул командировочное удостоверение, пробежал его глазами и убедился, что действительно направлен в госпиталь. Какое-то неясное чувство удержало меня от выражения признательности. Я не очень уверенно кивнул головой и спросил:
– Где расположен фронтовой госпиталь?
– Это уж моя забота… Через три часа будем там. Гарантирую вам ванну, вкусный обед и удобную комнату.
Я мог допустить, что, по воле случая, Антон нашел средство устроить меня в госпиталь. Но зачем ему везти меня туда? Явиться на службу в сопровождении покровителя – нехорошо. Кто знает, как на это взглянет командование.
– Тебе не стоит беспокоиться, Антон, – сказал я ему, – я и сам туда доберусь. Скажи мне, где этот объект расположен.
Он рассмеялся.
– Нам с вами но дороге, я начальник этого госпиталя.
* * *
Фронтовой госпиталь разместился в небольшом городке вблизи польской границы, в здании прежней духовной семинарии, приспособленной затем для средней школы. Просторные палаты, свежевыбеленные и ярко освещенные, с широкими проходами между рядов кроватей, сверкавших белизной, образцовый порядок и тишина – все это скорей напоминало благоустроенную клинику большого города, чем фронтовой госпиталь.
Сопровождавший меня Антон время от времени забегал вперед и широким жестом приглашал меня то в лабораторию, то на кухню, то в зал гимнастических упражнений. В каждом его движении сквозили гордость и удовлетворение. Уютная, но вместе с тем просторная операционная с блестящим новеньким рефлектором и двумя рядами скамеек по образцу операционных институтских клиник невольно вызвала мое восхищение.
У одной из дверей Антон остановился и, лукаво подмигивая, пригласил меня войти. Посреди комнаты стоял обтянутый зеленым сукном биллиардный стол.
– Едва достали, – с тем же чувством гордости, с каким он только что говорил об операционной, произнес Антон, – пришлось немного прилгнуть, сказать, что биллиард необходим больным. Теперь его у нас клещами не вытянешь, в инвентарную книгу занесли… У нас ведь многие врачи – биллиардисты, кто с этим пришел на фронт, а кто здесь научился… А вот тут, – указывая на соседнее помещение, – будет ваша резиденция, оборудуем «оживитель». Дадите нам список аппаратуры и оборудования, всего, что вам надо, и через несколько дней откроем лабораторию. Не стесняйтесь, пожалуйста, требуйте, у нас не принято отказывать…
В назначенный день весь инвентарь, начиная со стеклянных банок, ампул для нагнетания крови, резиновых трубок и кончая раздувными мехами, прикрепленными к металлическому основанию, был на месте. Где только удалось в прифронтовом городишке все это добыть? В тот же день Антон сообщил мне, что состояние одного из больных стало критическим, часы его жизни сочтены, и наше вмешательство может в любую минуту понадобиться. Придется, возможно, лабораторию сегодня же открыть.
Весть эта неприятно меня поразила. Какое безрассудство! К чему такая поспешность? У нас нет подготовленных людей, и сам я еще не освоился с новой обстановкой.
Последнее особенно меня удручало. Как ни странно, но я все еще не свыкся с моей новой работой. Четверть века патофизиологической практики давно приучили меня уверенно и спокойно относиться к предмету исследования. Проводились ли опыты на животном, изучалось ли состояние органов трупа – и в том и в другом я привык видеть материал исследования и ничего больше. С тех пор, как я впервые вернул к жизни умершего, привычное равновесие моих мыслей и чувств нарушилось. Материал приобрел иное значение, прежний труп уступил место больному, а я, патофизиолог, стал врачом. Не исследовать тело и ткани должен был я, а вдохнуть в них жизнь.
Новая задача, несовместимая с прежними привычками и рабочими приемами, отразилась на моем самочувствии. Каждая процедура превращалась в жестокое испытание для меня. Тревожное чувство возникало задолго до того, как судьбе было угодно испытать мое искусство. Я просыпался ночью с сильно бьющимся сердцем и не засыпал до утра. Я упрекал себя в малодушии, призывал к благоразумию и с горьким чувством провинившегося школьника решал взять себя в руки. Бывало и по-другому: прорвавшееся малодушие подавляло меня, и я обрушивал свой гнев на себя – виновника моих несчастий. «Что тебе нужно, упрямый человек! Когда ты наконец уймешься? Врачи убедились, что больного не спасти, они примирились с судьбой человека, почему тебя тревожит его труп?»
С тех пор, как моя мысль приблизилась к границам жизни и смерти, меня осаждал всякий вздор. Я останавливался у кровати умирающего, подолгу разглядывал черты его лица, выражение глаз, вслушивался в звучание голоса, чтобы сопоставить это с тем, что уцелеет после клинической смерти. Пробудившихся к жизни я рассматривал и слушал с неутолимым любопытством, досадуя, что они так мало могут рассказать о пережитой смерти. Один такой больной, молодой солдат батальона связи, на вопрос, что. он перечувствовал в эти минуты, сказал: «Не спрашивайте, профессор, я проспал свою смерть». Кто бы подумал, что смерть можно проспать? Где ее торжественное величие, неразрывное с понятием вечности?..
К процедуре оживления я так и не привык, последующие были не легче предыдущих и всегда глубоко волновали меня. Вот почему весть об открытии лаборатории вызвала во мне беспокойство.
В тот же день, вскоре после разговора с Антоном, ко мне явилась помощница в полотняной шапочке, изящно сдвинутой на бок, и в белом халате поверх платья защитного цвета. Она назвала себя Надеждой Васильевной Преяславцевой, сообщила, что исполняет обязанности патологоанатома и временно прикомандирована ко мне. Палатный врач предупредил ее, что больной умирает и его вскоре доставят сюда.
– Я буду, вероятно, ассистировать вам, – закончила она.
– Разве начальник госпиталя не придет? – удивился я. – Ведь он выразил желание присутствовать.
Мой вопрос почему-то вызвал у нее улыбку. Она пожала плечами и ничего не ответила.
– Что ж, обойдемся без него, – не скрывая своей досады, сказал я, – разрешите познакомить вас с вашими обязанностями.
Я пригласил ее сесть. Она опустилась на стул, сложила руки на коленях и устремила на меня бесстрастный взгляд. Занятый своими мыслями, я в эту минуту не разглядел ее. Мне было бы трудно ответить, какого она роста, каков цвет ее волос или сколько ей лет. Запомнились лишь две темные змейки бровей над глазами, подвижные и весьма красноречивые. Мне предстояло посвятить помощницу в тайны, которые стали лишь недавно известны мне самому.
Она должна знать, что смерть – процесс постепенный, начальную стадию его называют клинической смертью, и наш долг позаботиться, чтобы она не стала окончательной. Пусть сознание больного утрачено, дыхание замерло и сердце не сокращается, но пока клетки коры мозга уцелели, не все потеряно. Им дано жить шесть-семь минут после того, как замерло биение сердца и последний вздох отзвучал. Под внешним покровом смерти долго теплится жизнь: не прерывается обмен веществ, минут пятнадцать проживет спинной мозг, минут тридцать – продолговатый, а двигательные и чувствительные нервы – до часа. Дыхание может быть восстановлено и через полчаса, а сердце – даже спустя двое суток. Позже всех оно умирает, чтобы вновь пробудиться первым.
Едва я успел это рассказать, дверь распахнулась, и в лабораторию внесли больного. Врач скороговоркой сообщил, что наступила агония, дальнейшее зависит от нашего искусства. В моем распоряжении оставались шесть-семь минут, чтобы подготовить помощницу и вернуть к жизни умирающего.
Для дальнейших разговоров но оставалось времени. Судорожно-прерывистое дыхание больного слабело и грозило оборваться. Я указал помощнице место за столом, бросился проверить аппаратуру, и, когда вернулся к больному, он уже не дышал. Все зависело теперь от того, удастся ли нам одновременным переливанием крови и нагнетанием воздуха в легкие оживить дыхательный центр и сердце.
– Займитесь переливанием крови, – бросил я помощнице на ходу, – ни секунды промедления… Прибавьте к крови глюкозу… Приступаю к искусственному дыханию.
Я ввел в гортань больного трубку и пустил в ход меха. Потоки воздуха устремились в легкие. Моя помощница ввела полую иглу в плечевую артерию, и кровь из банки устремилась к сердцу. Пока моя рука раскачивала меха и глаза следили за состоянием больного, я ни на минуту но умолкал. Я подсказывал ассистентке, как поддерживать давление воздуха в банке, как следить за манометром, и многое, многое другое.
Прошла минута-другая, я взглянул на часы и словно этим разбудил в них дьявола – они неистово застучали. Отдельные звуки сливались и нависали нестерпимым шумом. Бессильный отделаться от мучительного гула в ушах, я на первых порах растерялся. Какая незадача! Именно сейчас, когда мне так необходимо спокойствие, я терял, его. Надо было что-то важное сказать помощнице и что-то самому решить, но мысли в этом шуме словно тонули. Напрасно я искал их. Утраченные, они не возвращались.
– Вы не забыли прибавить к крови перекиси водорода? – необыкновенно громко, чтобы заглушить стук часов, спросил я. – Кровь должна быть насыщена кислородом…
Ответа я не расслышал. Она кивала головой, и живые змейки подтвердили, что все благополучно. Мне пришло в голову перекрыть своим голосом нависший шум, и вдруг стало тихо. У меня отлегло от сердца, и, обрадованный; я, словно обращаясь к некоему третьему, незримо присутствующему в лаборатории, с веселым видом сказал: