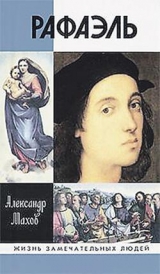
Текст книги "Рафаэль"
Автор книги: Александр Махов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Вы не можете себе даже представить, мой друг, какого труда мне стоило одолеть флорентийскую клику во главе с Сангалло и Сансовино, за которых горой стоял Микеланджело, – признался он. – Нелегко было убедить Юлия отказаться от их услуг и остановить свой выбор на моём проекте.
Нельзя было не посочувствовать Браманте, которому в его шестьдесят четыре года приходилось объезжать с утра до вечера строительные площадки, спорить с подрядчиками и ругаться с жуликоватыми поставщиками некачественных материалов, а после трудового дня не знать покоя и быть постоянно начеку, коротая время в одиночестве в неустроенном временном жилище.
В отличие от знаменитого родственника такая жизнь Рафаэля никак не устраивала, и он позаботился о достойном убранстве нового дома и тщательном подборе толковых помощников, поскольку объём предстоящей работы заставил его вплотную заняться созданием настоящей дееспособной мастерской, в чём скоро проявился его незаурядный талант организатора, не меньший, чем талант живописца. До приезда в Рим у него не было большого опыта фресковой росписи, и громкую известность ему принесла станковая живопись, не требующая большого числа помощников, так как секреты грунтовки дерева или холста ему были с отроческих лет хорошо известны.
Вспоминая детские годы, проведённые в отцовской мастерской, Рафаэль решил построить свои отношения с учениками и подмастерьями на совершенно иной основе. Опыта ему не занимать. Уже в семнадцать лет он был назван мастером в первом подписанном им контракте. По его глубокому убеждению, создаваемая им мастерская должна стать большой дружной семьёй, где не должно быть места подзатыльникам, окрику и навязыванию собственной воли. Хозяин как добрый отец семейства ставил во главу угла профессиональную выучку подопечных, поощряя их за радение и предоставляя особо одарённым юнцам самостоятельность. Над каждым мольбертом и рабочим столом должен витать дух творчества и ответственности за общее дело. Позднее в составленном завещании он по-отечески позаботился о будущем своих учеников. Такого история ещё не знала.
Среди расторопных парней ему приглянулись Джован Франческо Пенни по прозвищу Фатторе, происхождение которого неизвестно, но парень отличался завидной работоспособностью и честностью, и ему можно было поручить общую артельскую кассу; задумчивый и даровитый Джованни Нанни был родом из Рима, а прозвище получил позднее, по месту, где он изрядно потрудился – Джованни да Удине; прыткий в работе добряк Перин дель Вага был душой мастерской – все они были из простых семей ремесленников и с детства влюблены в искусство. Среди них выделялся особой находчивостью Джулио Пиппи, повстречавшийся Рафаэлю на площади Кампо ди Фьори рядом с гетто. Его привлекли смышлёность и преданность парня искусству, и он вскоре приблизил его к себе. Джулио Пиппи, ставший чуть ли не правой рукой мастера, был уроженцем здешних мест, за что получил прозвище «Романо», то есть «римлянин», и под этим именем вошёл в историю итальянской живописи. Отец Пиппи был довольно состоятельным человеком, владельцем виноградников на Эсквилинском холме и винных погребов, чем тот порой кичился, за что был пару раз побит тем же Фатторе, который терпеть не мог хвастовства.
Перед Рафаэлем стояла задача расписать фресками зал размером примерно восемь на десять метров с высоким сводчатым потолком и широкими оконными проёмами. Как правильно подобрать для покрытия больших поверхностей росписью нужный раствор извести, который был бы прочен и быстро сох, не образуя плесени? Вот когда оказались бесценны знания старины Браманте. Круша и ломая античные сооружения, чтобы расчистить место для осуществления своих проектов, он раскрыл секрет древнеримских строителей, добавлявших в обычный связующий раствор в нужной пропорции поццолановые примеси вулканического происхождения, добываемые в окрестностях Поццуоли под Неаполем, где Браманте специально побывал и откуда наладил поставку нужного сырья.
– Самонадеянный Микеланджело не знал этого, – сказал он, – за что и поплатился. Откуда ему знать, флорентийцу? Вскоре на первых его фресках в Сикстинской капелле появилась плесень, и тогда пришлось за неудачу держать ответ и объясняться с папой.
Когда Рафаэль вновь появился в одном из залов, который был выделен ему для росписи, стены там уже были очищены и готовы для работы. Только на углах свода сохранилась роспись, выполненная Со́домой и его другом Бальдассаром Перуцци. Рафаэль попросил не трогать эти росписи, в чём выразилось его уважение к чужому труду, даже если в нём не всё было ему по душе. Но его заинтересовала работа Перуцци, создающая иллюзию глубины архитектурного пространства. Его и Со́дому привёз с собой банкир Агостино Киджи, некоронованный хозяин Сиены, в чьей финансовой поддержке нуждалась папская казна, хотя на возведение главной святыни христианства собирались немалые пожертвования. Говорят, одному францисканскому монаху удалось собрать несколько тысяч дукатов на строительство собора Святого Петра.
Рафаэль предложил Со́доме и его другу Перуцци поработать вместе, и те, приняв приглашение, вскоре оказались в его команде. Перед ним встал вопрос: с чего начать? Идею подсказал монсеньор де Грассис:
– Его Святейшество видел ваши работы в Перудже. Помню, что наиболее сильное впечатление на него произвела незаконченная фреска «Святая Троица» в Сан-Северо со Всевышним, держащим в руке Священное Писание. Вот с неё и начните.
Рафаэль засел за работу. Среди приставленных к нему советников были теологи, историки, литераторы и другие светлые умы из круга гуманистов, которым С. С. Аверинцев дал удачное определение – «римская ойкумена». Принято считать, что по совету самого папы к ним присоединился гуманист и видный богослов сорокалетний Эджидио да Витербо, который вскоре возглавил монашеский орден августинцев, пользуясь большим влиянием в Римской курии. Современники называли его «первейшим платоником своего времени». Как и его друг Пико делла Мирандола, он в молодости увлёкся изучением каббалы как источника толкования потаённого смысла Библии.
Это было время, когда между теологами и философами шла постоянная полемика о том, является ли наследие античной культуры «филологией» или «идеологией». Её истоки связаны с сочинением Петрарки «О своём и чужом невежестве», в котором автор корит себя за то, что отдаёт предпочтение античной культуре, а не христианскому идеалу, признавая, что тем самым он скорее «цицеронианец», нежели «христианин». В разговоре с друзьями Петрарка как-то заявил, что Цицерон никогда не приносил ему вред, «но чаще только пользу», [48]48
Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С. 6.
[Закрыть]хотя в те времена читать и хранить книги античных поэтов считалось величайшим грехом и всякий согрешивший подвергал свою жизнь опасности.
С помощью эрудитов, приставленных папой к Рафаэлю, была разработана основная тематика будущих росписей среднего зала. Вазари первым назвал его Станца делла Сеньятура, поскольку там подписывались вердикты папского суда и другие важные документы. По поводу назначения этой станцы нет единого мнения и имеется обширная литература. Пока ясно одно, что её главной темой стали теология, философия, правосудие и поэзия, на которых зиждется вся христианская культура. Их аллегорические изображения украшают свод, люнеты и часть боковых стен. Если сюжеты фресок Станцы делла Сеньятура должны были отразить культурно-просветительскую роль Церкви, то в росписях остальных залов следовало выделить мистическое и историческое предназначение христианства.
Прежде чем приступить к росписи, Рафаэль сделал более пятидесяти рисунков, а для всего цикла более трёхсот. Первые рисунки касались фрески, названной «Диспут» (в нашей литературе часто называемой по непонятной причине на итальянский манер «Диспута»), которой была отведена главная смысловая нагрузка. Об этой фреске, как ни об одном другом творении Рафаэля, имеется богатейшая литература, поскольку в ней отражено всё своеобразие философской мысли итальянского Возрождения.
Общепризнано, что цикл начинается с фрески «Диспут», на которой пространство ограничено мощным декоративным полукружием и дугой, отделяющей мир горний от мира земного. Само это пространство раскрывается перед зрителем уходящей от него далеко вглубь перспективой, а сравнительно небольшая станца в виде вытянутого прямоугольника расширяется, и всё внимание зрителя сосредоточивается на алтаре с дарохранительницей как духовном центре события и в то же время являющемся точкой схода всех параллельных линий.
Начатая в конце 1508 года работа над всем живописным циклом Станцы делла Сеньятура была полностью завершена к 1511 году, о чём имеется пометка под фреской «Парнас». Её свод расписан сценами, являющимися своеобразным эпиграфом к каждой из них. Так, над фреской «Диспут» помещена люнета с аллегорией Теология в виде женской фигуры с белым покрывалом и зелёным плащом поверх красной туники (цвета теологических добродетелей), а два путти держат таблички с надписью на латыни Divinarum rerum notitiaиз почитаемого гуманистами Кодекса Юстиниана, что означает «Знание божественных вещей».
Композиция «Диспута» напоминает огромную апсиду раннехристианского храма с широкими мраморными ступенями, ведущими к алтарю, на котором установлена дарохранительница с облаткой, называемой просвирой или ostiaпо-итальянски, как неотъемлемая часть евхаристии. Стоит заметить, что в первоначальных рисунках Рафаэля алтарь как таковой отсутствовал, из чего можно заключить, что на художника, далёкого от теологических тонкостей и думающего только о выигрышном композиционном решении сюжета на огромном пространстве стены, было оказано немалое давление, о чём он сам говорил в упомянутом выше письме болонскому другу.
Главными контрастными тонами являются синий и жёлтый, интенсивные в земной половине и более лёгкие и размытые в небесной. Фреска носит сугубо программный характер, что отражено на четырёх табличках в руках резвых путти, устремляющихся к миру земному вместе с голубем, олицетворяющим Святой Дух Троицы, пребывающей в заоблачных высях.
Если сложить вместе разрозненные таблички, то текст читается так: «Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientsia», то есть «Юриспруденция есть знание божественных и человеческих вещей, наука о справедливом и несправедливом».
Работа над «Диспутом» изрядно утомила Рафаэля. Под постоянным контролем приставленных советников ему приходилось строго соблюдать церковную иерархию, рассаживая по обе стороны от Святой Троицы апостолов, пророков и святых мучеников. Первым сидит Пётр, изображённый в профиль. Здесь же Иоанн Богослов, погружённый в чтение Евангелия и не слышащий, что ему говорит царь Давид. Мученик Стефан указывает, по-видимому, пророку Иеремии на происходящее на земле. По другую сторону от Святой Троицы едва различимый Георгий-воин и дьякон Лаврентий с пальмовой ветвью мученика, увлечённо наблюдающий за полётом ангелов. Рядом пророк Моисей со скрижалями и задумавшийся апостол Иаков с книгой на коленях. Пророк Авраам, повернувшись, смотрит на апостола Павла, замыкающего ряд и изображённого в профиль. Не забыт и праотец – полуобнажённый Адам, сидящий рядом с Петром. Его вальяжная поза несколько нарушает картину чинно восседающих небожителей. Сидя нога на ногу, Адам всем своим простодушным видом выражает радость существования, хотя и не на земле.
Совсем иная картина на нижней, земной половине фрески, где художник позволил себе некоторую вольность, разместив известных церковных иерархов, трёх пап, четырёх епископов и простолюдинов вокруг алтаря, покрытого голубым покрывалом с арабесками на возвышении с потиром и остией. Одни ведут между собой неспешный разговор, другие пребывают в духовном созерцании. Слева от алтаря восседает папа Григорий Великий, устремивший взор к небу. Рядом с ним сидит блаженный Иероним со львом у его ног. Над ним возвышается, как принято полагать, святой Бернард, указывающий обеими руками на остию и как бы говоря, что всякие рассуждения напрасны, если пред нами искупительное тело Христово. Ему вторит такой же старец по другую сторону алтаря. Возможно, это Пьетро Ломбардо, ученик французского философа XII века Абеляра. Его поднятая к небу рука красноречиво говорит о том, что в «Диспуте» вместо споров теологов и дискуссий безоговорочно утверждается триумф веры и правоты богословской догмы.
По правую сторону от алтаря стоят два понтифика в митрах и парадных одеяниях: Анаклет, третий после Петра папа римский, и Иннокентий III. Между ними святой Августин с книгой в руках что-то вещает, а сидящий на ступени в светлом плаще юноша торопливо записывает его слова. Здесь же Отцы Церкви – Фома Аквинский, Амвросий и Бонавентура.
Особенно живо и выразительно написаны персонажи слева от алтаря на фоне пейзажа с воздвигаемым строением – намёк на строящийся собор Святого Петра. Считается, что смотрящий на увлечённых чтением людей благообразный старец – это живописец Беато Анджелико. А вот старику, прислонившему книгу к парапету, приданы черты Браманте. Он что-то тщится доказать окружающим его людям, заглядывающим в раскрытую книгу. С ним не согласен удаляющийся к алтарю златокудрый юноша в розовой тунике и бирюзовом плаще, написанный в мягкой леонардовской манере. Чуть выше спиной к зрителю рядом с преклонившими колена юнцами стоит учёный муж, задрапированный в голубой паллиум. Он задумчиво глядит на алтарь и указывает рукой на лежащие книги у его подножия, словно олицетворяя собой греко-римский мир, который принимает христианство.
В колоритной толпе справа от алтаря узнаваем Данте, увенчанный лавровым венком, и рядом фигура монаха, чьё лицо закрыто капюшоном. По-видимому, это отлучённый от Церкви Савонарола, о котором Рафаэль так много слышал во Флоренции. Он не побоялся изобразить опального проповедника на фреске, вероятно, потому, что уже велись разговоры о возможной его канонизации, о чём поведал папский датарий Турини, любивший посидеть у друга в мастерской, наблюдая за его работой. Небезынтересно отметить, что в мрачную эпоху Контрреформации с её угрюмой подозрительностью, когда церковные мракобесы подняли голову и ожесточились против любой формы ереси, на одной гравюре, выполненной в 1552 году, фреска «Диспут» неожиданно обрела более ортодоксальный смысл, и из неё исчезла фигура монаха в клобуке. Это неудивительно, поскольку к тому времени после решений Тридентского вселенского собора, объявившего войну протестантам и инакомыслящим, потребовавшего даже «приодеть» персонажей на фреске «Страшный суд» Микеланджело, имя и труды Савонаролы попали в пресловутый Индекс запрещённых книг.
Давление заказчика чувствуется и в росписи торцевой стены зала с оконным проёмом, посвящённой Правосудию. На своде люнета с аллегорической женской фигурой Правосудия, поднявшей одной рукой над головой меч, а в другой держащей весы. Четверо путти удерживают надпись из того же Кодекса Юстиниана, которая гласит: lus suum unicuique tribuit(«справедливость воздаётся каждому»). Чуть ниже на самой стене над окном Рафаэль поместил три аллегорические женские фигуры в окружении пяти резвящихся путти. Со шлемом на голове Сила гладит рукой приручённого льва и держит развесистую дубовую ветвь – прямой намёк на папу Юлия из рода делла Ровере. Сидящая на возвышении в центре Мудрость, как двуликий Янус, изображена с женским и мужским бородатым профилем, а написанная правее Умеренность держит обеими руками длинные вожжи для обуздания страстей. Под этой полукруглой картиной две основополагающие композиции: «Основание гражданского права», на которой император Юстиниан получает от римского юриста Трибония книгу законов, то есть Пандекты, и «Основание канонического права» с портретом Юлия II в образе папы Григория IX, утверждающего свод церковных законов или декреталий. В то время папа Юлий отпустил длинную бороду, столь несвойственную римским понтификам, и громогласно объявил, что не сбреет её, пока «не освободит Италию от варваров». Он впервые тогда назвал «варварами» чужеземных захватчиков. Рядом с папой кардиналы Медичи и Риарио.
С изображением Григория IX связана одна прелюбопытная история. Как-то перед отъездом в очередной военный поход папа вместе со свитой неожиданно нагрянул в зал, куда и ранее часто наведывался. На сей раз настроение у него было не из лучших. Его внимание привлекло изображение у окна бородатого старца в папской тиаре рядом с фреской «Диспут».
– Неужели я выгляжу таким дряхлым? – недовольно обратился он к растерявшейся свите, а та не знала, что на это сказать.
Наступило тягостное молчание – вопрос папы остался без ответа. Тогда, появившись из-за спин кардиналов и придворных, Рафаэль скромно вышел вперёд и взял слово, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
– Ваше Святейшество, перед вами воображаемый образ Григория IX. Немудрено, что своим недюжинным умом и великими деяниями он так напоминает вас. Не правда ли?
В его голосе прозвучала такая подкупающая искренность, что все разом оживились и заулыбались. Слова художника вполне удовлетворили присутствующих, но не Юлия II, несколько опешившего от такого ответа. Однако его раздражительность как рукой сняло.
– И всё же, – сказал он, покидая зал, – хочу иметь портрет, на котором буду походить только на самого себя и ни на кого более.
О находчивости Рафаэля ещё долго рассказывали в кулуарах дворца и римских салонах, а Браманте окончательно убедился, что ещё недавно робко представший перед ним молодой земляк больше не нуждается в его опеке и способен выкрутиться из любого затруднительного положения благодаря природной смекалке, чему мог бы позавидовать даже его друг Кастильоне, преуспевший в таких делах.
Несмотря на неожиданный казус, Юлий II остался доволен всем увиденным, ибо это отвечало его идеологическим и политическим интересам, о чём Рафаэль, по правде говоря, не особо задумывался, хотя обстоятельства вынуждали порой подчиняться диктату. От монсеньора де Грассиса ему стало известно, что, посетив остальные залы, где группа художников вовсю трудилась над росписями, папа остался недоволен их работой и приказал замазать написанное, чтобы освободить место для приглашённого молодого мастера, к которому он проникся отцовской симпатией. Перечить ему никто из художников, чьи труды пошли насмарку, не посмел. Беда только в том, что услужливые исполнители папской воли под шумок замазали даже одну из фресок Пьеро делла Франческа и росписи других мастеров Кватроченто.
Распоряжение папы особенно огорчило старого Перуджино, для которого это была последняя попытка повторить свой прежний римский успех, но опять дорогу ему перебежал молодой урбинец, которого многие считали его учеником, хотя сам он пока не уяснил для себя, считать ли Рафаэля своим воспитанником и гордиться ли этим. Не успев объявиться здесь, урбинец стал любимчиком папского двора, а в римских салонах о нём давно велись разговоры как о новой восходящей звезде на итальянском небосклоне. Осознав, что ему не одолеть Браманте, всесильного покровителя прыткого Рафаэля, Перуджино вернулся во Флоренцию. Работавший с ним загадочный Лоренцо Лотто молча покинул Рим и поначалу обосновался в Бергамо, а затем осел в глухой провинции неподалёку от Лорето в области Марке. Задетый за живое завистливый Пинтуриккьо вернулся в Сиену, где успокоился наконец и обзавёлся семьёй. Исчезли миланец Брамантино и немец Руйш, работавшие в одном из залов, чьё искусство также оказалось невостребованным.
Так получилось, что помимо Станцы делла Сеньятура перед Рафаэлем встала нелёгкая задача расписать освобождённые для него по приказу папы ещё три зала. Объём работы намного возрос, равно как и возросла ответственность. Но это его не обескуражило. Им владела только одна мысль: как всем выделенным залам придать парадность и торжественную монументальность в абсолютной гармонии живописи с архитектурой, подчинив росписи единому замыслу. Это было для него самым главным. В конце концов с этой задачей он успешно справился. Забегая вперёд можно с полным правом утверждать, что ему удалось три сравнительно небольших и плохо освещённых зала (в четвёртом, самом большом, работали ученики по его эскизам) превратить в просторное парадное пространство, полное света и населённое величественными образами умных, красивых и в большинстве своём добрых людей как отражение всего мироздания.
У любого, кто оказывается там, создаётся впечатление, что на фресках Рафаэля потолки, стены и обволакивающий их воздух – всё насыщено величием духа человека, а это достигается благодаря безупречному чувству ритма и пропорций, которое у него было сильно развито. Начало римского периода ознаменовалось появлением поистине впечатляющих своими размерами и многофигурной яркой композицией фресок в Ватиканском дворце.
Пока Рафаэль работал над росписями, политическая обстановка обострилась. При содействии французов свергнутые Бентиволья вновь оказались в Болонье. Папа надеялся заручиться поддержкой Мантуи и Феррары. Но прибывший в Рим на переговоры вместе с племянником Федерико Гонзага взбалмошный феррарский герцог Альфонсо д’Эсте, зять покойного папы Борджиа, поссорился с Юлием и отказался платить ежегодную подать и поставлять соль из своих солёных озер в Комаккьо и квасцы, что могло подорвать монополию Ватикана на эти товары и поставить в трудное положение кожевенные заводы и прядильно-ткацкие мануфактуры, обеспечивающие немалые поступления в казну. Разгневанный папа взял в заложники двенадцатилетнего племянника Федерико, чтобы заставить Мантую и Феррару подчиниться диктату и порвать все связи с Францией. Оказавшись, таким образом, в Риме, юный Федерико, как покажут дальнейшие события, не очень опечалился разлукой с отчим домом.
После суровой зимы римляне радовались весеннему солнцу, и традиционный карнавал удался на славу, когда от площади Кампо де Фьори до строящегося собора Святого Петра при огромном стечении народа проходили гонки быков, ослов и берберских рысаков. В тех же гонках вынуждены были участвовать евреи из местного гетто, погоняемые как скот надсмотрщиками с хлыстами. Считалось, что тем самым бедолаги с пейсами и кипами на голове, облаченные в длиннополые чёрные сюртуки, платили ежегодную дань христианству за свои былые прегрешения. Этот позорный обычай, против которого выступали многие гуманисты и здравомыслящие люди, был заведён пресловутым Цезарем Борджиа и, как ни странно, поддержан его отцом-марраном, о чьём истинном происхождении сыну, появившемуся на свет в Риме, возможно, ничего не было известно.
В дни карнавала в Риме объявились молодожёны из Урбино, Франческо Мария делла Ровере с юной Элеонорой Гонзага. С ними прибыл и друг Кастильоне, который в письме матери подробно описал празднества, продолжавшиеся до апреля. Рафаэлю пришлось оставить все дела ради приёмов, банкетов и спектаклей. Он видел, что папа окончательно простил своего племянника и оказывал особое внимание его очаровательной супруге, подарив ей роскошное ожерелье, усыпанное алмазами. Рафаэль помнил её девочкой, когда она ему позировала в Мантуе, но теперь её было не узнать. Ему так и не удалось повстречать «префектессу» Джованну Фельтрия, которая избегала официальных приёмов из-за натянутых отношений с Юлием II и его двором. Поговаривали, что она была тяжело больна. Разговоры эти вскоре подтвердились: Джованна Фельтрия скончалась.








