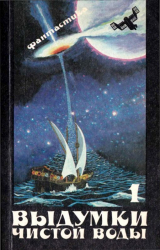
Текст книги "Выдумки чистой воды (Сборник фантастики, т. 1)"
Автор книги: Александр Бушков
Соавторы: Леонид Кудрявцев,Сергей Булыга,Александр Бачило,Виталий Забирко,Лев Вершинин,Елена Грушко,Евгений Дрозд,Елена Крюкова,Александр Копти
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
– Что же вы предлагаете?
– Поскольку господина Гартмана вы, как бы деликатнее… использовав бомбу… я и решил, что в места эти вы, быть может, укрылись приготовить схожий снаряд… Что вы ночью-то мастерили, а?
И по глазам напрягшегося в раздумье Воропаева Сабуров обостренным чутьем ухватил: есть бомба в наличии, есть!
– Я, признаться не подумал, поручик… – Нигилист колебался. – Это вещь, которая, некоторым образом, принадлежит не мне одному… Которую я дал слово товарищам моим изготовить в расчете на конкретный и скорый случай… И против чести организации нашей будет, если…
– А против совести твоей? – Сабуров развернулся к нему круто. – А насчет того народа, который эта тварь в клочки порвет, насчет него как? Россия, народ – не ты рассусоливал? Мы где, в Китае сейчас? Не русский народ оно в пасть пихает?
– Господи! – Платон бухнулся на колени и отбил поклон. – Ведь барин дело требует!
– Встаньте, что вы, – бормотал Воропаев, неловко пытаясь его поднять, но урядник подгибал ноги, не давался:
– Христом богом прошу – дай бомбу! Турок ты, что ли? Не дашь – весь дом перерою, а найду, сам кину!
– Хотите, и я рядом встану? – хмуро спросил Сабуров, чуя, какое внутреннее борение происходит в этом человеке, и пытаясь это борение усугубить в нужную сторону. – Сроду бы не встал, а вот приходится…
– Господа, господа! – Воропаев покраснел, на глаза даже навернулись слезы. – Что же вы на колени, господа… ну согласен я!
…Бомба имела облик шляпной коробки, обмотанной холстиной и туго перевязанной крест-накрест; черный пороховой шнурок торчал сверху. Воропаев вез ее в мешке на шее лошади, Сабуров с Платоном сперва держались в отдалении, потом привыкли.
Справа было чистое поле, и слева – поле с редкими чахлыми деревцами, унылыми лощинами. Впереди, на взгорке, полоска леса, и за ним – снова открытое место, хоть задавай кавалерийские баталии с участием многих эскадронов. Животы подводило, и все внутри холодело от пронзительной смертной тоски, плохо совмещавшейся с мирным унылым пейзажем, и оттого еще более сосущей.
– Куда ж оно идет? – тихо спросил Сабуров.
– Идет оно на деревню, больше некуда, – сказал Платон. – Помните, по карте, ваше благородие? Такого там натворит… Так что нам выходит либо пан, либо пропал. В атаку – и либо мы его разом, либо оно нас.
– С коня бросать – не получится, – сказал Воропаев. – Кони понесут…
– Так мы встанем в чистом поле, – сказал Сабуров отчаянно и зло. – На пути встанем, как деды-прадеды стаивали…
Они въехали на взгорок. Там, внизу, этак в полуверсте, страшный блин скользил по желто-зеленой равнине, удалялся от них, поспешал по невидимой прямой в сторону невидимой отсюда деревни.
– Упредить бы мужиков… – сказал Платон.
– Ты поскачешь? – зло спросил Сабуров.
– Да нет.
– А прикажу?
– Ослушаюсь. Вы уж простите, господин поручик, да как же я вас брошу? Не по-военному, не по-русски…
– Тогда помалкивай. Обойдем вон там, у берез. – Поручик Сабуров задержался на миг, словно пытаясь в последний раз вобрать в себя все краски, все запахи земли. – Ну, в галоп! Господин Воропаев, на вас надежда, уж сработайте на совесть!
Они далеко обскакали стороной чудище, соскочили на землю, криками и ударами по крупам прогнали коней, встали плечом к плечу.
– Воропаев, – сказал Сабуров, – бросайте, если что, прямо под ноги! Либо мы, либо оно!
Чудо-юдо катилось на них, бесшумно, как призрак, скользило над зеленой травой и уже заметило их, несомненно, – поднялись на стебельках алые шары, свист-шипенье-клекот пронеслись над полем; зашевелились, расправляясь, клубки щупалец, оно не задержало бега, ни на миг не приостановилось. Воропаев чиркнул сразу несколькими спичками, поджег смолистую длинную лучинку, и она занялась.
Поручик Сабуров изготовился для стрельбы, и в этот миг на него словно нахлынули чужая тоска, непонимание окружающего и злоба, но не человеческие это были чувства, а что-то животное, неразумное. Он словно перенесся на миг в иные, незнакомые края – странное фиолетовое небо, вокруг растет из черно-зеленой земли что-то красное, извилистое, желтое, корявое, сметанно-белое, загогулистое, шевелится, ни на что не похожее, что-то тяжелое перепархивает, пролетает, и все это не бред, не видение, все это есть – где-то там, где-то далеко, где-то…
Сабуров стряхнул это наваждение, яростно, без промаха стал палить из обоих револьверов по набегающему чудищу. Рядом загромыхало ружье Платона, а чудище набегало, скользило, наплывало, как ночной кошмар, и вот уже взвились щупальца, взмыли сетью, заслоняя звуки и краски мира, пахнуло непередаваемо тошнотворным запахом, бойки револьверов бесцельно колотили в капсюли стреляных гильз, и Сабуров, опамятовавшись, отшвырнул револьверы, выхватил шашку, занес, что-то мелькнуло в воздухе, тяжело закувыркалось, грузное и дымящее…
Громоподобный взрыв швырнул Сабурова в траву, перевернул, проволочил; словно бы горящие куски воздуха пронеслись над ним, словно бы белесый дым насквозь пронизал его тело, залепил лицо, в ушах надрывались ямские колокольцы, звенела сталь о сталь…
А потом он понял, что жив и лежит на траве, а вокруг тишина, но не от контузии, а настоящая – потому что слышно, как ее временами нарушает оханье. Поручик встал. Охал Платон, уже стоявший на ногах, одной рукой он держал за середину винтовку, другой смахивал с щеки кровь. И Воропаев, который не Воропаев, уже стоял, глядя на неглубокую курившуюся белесой пороховой гарью воронку. А вокруг воронки…
Да ничего там не было почти. Так, клочки, ошметки, мокрые охлопья, густые брызги.
– А ведь сделали, господа, – тихо, удивленно сказал поручик Сабуров. – Сделали…
Он знал наверняка: что бы он дальше в жизни ни свершил, чего бы ни достиг, таких пронзительных минут торжества и упоения не будет больше никогда. От этого стало радостно и тут же грустно, горько. Все кончилось, но они-то были.
– Скачут, – сказал Платон. – Ишь, поди целый эскадрон подняли, бездельники…
Из того лесочка на взгорке вылетели верховые и, рассыпаясь лавой, мчались к ним – человек двадцать в лазоревых мундирах, того цвета, что страсть как не любил один поручик Тенгинского полка, оставшийся молодым навечно. Триумфальные минуты отошли, холодная реальность Российской империи глянула совиными глазами.
– Это по мою душу, – сказал Воропаев. – Что, господа, будет похуже лунного чуда-юда. Ничего, все равно убегу.
К ним мчались всадники, а они стояли плечом к плечу и смотрели – Белавинского гусарского полка поручик Сабуров (пал под Мукденом в чине полковника, 1904), нигилист с чужой фамилией Воропаев (казнен по процессу первомартовцев, 1881), Кавказского линейного казачьего войска урядник Нежданов (помер от водки, 1886), – смотрели равнодушно и устало, как жнецы после страды, как ратоборцы после тяжелой сечи. Главное было позади – оставались скучные хлопоты обычного дня и досадные сложности бытия российского, и вряд ли кому из них еще случится встретиться с жителями соседних или отдаленных небесных планет…
Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Так утверждали древние, но это утверждение, похоже, не для всего происходящего в нашем мире справедливо.
Елена Крюкова
ПАЛЕОКОНТАКТ
ВИДЕНИЕ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
Гола была пустыня и суха.
И черный ветер с Севера катился.
И тучи поднимались, как меха.
И холод из небесной чаши лился.
Я мерз. Я в шкуру завернулся весь.
Обветренный свой лик я вскинул в небо.
Пока не умер я. Пока я здесь.
Под тяжестью одежд – лепешка хлеба.
А черный ветер шкуры туч метал…
Над сохлой коркой выжженной пустыни
Блеснул во тьме пылающий металл!
Такого я не видывал доныне.
Я испугался. Поднялись власы.
Спина покрылась вся зернистым потом.
Земля качалась, словно бы весы.
А я следил за варварским полетом!
Дрожал. Во тьме ветров узрел едва —
На диске металлическом, кострами
В ночи горя, живые существа
Смеялись или плакали над нами!
Огромный человек глядел в меня.
А справа – лев лучами выгнул гриву.
А там сидел орел – язык огня.
А слева – бык, безумный и красивый.
Они глядели молча. Я узрел,
Что, как колеса, крылья их ходили.
И ветер в тех колесах засвистел!
И свет пошел от облученной пыли!
Ободья были высоки, страшны
И были полны глаз! Я помолился —
Не помогло. Круглее живота Луны,
Горячий диск из туч ко мне катился!
Глаза мигали! Усмехался рот!
Гудел и рвался воздух раскаленный!
И я стоял и мыслил, ослепленный:
Что, если он сейчас меня возьмет?
И он спустился – глыбою огня.
Меня сиянье радугой схватило.
И голос был: – Зри и услышь меня —
Чтоб не на жизнь, а на века хватило.
Я буду гордо говорить с тобой.
Запоминай – слова, как та лепешка,
В какую ты вцепился под полой,
Какую съешь, губами все до крошки
С ладони подобрав… Но съешь сперва,
Что дам тебе.
Допрежь смертей и пыток
Рука простерлась, яростна, жива.
А в ней – сухой пергамент, мертвый свиток
Исписан был с изнанки и с лица.
И прочитал я: «ПЛАЧ, И СТОН, И ГОРЕ».
Что, Мертвое опять увижу море?!
Я не избегну своего конца,
То знаю! Но зачем опять – о муке?
Избави мя от страха и стыда.
Я поцелуями украсить руки
Возлюбленной хочу! Ее уста —
Устами заклеймить!.. Я помню, Боже,
Что смертен я, что смертна и она.
Зачем Ты начертал на бычьей коже
О скорби человечьей письмена?!
Гром загремел. В округлом медном шлеме
Пришелец тяжко на песок ступил.
«Ты зверь еще. Ты проклинаешь Время.
Ты счастье в лавке за обол купил.
Вы, люди, убиваете друг друга.
Земля сухая впитывает кровь!
От тулова единого мне руки
Протянуты – насилье и любовь.
Хрипишь, врага ломая, нож – под ребра.
И потным животом рабыню мнешь.
На злые звезды щуришься недобро.
На кремне точишь – снова – ржавый нож!..
Се человек! Я думал, вы другие.
Там, в небесах, когда сюда летел…
А вы лежите здесь в крови, нагие,
Хоть генофонд один у наших тел!
Я вычислял прогноз: планета гнева
Планета горя боли и тоски
О где, равновеликие, о где вы.
Сжимаю шлемом гулкие виски
Язычники отребье обезьяны
Я так люблю беспомощные вас
Дерущихся слепых поющих пьяных
Глядящих морем просоленных глаз
Орущих в родах кротких перед смертью
С улыбками посмертных чистых лиц
И тянущих из моря рыбу – сетью
И пред кумиром падающих ниц.
В вас – в каждом – есть такая зверья сила
Ни ядом ни мечом не истребить
Хоть мать меня небесная носила
Хочу жену земную полюбить
Хочу войти в горячечное лоно
Исторгнув свет во тьме звезду зачать
Допрежь рыданий прежде воплей стонов
Поставить яркой Радости печать
Воздам сполна за ваши злодеянья
Огнем Содомы ваши поражу
Но посреди звериного страданья
От самой светлой радости дрожу:
Мужчиной – бить
И женщиной – томиться
Плодом – буравить клещи жарких чресл
Ребенком – от усталости валиться
Среди игры
Быть старцем что воскрес
От летаргии
И старухой в черном
С чахоткою меж высохших грудей
Что в пальцах мелет костяные четки
Считая сколько лет осталось ей
И ветошью обвязанным солдатом
Чья ругань запеклась в проеме уст
И прокаженным нищим
И богатым
Чей дом назавтра будет гол и пуст
И выбежит на ветер он палящий
Под ливни разрушенья и огня
И закричит что мир ненастоящий
И проклянет небесного меня
Но я люблю вас
Я люблю вас люди
Тебя о человек Езекииль
Я улечу Меня уже не будет
А только обо мне пребудет быль
Еще хлебнете мерзости и мрака
Еще летит по ветру мертвый пух
Но волком станет дикая собака
И арфу будет обнимать пастух
И к звездной красоте лицо поднимешь
По жизни плача странной и чужой
И камень как любимую обнимешь
Поскольку камень наделен душой
И бабье имя дашь звезде лиловой
Поскольку в мире все оживлено
Сверкающим веселым горьким Словом
Да будет от меня тебе оно
Не даром – а лепешкой подгорелой
Тем штопанным застиранным тряпьем
Которым укрывал нагое тело
В пожизненном страдании своем»
…И встал огонь – ночь до краев наполнил!
И полетел с небес горячий град!
Я, голову задрав, себя не помнил.
Меж мной и небом не было преград.
Жужжали звезды в волосах жуками.
Планеты сладким молоком текли.
Но дальше, дальше уходило пламя
Спиралодиска – с высохшей земли.
И я упал
Сухой живот пустыни
Живот ожег мне твердой пустотой
Звенела ночь
Я был один отныне
Сам себе царь и сам себе святой
Сам себе Бог и сам себе держава
Сам себе счастье
Сам себе беда
И я заплакал ненасытно жадно
О том чего не будет никогда.
Лев ВЕРШИНИН (Одесса)
САГА ВОДЫ И ОГНЯ
МАРГАРИТЕ…
…и хотя сами мы не знаем, правда ли эти рассказы, но мы знаем точно, что мудрые люди древности считали их правдой.
Снорри Стурлусон «Круг земной»
I
Я, Хохи, прозванный Чужой Утробой, сын Сигурда, владетеля Гьюки-фиорда, расскажу о том, что было со мною и спутниками моими после того дня, когда направили мы на север бег коня волны. Вас зову слушать, братья мои Эльдъяур и Локи, сыновья моего отца, не любившие меня. И вас, побратимы, что пошли со мною, не принужденные никем. И тебя, Бьярни Хоконсон, скальд, последний из нас, кто еще жив, не считая меня самого. Трудно говорить о необычном: ведь много серых камней-слов хранят люди, но не каждому дан премудрыми асами[3]3
Асы – боги (сканд.)
[Закрыть] дар слагать из них кёнинги[4]4
Кёнинг – торжественное иносказание (сканд.) Например: щит – луна ладьи; секира – гроза щитов; битва – буря меча.
[Закрыть], сверкающие на струнах подобно алым каплям в венцах конунгов[5]5
Конунги – короли (сканд.)
[Закрыть] Юга; оттого мало саг говорю я, Бьярни, спутник мой, рожденный от семени славного скальда Хокона: возьми детей языка моего и уложи их по-своему, как подскажет тебе кровь отца, уложи одно к одному, чтобы под небом фиордов засияла новая сага, сага Воды и Огня…
II
Отто Нагеля пригласили в кабинет рейхсфюрера немедленно по прибытии. Он даже не успел удивиться; увидев же лицо Гиммлера, – испугался. Видимо, что-то случилось. Но что?
За свой отдел Нагель был спокоен: спецкоманда для того и существует, чтобы быть готовой в любую минуту. Так что сам по себе срочный вызов не сулил неприятностей. Однако в таком состоянии Нагелю видеть железного Генриха еще не доводилось. Глаза, обычно мертвенно-спокойные, жили сейчас какой-то особой, непонятной жизнью.
– Нагель! – Рейхсфюрер вышел из-за стола и подошел почти вплотную. – Вы хорошо знаете Норвегию?
– Я служил там полгода в сороковом, рейхсфюрер!
Быстрота и четкость понравились. Здесь любили определенность. И ценили умение сохранить выдержку.
– Очень хорошо, Нагель. Приказываю: срочно подобрать участок побережья севернее Бергена, выделить охрану и затребовать строительную команду. Из тех, кого потом не придется жалеть. Ответственный – лично вы. Остальные дела сдайте заместителям.
– Яволь, рейхсфюрер.
– Далее. Сотрудник, непосредственно руководящий охраной объекта, должен быть очень… – близорукие глаза Гиммлера скользнули по лицу замершего Нагеля, – вы понимаете, очень надежен.
– Понимаю, рейхсфюрер.
– И еще. Любая дополнительная информация, касающаяся объекта, необходима лично мне. – Гиммлер помолчал и с нажимом повторил: – Лично мне. Вам ясно, мой Друг?
– Так точно, рейхсфюрер!
Рубашка на спине промокла насквозь и, казалось, прикипела к коже. Если этот человек просит информацию у подчиненного, значит, всех данных не имеет никто. И, следовательно, кому-то выгодно, чтобы Гиммлер знал только то, что знает. Но если так… О Господи, храни раба твоего…
Не сводя с побелевшего лица Нагеля глаз, вновь ставших тусклыми и равнодушными, рейхсфюрер подошел ближе и, протянув узкую ладонь, добавил почти участливо:
– Идите, мой друг. И запомните, за любую неудачу вы, именно вы, а потом уже все остальные, ответите головой…
…Из Управления бригаденфюрера Отто Нагеля выпустили только к вечеру, когда дежурный врач счел, что сердечный приступ купирован.
III
Финнбогги, погибший от данской секиры, был сыном Аудуна, сына Гунтера, сына Эйрика, от отца же героев Одина сороковым. Третий сын его, Инге, за буйный нрав прозванный Горячкой, убив в поединке Фрольва Бессмертного, бежал от кровавой мести из родительского фиорда и, уходя, взял по согласию отца одну ладью на пять пар гребцов и тех викингов, что признали его ярлом[6]6
Ярл – князь, военный вождь (сканд).
[Закрыть]. Тридцать зим и еще семь прожил он и оставил сыну Бальгеру Гьюки-фиорд, взятый по праву меча у прежнего владельца, и три ладьи, носившие пять десятков гребцов, а также горд, сложенный из прибрежных камней, с очагом и полями. Бальгер Ингесон приумножил нажитое отцом и, породив Агни, завещал ему пять ладей с веслами на тринадцать десятков гребцов, причем ни один рум в походе не пустовал[7]7
Рум – скамья для гребца (сканд.)
[Закрыть]. Сыном же Агни Удачника стал Сигурд, родивший меня, тот, которого на восемнадцатой весне нарекли Грозой Берегов, а ныне; вспоминая, говорят просто: Сигурд Одна рука. Матери же своей я не помню.
Чужой Утробой прозвали меня люди Гьюки-фиорда, но нет в этом моей вины, как нет и лжи в прозвище. Валландской рабыней рожден я, Хохи, рабыней и пленницей, и рождение мое стало смертью матери моей. Потому не видел я ее, но знаю: Сигурд-ярл любил валландку и, не велев трудиться в усадьбе, поселил ее в своем доме и приходил к ней по ночам, наскучив надменностью жены своей Ингрид, дочери Улофа Гордого из южных свеев. Зная об этом, Пустым Ложем прозывали меж собой свейку люди фиорда, и гневна была Ингрид на мою мать; после смерти ее, не простив, перенесла свой гнев на меня. Признанный Сигурдом, рос я, как один из сыновей, но жизнь моя не была легка, ибо от зимы до зимы бродил ярл по путям волн, люди же фиорда сторонились меня и не мешали Ингрид говорить недобрые слова, иные – из страха перед долгой памятью дочери Гордого, а многие из неприязни к валландской крови, половиной доли разбавившей мою. Злее же прочих были братья мои Эльдъяур и Локи: ведь обида матери стала их обидой, как и положено для добрых сыновей. Локи, острый на язык, назвал меня впервые Чужой Утробой, и смеялась Ингрид, и окликали братья меня так, не боясь моего гнева, ибо их было двое, а я один, возрастом же Эльдъяур превосходил меня на зиму и лишь на две зимы уступал мне Локи. Люди же фиорда, глядя на воду жил, текущую по моему лицу после встреч с братьями в укромном углу, судачили, смеясь: «Видно, охота была пошутить асам, если залили они в жилы валландке кровь цвета нашей!» Отцу же, когда приводил он на зиму коня морей, не говорил я о своих обидах, думая так: и вправду ведь я – Чужая Утроба; за что ему упрекать сыновей? И еще думал я: пусть говорят Эльдъяур и Локи; придет время и моему гневу.
Двадцатую зиму встретил я, когда раньше времени вернулся из похода Сигурд-ярл, вместо добычи привезя с собой правую руку, завернутую в мешок из тюленьей шкуры. Притихли было люди Гьюки-фиорда, не зная, что будет теперь, когда проведают соседи об увечии? Не придут ли со злом? Но смеялся Сигурд: «Что с того? Со мной моя рука, вот лежит она в мешке. А что не на плече, так это и удобнее: рукавица не нужна!» И поняли свою ошибку соседи, когда пришли, но для многих уже не было выгоды в мудрости: головы их остались на столбах у моря даром вороньему роду, детям священного Мунира, Птицы Одина, отца героев. Обилен был пир, и долго благодарили вороны нас отрывистым криком, когда, отягченные пищей, улетали с побережья.
Но, хоть и смеялся Сигурд-ярл, иссякали силы его; сваны-оборотни, приходя незримо, сушили отца. И, почувствовав предел жизни, призвал ярл людей фиорда, и пришли они на зов, толпой став у крыльца, опершись на мечи. Когда же стих говор, вышли к ним старейшие, ведя Сигурда; сам не мог уже стоять прямо. И вызвал ярл из толпы нас, сыновей. Эльдъяур первый подошел на зов, по праву старшего, видевшего два десятка зим и еще две. Сказал Сигурд: «Старшего право – лучшая доля!» И, сказав так, отдал Эльдъяуру ведьму щитов, секиру отца своего Агни Удачника, с насечками на древке, и было этих насечек ровно сто, по числу побед, принесенных ее деду моему. Когда вернулся к викингам Эльдъяур, шагнул я к крыльцу, ибо вторым был по старшинству, но опередил меня Локи, младший, – и не по закону был такой поступок. Но не возразили викинги, и промолчали старейшины, и усмехнулась Ингрид-свейка, взглянув на меня; Сигурд же ярл также не отослал Локи на его место, видя, что люди фиорда не встанут за валландского выкидыша: так еще называли меня за спиной. Сказал Сигурд: «Младшего доля – верный защитник». И, молвив так, отдал Локи луну ладьи, щит, сохранявший еще прадеда моего Бальгера, сына Инге, и изгрызен был обод щита: известно ведь, что, унаследовав нрав Горячки, берсеркером[8]8
Берсеркер – воин, одержимый боевым безумием (сканд.)
[Закрыть] был Бальгер, забывавший в гневе боль и изгрызавший в ярости свой щит. С торжеством усмехнулась Ингрид, люди же сказали: «Поистине, велика любовь ярла к младшему сыну: старшему славу недавних дней передал Сигурд, для Локи же древней славы не пожалел». И посмотрели на меня, ибо мне пришло время идти к отцу, даром же мне мог быть лишь меч, поданный старейшими. Хороший меч, тяжелый, в ножнах, изукрашенных серебром, славный меч отца моего Сигурда, принесший ему славу Грозы Берегов, – но с предками не связывал обладателя; потому младшим оставался я навсегда, получив его.
Сказал Сигурд: «Ярла желанье – Одина воля, сыну любимому – доля по праву!» Удивились люди фиорда длинной речи, но уже принял ярл у старейшины меч и, обнажив, мне подал. И вскрикнули стоящие толпой, ибо не Сигурдов меч поднял я! Ворон это был, славный Ворон, черный клинок предка Финнбогги, взятый им из рук Аудуна Убийцы Саксов, принявшего меч тот по воле Гунтера; Ворон, клык руки, держал я, черный меч, что сорок и четыре поколения предков хранили бережнее жены и надежней весла, ибо откован клинок отцом героев Одином и Один же дал ему имя Ворон, в честь и на радость чернокрылому Муниру, вестоносцу Валгаллы[9]9
Валгалла – обитель асов, рай героев (сканд)
[Закрыть].
Умолкли викинги, глядя на меч, и не смеялась уже Ингрид, и братья мои молчали, потеряв слова; отец же, Сигурд, шагнул вперед, желая говорить с людьми Гьюки-фиорда, – и упал, и уронил голову к ногам стоящих, а когда подняли его, лишь тело лежало на руках слуг, душа же стремилась к воротам Валгаллы. Так отдал фиорд свой сыновьям Сигурд-ярл, сын Агни, сына Бальгера, сына Инге, сына Финнбогги, сына Гунтера, сына Эйрика, от прародителя Одина сорок четвертый; в ряду же владетелей Гьюки-фиорда четвертый по счету, но не последний по славе. Так ушел он в Чертог Асов, оставив сыновьям своим Эльдъяуру, Локи и мне, Хохи, прозванному Чужой Утробой, людей фиорда и ладьи, которые еще предстояло делить.
IV
Веселым людям жить легко, а смешным трудно. Как жить? – каждый выбирает сам. Юрген Бухенвальд сделал свой выбор в тот день, когда, закончив вчерне расчеты, понял, что он – гений. С тех пор над ним смеялись все и всегда. Кроме Марты, разумеется. Но Марта умница, золотая душа, именно поэтому Юрген посмел сделать ей предложение и никогда не имел повода пожалеть о своем решении.
Коллеги на кафедре едва не заболели от смеха, когда Юрген рискнул предложить их вниманию свои наметки. Они даже не пытались спорить, они хохотали, утирая глаза платочками. Отсмеявшись, профессор Гейнике сообщил ассистенту Бухенвальду, что университет дорожит своей репутацией и он, заведующий кафедрой, не считает себя вправе пользоваться услугами прожектера и («уж простите старика за прямоту, герр Бухенвальд…») потенциального шарлатана. На бирже труда тоже изрядно веселились, когда в дверях возникала нескладная фигура, уныло выклянчивающая любую работу. Непризнанные гении, как правило, не умеют работать руками, а времена были нелегкие. Кризис! Без работы маялись тысячи специалистов, и на фоне их, бойко потрясающих перед агентом блестящими рекомендациями, Юрген Бухенвальд был смешон вдвойне. Боже, Боже! Марта вытянула его из петли; она разрывалась между орущим Калле и случайными клиентками с их дурацкими выкройками. Милая Марта, счастливый билет! Только она верила в Юргена и в наступление лучших времен.
Потом работа отыскалась. С казенной квартиркой, с жалованьем – небольшим, но стабильным. Листки с формулами прочно осели в столе; Марта не позволяла их выбросить, но Юрген знал, что все это уже в прошлом. Бывают ли гениями преподаватели гимназии? Преподавал же он добросовестно, но уныло, отчего и стал посмешищем для учеников. Правда, дети смеялись беззлобно. Что делать, если учитель и впрямь похож на циркуль! А так, что ж? Все наладилось. Калле подрастал. Ах, сын… В кого только пошел? Ни в мать, ни в отца – это уж точно. Ладный, смелый, не давал себя в обиду; в доме вечно шум, друзья, девушки. Никто не смеялся над Калле, и отец подумывал уже показать ему пожелтевшие тетрадки. Да, это была неплохая жизнь, но Калле призвали, а вскоре Марта вынула из почтового ящика коричневый конверт с рейхсадлером вместо марки.
С того дня причуды Циркуля усилились: физик мог подолгу искать неснятые очки, иногда застывал, глядя в одну точку, среди урока. Отдадим должное: сотрудники с пониманием отнеслись к горю семьи Бухенвальд и постарались окружить герра Юргена вниманием и заботой. Чуткости в рейхе пока что хватало, ведь похоронки были еще редкими птичками. Но знать, что Калле больше нет, было невыносимо. Юргена спасли формулы; они возникали перед глазами везде: на улице, в гимназии, дома. А дом и держался-то на хозяине. Марта с сентября тридцать девятого лежала пластом и молилась, прося Господа покарать поляков и, если можно, вернуть сына.
Марта и формулы. Формулы и Марта. Больше ничего. Дивизии рейха резали Европу, как нож масло; обрезки этого масла появились в лавках, но Бухенвальд не сопоставил причины и следствия. С него было достаточно того, что масло полезно жене. Жизнь ползла, как мутный сон: гимназия, аптека, лавка, дом; масло, картофель, сыр, сердечное, компрессы, счет от кардиолога. И формулы, чтобы не думать о сыне, чтобы найти силы жить во имя жены.
Когда в дом постучался улыбчивый толстяк и попросил Марту проследовать с ним для выяснения некоторых («…поверьте, фрау, весьма незначительных…») деталей, Юрген помог супруге подняться, одел, застегнул боты, закутал в платок и проводил до самого отделения гестапо. Час, и два, и три сидел он, ожидая, но Марта все не выходила. Дежурный не располагал сведениями. Наконец, уже к семи, все тот же толстяк выглянул и предложил герру Бухенвальду идти домой.
Что было дальше? Все – сон. Он, кажется, кричал, умолял, требовал. Она арийка, ручаюсь! Вы слышите, арийка! При чем здесь прапрадед, господа? Мы честные немцы, мы преданы фюреру, наш сын отдал жизнь во славу нации в польской кампании! Где моя жена? У нее больное сердце, вы не имеете права! Уберите руки, мерзавцы! С ним пытались говорить – он не слушал. Видимо, в те минуты, не сознавая ничего, Юрген позволил себе дурно отозваться о фюрере. Во всяком случае, его повели в отделение и долго били. Били и смеялись.
Но смешнее всего было лагерному писарю.
Упитанный, рослый, из уголовной элиты, он прямо-таки катался по полу. Нет, это же надо: Бухенвальд в Бухенвальде! Скажите-ка теперь, что на свете нет предопределений!
Писарю вторила охрана.
Живой талисман!
Ясное дело: промысел божий!!
Его надо беречь, ребята!!!
А Юргену было все равно. Он замолчал. Терял вес. Оставленный при кухонном блоке, заключенный № 36792 даже не пытался пользоваться выгодами своего положения. С метлой в руках, бессмысленно глядя в пол, шаркал по бараку, затверженными движениями наводя чистоту. По ночам ему снились формулы. Только формулы. И Марта.
В один из дней его вызвали в управление. Там некто в сером костюме спрашивал о чем-то. Какие-то бумаги, какой-то реферат… Юрген Бухенвальд не отзывался. Он стоял перед столом в положенной позе – руки по швам, носки врозь – и глядел в стену отрешенными глазами. Серый костюм горячился, бранил коменданта, тот оправдывался, справедливо подчеркивая, что этот заключенный находится в достаточно привилегированном положении, охрана его балует, а по уставу лагерь не богадельня, и никаких особых инструкций относительно номера 36792 не поступало. Комендант, сильный и уверенный офицер, говорил тоном человека, сознающего свою невиновность, но не смеющего настаивать. Видимо, приезжий из Берлина располагал немалыми полномочиями.
Юрген помнит: по багровому лицу коменданта катился крупный горох пота. Да-да, это он помнит отлично, потому что сразу вслед за этим человек в сером вышел из-за стола и, подойдя вплотную, протянул ему фотографию:
– Вы узнаете, герр Бухенвальд?
И тогда формулы, наконец, исчезли, потому что на фотографии была Марта. Исхудавшая, измученная, но безусловно Марта!
– Где моя жена?
За полгода это были первые слова, произнесенные Юргеном Бухенвальдом.
– Она в полной безопасности и довольстве. Только от вас, профессор, зависит ее и ваша собственная судьба.
Гость из Берлина прекрасно знал, что стоящий перед ним недоумок никогда не поднимался выше ассистента. Но за красноречие ему платили, равно как и за сердечность интонаций. Приказ найти в Бухенвальде заключенного Бухенвальда («…ваши ухмылки неуместны!») и склонить его к сотрудничеству был категоричен и исходил из инстанций наивысочайших. Неисполнение исключалось категорически.
Юрген слушал и постепенно принимал к сведению. Марта жива, это главное. Происхождение ее прапрадеда может быть забыто, это, в сущности, чепуха, равно как и непродуманные высказывания самого герра Бухенвальда. Неужели?! Он попытался поцеловать руку господину в сером, тот ловко отшатнулся и, протянув портсигар, предложил «профессору» присесть и серьезно поговорить.
Впрочем, беседа была недолгой. Все что угодно, добрый господин. Все, все! Разумеется! Да, этот реферат принадлежит мне. Написан давно. Да, единодушно отклонен кафедрой. Нет, вполне уверен, что теоретическая часть верна. Практика? Но у меня никогда не было подобных средств. Не знаю, наверное, много. Думаю, в течение полугода. Да, конечно, готов служить, готов, готов, искуплю, понимаю, как виноват, но я искуплю, клянусь всем святым…
Простите, ради Бога, один только вопрос: позволят ли мне повидаться с женой?
…В комнате нудно пахло сердечными каплями. Марта спала неспокойно, изредка тяжко всхлипывая. Потихоньку, стараясь не делать резких движений, Юрген Бухенвальд опустил ноги на пол и нащупал войлочные туфли. Подошел к окну. Раздвинул шторы.
Серый рассвет медленно выползал из-за холмов, стекая по прибрежной гальке к свинцовым волнам, опушенным белыми кружевами. Море негромко рокотало. Сквозь размытую предутреннюю пелену с трудом различались очертания катера, покачивающегося вблизи от берега, и темная громада главного корпуса. Когда выглянет солнце, позолота на фасаде засверкает, а пока что это просто пятно, черное на сером. Любопытно, что сказали бы рыбаки, выселенные отсюда год назад, поглядев на главный корпус? Позолота и граненое стекло; подделка, но какая! Еще бы: полмиллиона марок только на оформление. Как один пфенниг… А во сколько обошелся сам проект? И ведь затраты еще предстоят…
В человеке, стоящем у окна, вряд ли кто-то признал бы прежнего Циркуля. Удивительно, что делают деньги! Не дурацкие бумажки, но материализованное признание твоей исключительности. Сегодня Юрген Бухенвальд знал себе цену: в десять миллионов по смете оценила родина его гениальность. Дубовые головы с кафедры, если бы вы могли полюбоваться на проект! Вы смеялись? Так извольте же взглянуть на дело рук изгнанного вами «шарлатана». Только взглянуть, понять все равно не сможете! Куда вам… Нужно иметь прозорливые умы вождей, чтобы оценить в полной мере мое открытие! На базе Юргена именовали «профессором», и он имел право, минуя эсэсовцев из охраны, проходить всюду. Без исключений! Он шел, заложив руки за спину (проклятая лагерная привычка…) и высоко подняв, голову. Ее, право же, стоило нести гордо.








