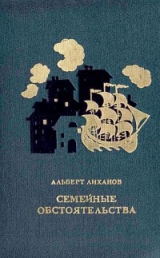
Текст книги "Семейные обстоятельства (сборник)"
Автор книги: Альберт Лиханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
В Котьке накопилось много мыслей, ему их надо обсудить, и он без передыху говорит Сереже:
– Хочешь, научу, как надо сорок ловить? Берешь бумажку от шоколадной медальки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь медальку под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумажку увидит, подлетит, а ты веревочку к себе тяни. Она подойдет, ты снова – к себе. Вот сорока за блестинкой совсем близко подойдет, тут ты и ловишь.
Котька облегченно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности и Сережа уйдет. Но Сережа не ушел, и теперь можно вздохнуть. И даже вытереть под носом.
– Котька, – спрашивает Сережа. – А ты тут с кем?
Но Котька не успевает ответить.
– Сережа! – кричит от проходной тетя Нина. – Иди сюда! Я тебя проведу!
Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. На специальном табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»
Тетя Нина вводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Сереже так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.
Вот интересно! Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага… В фотографии свет записывает твое лицо, это ясно. Происходят химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то посложней изображения! Записывает звук!
Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на большое окно в стене.
За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами – что-то говорит, но что – не слышно. И это выглядит очень забавно.
Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены обиты материей, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штук пять микрофонов. Один, побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с потолка.
Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит – глядит на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.
Мама ведет себя так, будто совсем одна. А на нее глядят человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смутился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она своим занята.
Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.
У главного магнитофона стоит дядька – седой и лохматый. Волосы у него будто дым из трубы валит, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.
– Молодец, Анька! – кричит он маме, щелкнув чем-то.
И вдруг мамин голос, измененный динамиком, Сережу оглушает.
– Черта с два! – говорит мама грубо. – Переписываем!
– В последний раз, – испуганно кричит взлохмаченный дядька. – А то на тебя не угодишь! Просидишь с тобой до ночи! И передача скоро!
– Не ори! – спокойно советует ему по радио мама.
Сережа думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с маминым голосом несется назад, как курьерский поезд.
Лужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде желтым бисером. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч. Над крышами повис яркий лунный зрачок.
Они идут медленно, мама вдыхает воздух, в котором словно растворилась тополиная листва, и тихо повторяет:
– Как хорошо!.. Хорошо…
Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить Котьку, и убежала. Сережа стоял в аппаратной до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сережа все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима.
Просто так сказать: «Я согласен» – глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.
Сережа весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит.
Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина – самая счастливая. Отчего? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отвлечется. С ней ведь все поговорить хотят. Ниночка да Ниночка: всякий, кто мимо нее пройдет, – знакомый, конечно, – непременно остановится. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная. Так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит, обаятельная.
Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грудной.
Она, как и мама, стихи очень любит. Мама ее хвалит за стихи. А тетя Нина маму хвалит.
Мама ее обрывает, говорит:
– Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
Они смеются обе. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия – дикторы. Только одна – радиодиктор, другая – теледиктор.
Но разница между ними все-таки есть.
Про эту разницу мама любит теге Нине рассказывать.
– Возраст – раз. Два – вывеска. – Это мама лицо вывеской называет. – Три – характер. А на трех китах, как известно, держится мир.
Характеры у них действительно разные. Мама курит много. А это не просто привычка. Иногда так закурится, задень ее, она как камень раскаленный. Плесни воды – взорвется.
Да что там говорить… Счастливая – несчастливая. Это же не только от удачи зависит, от выигрыша какого-то. Это ведь не лотерея.
Счастливый человек счастлив потому, что он такой, а не другой. Был бы другим, стал бы несчастливым. Была бы тетя Нина, как мама, тоже, наверное, несчастливой оказалась.
Но тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая.
Сережа задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая!
Сережа припоминает утренний разговор. Явление Никодима. И вчерашний.
Вон она какая добрая, мама. Решила, что Сереже с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Сережки.
Выходит, несчастным и от доброты тоже стать можно.
Сереже делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.
– Ну что, Сергуня, – говорит мама, – вот и добрались мы домой?
– Добрались, мама, – отвечает Сережа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово – светлое и прозрачное, – чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, тотчас, почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может.
– Мам! – говорит он грубо, как она, и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит. – Мама, – повторяет Сережа непослушным голосом. – Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима, – он молчит, потом поправляется: – …Никодима Михайловича. – И опять молчит. – Я не против, – выговаривает он наконец, – пусть женится на тебе.
Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами.
– Пусть он на тебе женится, – начинает торопиться Сережа, – пусть. В тесноте, да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать. – И кончает неожиданно: – Ведь папы нет…
Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ.
– Не думай об этом, Сергунька, – говорит мама. – Я ведь решила.
Он отшагивает от нее.
– Это ты из-за меня, – говорит он громко.
Мама молчит, качает головой.
– Да он теперь не придет, – говорит мама.
– Придет! – уверенно смеется Сережа. – Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!
– Глупенький, – улыбается мама, – не все просто. Он не придет. И я к нему не пойду.
– Значит, я пойду! – не задумываясь, отвечает Сережа, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Брякнул, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?
12
Утром, по дороге в школу, Сережа видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст.
Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстаются, даже не кивнув друг другу.
Сережа глядит, как Литература ковыляет, покачиваясь, на каблуках, будто на коньках, потом оборачивается на мужчину и обмирает.
Через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим.
Сережа мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед.
Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.
Сережа обгоняет Никодима и останавливается перед ним.
– Здравствуйте, Никодим Михайлович, – говорит он, переводя дыхание. Никодим останавливается. Удивленно разглядывает его.
– Ну, привет! – отвечает тот недоверчиво.
– Это я виноват, Никодим Михайлович, – говорит Сережа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. – И я вас не ненавижу. Вы ошибаетесь, – Сережино наступление обескураживает Никодима. – Если я вас обидел, извините меня, – продолжает Сережа. – Вы должны к нам прийти.
– Никому ничего я не должен, – мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: – Это ты сам? Или мама тебя послала?
– Эх вы! – задыхается от возмущения Сережа. – Можно ведь догадаться, кажется! Если бы мама, я вас дома нашел. А я случайно вас увидел. С училкой нашей. С Литературой.
Никодим растерянно кивает, огибает Сережу, потом оборачивается:
– С Литературой, говоришь?
И вдруг смеется.
Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается – ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим.
Вовсе не противный.
– С Литературой, – кивает Сережа и смеется тоже. – А вы с ней, оказывается, знакомые!
– Знакомые! – говорит Никодим.
Они стоят друг против друга и улыбаются – тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше.
Часть вторая
Свадебное путешествие
1
Свадебное путешествие…
Никодим сказал:
– Едем в свадебное путешествие.
– Счастливого пути, – дрогнув, ответил Сережа.
– И ты с нами, – сказал Никодим.
Сережа посмотрел на него подозрительно.
– Куда? – спросил он.
– Секрет фирмы, – засмеялся Никодим.
– А когда?
– Когда кончишь учиться.
Сережа где-то читал, что раньше в свадебные путешествия ездили за границу. На каком-нибудь пароходе с парусами. На какие-нибудь Азорские острова.
Вот житуха была! Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару. Любуйся морями и пальмами.
Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.
Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.
Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей – подумать только! – три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потер – нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.
Сережа у мамы давно велик просит. Мама не покупает. Ей не жалко, она боится, что он под машину угодит. А тут три сразу! Да откуда?
Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.
– Последние подробности, – говорит он. И велит: – Вставай скорее!
Они быстро завтракают, выводят во двор своих коней, Никодим рассказывает, как весь вечер чистил в сарае от смазки купленный вчера велик для Сережи, как брал напрокат остальные.
И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз – и они в свадебном путешествии. Едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке.
У Сережи дорожный «ЗИЛ» – он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный. На бугорочках сиденье пружинит – не скрипнет! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля: «Чш-ш-ш!» Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик как вкопанный на месте стоит.
Сережа разгоняется по дороге, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Сережа тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чем они говорят.
– Если гнать, – говорит Никодим, – то можно и за сутки доехать. Восемьдесят километров, не так уж много. Но к чему? За три дня не спеша и доедем. Покупаемся где-нибудь. Позагораем. Цветов нарвем! Заночуем у костерка.
Мама согласно кивает Никодиму, Сережа смотрит на него с интересом.
«Как все-таки я не прав был, – думает. – На Никодима зверем глядел. Карточку его ненавидел».
Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сережа разглядывает его. Вглядывается.
Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы сивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Белокурыми. Но не чисто. С каким-то серым отливом. И уши торчат, тоже правда. Но, если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого, напротив, прижатые. Тоже нехорошо. А в общем-то, для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщине – да. Уши торчком – нехорошо. Но и то их, наверное, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отрастить, на затылке узлом завязать – вот уши и прижмутся.
От Никодима Сережа к Ваське переходит почему-то. О ней думает. Хорошо, думает он, у Васьки вот уши не торчком. У нее вообще все, как надо. Косичка сзади толстая. Глаза… Он вспоминает Васькины глаза. Как два выстрела…
Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Ваське думает. Уж не того ли… Не влюбился?
Раньше бы за такую идею Сережа сам на себя разозлился. А сейчас, странно, ему даже приятно это слово повторять. Влюбился… Хм… Влюбился.
Ничего такого Сережа не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но как-то со стороны словно бы. Вон Понтя зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Не античный, конечно, но ничего. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила, отцовский нос. Она его вообще на две части делила. «Нос, – говорила, – отцовский, а глаза мои. Ресницы тоже мои, я когда девчонкой была, они такие же пушистые были. Даже смотреть мешали». Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит. «Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают…»
Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало. Вот черт, локоть саднит.
Сережа смущенно поднимает свой «ЗИЛ», оглядывает технику. К нему бежит мама, ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в кювет, кладет рядом со своим, подходит к ним тоже.
– Как это тебя угораздило? – смеется он.
Сережа пожимает плечами. Не признаваться же, в самом деле, что в зеркало загляделся!
– Тебе шутки, – недовольно одергивает Никодима мама. – А у него кровь, видишь. Локоть разбил.
– Сейчас обеспечим, – говорит Никодим и приносит свой рюкзак.
Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сереже больно, он попискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А в глазах Никодима срамиться нельзя.
– Перебинтуем? – смеется Никодим, но Сережа качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без маминых сентиментальностей. Раз-раз – и готово. По-солдатски.
Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сережа.
– Со мной однажды случай был, – говорит Никодим. – В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой дело было. Стою я у склада, карабин на плече…
– Заряженный? – спрашивает Сережа.
– Конечно, заряженный, – отвечает Никодим. – Ведь на посту! Ну стою я, валенками притопываю, чтобы не околеть. А погода как на зло: ветер, снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа болтается.
Хожу я, значит, как положено вдоль склада. У двери чуть топчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность – три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу – под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет!» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу, гляжу – полез. В третий раз окликаю – шевелится. Ну, я в воздух – шар-рах!
– Выстрелил? – ужасается Сережа.
– Выстрелил. Потом целюсь в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.
– Ну? – нетерпеливо торопит Сережа.
– Ну прибежало начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили. Со сжатым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится.
Сережа хохочет, мама не отстает.
– Не смейтесь, – говорит Никодим, – надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали «Бдительный».
Мама и Сережа покатываются над Никодимом. Над его незадачливостью. Никодим и сам беззаботно смеется. Это хорошо, думает Сережа. Мама ему говорила, что если человек над собой посмеиваться не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.
Никодим все больше симпатичен Сереже.
– А на войне вы были? – спрашивает он Никодима.
– У Никодима Михайловича имя-отчество есть, – строго глядит на Сережу мама.
– Вот пустяки! – обижается Никодим. И говорит серьезно: – Ты это, Аня, брось! Как Сереже захочется, так пусть и зовет.
Сережа нажимает педали, мчится вперед.
Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?
– Сережа! – кричит сзади мама. – Подожди!
Сережа не тормозит, но и не крутит больше педали.
Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережу.
– На войне я не был, – говорит ему Никодим, – хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку.
Мне, когда война началась, десять лет было… Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок – до леса – наперегонки пройдем. Кто кого.
Сережа, улыбаясь, кивает.
– Но вы же не на равных, – говорит мама.
– А мы устроим гандикап, – говорит Никодим. – То есть уравняем силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед, к тому кусту… Вот теперь на равных.
Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку.
– Приготовились! – кричит она. – Внимание! Марш!
Сережа привстает с седла, всем весом наваливается на педали – даже цепь трещит – и мчится вперед, к невидимому финишу.
Он не оборачивается. На соревнованиях не глядят назад.
Сережа летит вперед, нависая над рулем.
Ветер звенит в ушах. Запах сладкого клевера врывается в ноздри.
Сережа мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль…
2
Сережа бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они дымят вначале, как валит от них густой седой дым – испаряются соки из хвои, – потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются алой, раскаленной стружкой. Звенящее комарье, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, въедливо кружится за спиной, в тени, и Сережа опять бросает ветки.
Он слушает, о чем говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра, от огня, вглядывается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым: оно прихотливо меняется – то опадая, то взлетая, и показывает Сереже странные чудеса – то красную, в прожилках, скрюченную руку, то косматый, ощерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда – и крылья исчезли, вместо них – рыжая борода.
Сережа замер, он рад был повернуть к маме и Никодиму, но глаза его словно привязаны, словно утонули в огне.
– Мне, когда война началась, – говорит Никодим негромко, – было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечки – на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать, – для конспирации, влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. – Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила, сам он некурящий. – Ну а правил тогдашних, – продолжает, – не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков – в Москву по пропускам только въехать можно. Ну, меня прихватили. В изолятор.
– А мы в войну, – перебивает его мама, – в деревню из города перебрались. К родственникам. В городе совсем с голодухи помирали. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой совсем голодно. Отец без вести пропал, у матери специальность – домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо, надселась, совсем уже подыхали, да хорошо, мать решилась. В деревне хоть тяжко, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли…
– Ну а вы-то, – спрашивает Сережа Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение сделает. Но мама молчит, а Сережа поправляется: – Как там дальше с ворами было?
– Никак. Доставили меня назад, – отвечает Никодим. – В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь, – хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл… Потом разобралась. Еще сильнее дома побила.
Сережа смеется. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:
– Что она у вас такая драчунья! – И добавляет: – А кто она?
Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загипнотизированно в пламя, разглядывал огненные фигуры, и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:
– Да так… Женщина…
Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху, в кружках, плавали кусочки сгоревших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их к краю кружки, обжигался вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!
Мама прилегла, голову Никодиму на колени примостила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них посматривает, улыбается. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится, тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.
Никодим гладит маму по голове, играючи щекочет ей ухо травинкой. Мама, задумавшись, отряхивает с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают.
Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он нехорошо, неумело, сразу видно, что медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже стройнее: Никодим под маму подстраивается.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина, —
Головой склоняясь
До самого тына.
А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий.
Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет, и он подтягивает, вернее, выкрикивает смешливо:
Как бы мне, рябине!
К дубу! Перебраться!
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться!
Мама грозит ему пальцем, Сережа умолкает, но веселье так и распирает его. Хочется ему взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает: когда они Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил. Мама и Никодим кончают петь, и он им шутку повторяет:
Там царь Кащей по рынку бродит
И спекуляцию наводит,
Он банки тама продает
И по полтиннику дерет..
Шутка, конечно, не для семиклассника – он все же в седьмой перешел, но ему дурить хочется, а взрослые его понимают: мама шутливо головой качает, Никодим улыбается. Сережа видит: они довольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски: ладонью к губам и быстро ею машет. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его.
– Ого-го! – кричит Сережа.
– Ого-го! – кричит мама.
– Ого-го! – кричит Никодим.
Эхо объединяет их крики, отвечает по очереди, Сережиным, маминым, Никодимовым голосом:
– Ого! – го! – го!
Потом они спали. В стогу!
Никодим раскопал подножье стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевленных. Жизнь могла быть и у скошенной травы, у этих миллионов и миллиардов пахучих, душно-приторных травинок.
Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо – громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного, кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным, необозримым лесом. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, – лес, а Сережа, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И огорчаться, наверное, умеют. И бояться. И страдать.
Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным.
Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается.
Как быстро прошла ночь! Уже утро.
Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисеей тянется туман.
Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы.
Сережа видит, как они наклоняются и как бы ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.
Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. Словно оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу.
Они едут дальше.
Спицы в колесах сливаются в серебристые круги.
Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбираются на большак, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропку и неслышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик Иван-чая.
«Что такое счастье? – думает Сережа и сам себе отвечает: – Счастье – это как сейчас!»
3
Бабушка их не ждет.
Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается в огороде и долго издали не понимает, кто приехал. Не может себе поверить.
Потом подходит, вглядываясь, осторожно подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уже тогда говорит испуганно:
– Господи!
Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и, чем лучше понимает, тем чаще повторяет:
– Господи! Господи!
Сережа смеется. И над бабушкой. И над Котькой. Тот однажды с тетей Ниной к ним в гости пришел и во дворе гулял. Сережа его проведать вышел, смотрит, Котька с девчонками стоит.
Одна лопочет:
– Господи, господи!
Вторая спрашивает ее:
– Что это?
– Это тетя такая, – отвечает первая.
– Эх вы, – важно объясняет Котька, – это говорят, когда гостей не ждут, а они пришли.
Сережа тогда расхохотался. И сейчас смеется. Прав был, оказывается, маленький Котька.
Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умываться.
Никодим скинул рубашку, голый до пояса, – смеется, крякает зычно, по-своему: «Хо! Хо! Хо!» Сережа ему подражает – вода ледяная, и он орет, дурачится, растирается длинным полотенцем с красными петухами по краям.
Замечательно все-таки кругом!
И бабушка совсем не злая. Улыбается – пришла в себя! – толстые губы растягивает, показывает ровные, будто у девушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплываются.
Они сидят за длинным деревянным столом, потемневшим от времени, пьют холодное молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отдыхают.
– Это так, в перекуску, – говорит бабушка, волнуясь, и Сереже кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. – Это так, с дорожки, – разъясняет она. – Сейчас курицу зарежу, будем обедать.
Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:
– Мама, Никодим – мой муж. Вот мы к тебе показаться приехали.
Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но отчего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему – тот к ней наклоняется, целует ее.
– Здравствуй, зятюшко, – говорит она, – здравствуй, золотой!
Мама отворачивается, хлюпает носом, закуривает, смеется.
– Ну что? – спрашивает. – Довольна? Дождалась?
– Дождалась! – говорит бабушка и при Никодиме маму спрашивает: – А он какой? Не пьет? Не блудничает?
Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима.
Днем они едят наваристый куриный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугунке парит свежая картошка.
После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Сереже рубаху, и вчетвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.
На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки щелкают, транзисторы слушают. На бабушку с гостями глядят.
Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за ручку здороваться не обязательно – она своя, тутошняя, а гости всем интересны. Сережа заметил: лица у деревенских как бы бронзовые. Загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.
Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует. Словно зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит – им тоже неловко, но терпят.
– Э-э! – подходит лысый, но с косматыми бровями старик. – Анька голоногая приехала.
– Она самая, – отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: – Меня голоногой прозвали за то, что, бывало, без чулок зимой в школу бегала. Нечего надеть.
– Вот-вот, – говорит старик. – Бедовали крепко. Теперь, гляжу, оправились. Вон, Евгения-то распухла, – кивает он на толстую бабушку. – Эк, кадушка!
Бабушка старика шутя кулачком по лысине колотит, толкает, сама же смеется.
– Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась!
– Ага! – кивает старик. – А теперь пойдешь?
Все смеются.
– Идем! – шутит бабушка, берет старика под ручку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берет у мамы папироску, курит. Колечки пускать пытается.
– А ты хто же по специальности-то будешь? – допытывается дед у Никодима.




