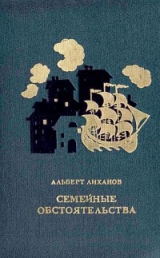
Текст книги "Семейные обстоятельства (сборник)"
Автор книги: Альберт Лиханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Одна Изольда Павловна чувствовала себя прекрасно.
Она переходила от парты к парте, глядя поверх ребят, ничуть не смущаясь своей новой работы, наоборот, ее губы слегка улыбались – Изольда Павловна просто наслаждалась!
– У, бешеная! – прошептал сбоку Коля Суворов, и Толик усмехнулся.
Давно он ждал от Изольды Павловны гадости, давно казалось ему, что учительница, как цирковой сундук у фокусника – с двойным дном, но чтоб допрашивать она могла с таким наслаждением – этого даже он, недоверчивый человек, подумать не мог.
И прежде знал Толик, что никто в классе не интересует Изольду Павловну.
Никто, даже ее собственная Женька. И четверки-то ей вместо заслуженных пятерок она не для Женьки ставила, а для самой себя. Нет, Изольду Павловну в пятом «А» интересовал лишь один человек – классный руководитель Изольда Павловна.
Раньше она таилась, маскировалась, а теперь все ясным стало.
Будто сняла со своего носа пенсне Изольда Павловна, и все увидели наконец-то ее глаза – пустые, бессердечные, злые.
13
Изольда Павловна медленно двигалась от парты к парте, ребята, как заклинание, повторяли: «Честное пионерское», «Честное пионерское». И Толик вспомнил древнюю казнь. Раньше, до революции, солдат пропускали сквозь строй. Их били прутьями. Здесь никого не били, но каждый тоже проходил сквозь строй. Будто ребята не людьми были, а перчатками. Изольда Павловна брала каждую перчатку и на левую сторону выворачивала. Трясла перед всеми. Нет ли там, в складках, чего-нибудь неприличного.
Русалка допрашивала с удовольствием, и каждый раз, когда садился на место очередной ученик, позорно поклявшись, что он тут ни при чем, отгородившись как бы от класса личной своей невиновностью, сзади, на родительской скамье, раздавался облегченный вздох.
Вздыхала мама, или бабушка, или отец нового невиновного, который дал в том священную клятву.
Очередь подходила уже к Толику, как дверь снова распахнулась. На пороге, прислонившись к косяку, стояла запыхавшаяся мама.
Каждый раз, когда отворялась дверь, Толик с трепетом ждал появления мамы, хотя был уверен, что она не придет. Сколько дней подряд он шлялся до поздней ночи, не учил уроки, и мама будто не замечала этого. Она думала о своем. Ходила по комнате, как загипнотизированная, и не обращала на Толика почти никакого внимания. Так что по сравнению с магазинными шляниями сейчас было совсем не поздно, и Толик вовсе не надеялся, что мама вдруг окажется в школе, спохватившись о нем.
Но мама была здесь, стояла в дверях, прислонившись к косяку, и, вглядываясь в ее побледневшее лицо, Толик понял, что что-то случилось…
– А-а, – ласково запела Изольда Павловна, увидев маму. – Проходите! Мы вас ждем… У нас большая беда… Сегодня наш класс сорвал урок…
Теперь уже никто не смеялся. Не до смеху было. Кончился весь смех. Осталась одна тяжесть. А учительница продолжала, обращаясь к маме:
– Мы вынуждены были оставить весь класс. Сейчас опрашиваем каждого. Половина ребят уже дала честное пионерское, что это сделали не они.
Русалка торжественно взглянула на класс. Что-то вроде улыбки расползлось по ее лицу.
– И вы знаете, – сказала она, по-прежнему обращаясь к маме. – Я верю этим ребятам. Больше того – я очень подозреваю, что с доски стер ученик, которого должны были спросить.
Сердце у Толика опять зашлось.
– Он не выучил урока, – торжественно говорила Изольда Павловна, – в этом он признался даже практикантке – и решил сорвать занятие.
Мама стояла у доски, опустив голову, будто это она сорвала урок, будто это она не выучила задание и призналась в этом практикантке.
– Вы знаете, кто этот ученик? – вкрадчиво спросила Изольда Павловна.
Мама судорожно глотала воздух.
– Простите его, – прошептала она. – Это я виновата! Я! – В маминых глазах стояли слезы. – Сейчас приходили из милиции… Он ящик поджег. Но он не виноват! Это я, я!..
Все в Толике дрожало. Его колотил дикий озноб. Руки были словно ледышки, нестерпимо мерзли ноги, а голову будто сдавило железным обручем.
В классе стало совсем тихо.
И вдруг все зашевелились. Ребята застучали крышками парт, родители заговорили, закашляли, зашумели.
– Так зачем же? – воскликнула возмущенно мама Коли Суворова. – Так зачем же вы держали весь класс, если знали, кто виноват? Тридцать детей сидят голодными!
– А затем, – вскинулась на нее Изольда Павловна, и в классе опять стало тихо, – чтобы преподать и детям, и непонимающим родителям, – она посмотрела на маму Толика, – урок честности!
– Не знаю! – сказала Колина мама, застегивая пальто и подвигаясь к выходу. – Не знаю! Может, у вас какие-то свои педагогические приемы, но это возмутительно – устраивать такой спектакль! Тем более что у Толика действительно какая-то беда! – И указала на маму, горестно сидевшую рядом с Машкой. – Или вы не видите?
Изольда Павловна медленно покрывалась пунцовыми пятнами, но молчала.
– Пойдем, Коля! – сказала его мама и открыла дверь, едва не столкнувшись с директором.
Он шагнул в класс, и Толик заметил, как сразу запотела его блестящая лысина.
– Изольда Павловна, – спросил он удивленно, – вы еще не кончили?
Но этого вопроса почти никто не услышал. Родители поднимались со скамей, громко разговаривая, словно они сбросили с себя тяжелый камень, который тащили все вместе, как древние рабы, строители пирамиды Хеопса.
Полковник, опустив щеки, тряс головой, соглашаясь с тем, что говорила ему, размахивая руками, седая бабушка, никто уже не обращал внимания на Изольду Павловну.
И вдруг, перекрывая шум, крикнул Коля Суворов:
– Мама, подожди! Подождите все!
Женщина у дверей остановилась, замер полковник, уселась обратно на скамью седая бабушка.
– Подождите! – снова крикнул Коля и повернулся к Махал Махалычу. – Я знаю, – сказал он. – Я знаю, кто стер с доски!
Все замерли, ожидая развязки.
– Но я не скажу, – говорил Коля. Глаза его блестели, хохолок топорщился, как у петушка, лицо покрылось румянцем. – Ведь вы говорили, чтобы все отвечали за одного! Но если один не хочет отвечать за всех – ведь он предатель! Если из-за него обвиняют другого, а он молчит!
Толик видел, с каким недоумением смотрела на Колю его мама. Она не просто удивлялась – она чуточку улыбалась краешками губ, будто одобряла Колю, будто радовалась, что говорит он громко, не стыдясь, совсем как взрослый, и одобряла его за храбрость.
Коля умолк на мгновенье, вдохнул побольше воздуха, словно собирался нырнуть на самую глубину.
– А теперь, – проговорил он, – проверьте у всех руки…
И ребята, и родители недоуменно молчали.
– Проверьте руки, Михаил Михайлович, – повторил Коля, – ведь тряпку Бобров уносил в туалет, это видели все. Значит, с доски стерли рукой. – Коля слегка побледнел. – Я точно знаю, что стирали рукой. И рука, как ее ни оттирай, все равно в мелу.
Коля сел. Толик с благодарностью и с удивлением взглянул на него. Второй раз сегодня Коля помогал Толику. Вот он, значит, какой! Толик смотрел на Колю, и тот вдруг весело подмигнул ему. На сердце стало веселее, будто плыл Толик по морю и уже силы терял, выдыхался, но появился Коля и кинул ему спасательный круг. Или руку протянул и на берег вытащил.
Минуту Махал Махалыч молчал, потом вздохнул облегченно и, странное дело, улыбнулся.
– Будь по-твоему! – сказал он.
– Михаил Михайлович! – воскликнула удивленно Изольда Павловна. – Что ж это такое?..
Директор вопросительно взглянул на родителей.
– Как? – спросил он бодро. – Проверим?
– Чего уж там! – сердито сказала бабушка, боявшаяся бандитов. – Доводите до конца!
– До конца! – подтвердил Цыпин папа, а Махал Махалыч уже шел между рядов, оглядывая руки.
14
И вдруг Толик увидел Цыпу.
Он изо всех сил тер о штаны свои руки.
Цыпа! Значит, это Цыпа! На воре шапка горит! Так вот как он решил отомстить, гад!
Махал Махалыч проверил руки у Женьки, взглянул на Цыпины ладошки, ничего не заметил и шагнул было дальше, как вдруг Машка Иванова сказала удивленно:
– А штаны-то!
Махал Махалыч вернулся.
– Ну-ка, встань! – велел он Цыпе.
И тот, сразу вспотев, медленно вынул из-под парты свои длинные, костлявые ноги.
По классу покатился гул. Будто морская волна, которая несется, мчится к берегу, с каждой минутой становится выше, выше – и вот грохочет о прибрежные камни.
Коленки Цыпиных брюк были белым-белы, словно он ползал по доске на карачках.
Лицо его заливалось зеленой краской. Цыпа озирался на скамейку, где сидели родители, и Толик услышал, как оттуда прогрохотали полковничьи шаги.
Цыпин папа, красный, как взломанный арбуз, приблизился к сыну и хлобыстнул его тяжелой рукой по уху.
– Сукин ты сын! – воскликнул он.
И вдруг произошло неожиданное.
Произошло то, чего никто не ждал, даже сами ребята.
Пятый «А» расхохотался.
Пятый «А» дергал коленками, валялся на партах, кто-то даже упал на пол. Пятый «А» хохотал, покатывался, давился со смеху. Пятый «А» ржал как ошалелый, умирал со смеху, лопался на части.
Полковник растерянно озирался. Цыпа ревел. Отошла в угол Изольда Павловна, погасив стеклышки пенсне. Родители испуганно дергали своих ребят за рукава, чтобы они утихли, угомонились, а Машкин брат даже дал ей порядочного тумака, но ничто не помогало.
Пятый класс хохотал.
Но хохотал как-то не так. Как-то невесело. Истошно, дико, психовато, но невесело.
И вдруг мама Коли Суворова оторвалась от двери и быстро пошла по рядам. В ее глазах, широко открытых, виднелся страх. Она проходила по рядам и гладила ребят по голове, легонько шлепала по щекам, и ребята постепенно успокаивались, лишь изредка всхлипывая от странного смеха. И никто уж не мог вспомнить, отчего он смеялся. То ли было смешно, а то ли горько…
Класс утихал, а Толик, который даже не улыбнулся за все это время, вдруг решил по-взрослому: если в такую минуту дети смеются, большие должны плакать.
Не успел он подумать это, как на первой парте, рядом с Машкой Ивановой, громко, навзрыд, заплакала мама…
Часть третья
Новый сын
1
На клетчатой клеенке посреди стола лежит листок бумаги. Маленький белый прямоугольник. Клеенка блестит, как море в солнечную погоду, и листок походит на плот. Ему бы еще парус да теплый ветер в спину, и он бы поплыл, поплыл… Куда только?
Баба Шура, мама и Толик сидят за столом и глядят на белый листок. Все молчат, будто думают, куда поплывет плот, если бы ему паруса да теплый ветер.
Нет, баба Шура про такое думать неспособна. Да она и не на листок глядит-то, а сквозь него. Прошивает взглядом и клеенку и стол – новые, наверное, козни строит.
Мама смотрит на листок, страдая, словно что-то у нее болит, да она молчит, терпит. Потом отрывается от листка и на четвертый стул смотрит. Где раньше отец сидел.
Мать смотрит на стул то удивленно, то вопросительно, будто узнать что-то у него хочет, спросить, потом снова взглядом никнет, опускает голову, на листок глядит. Не до плота ей, не до моря, не до теплого ветра.
Одному Толику кажется, что клеенка – море и листок – плот, а никакая не повестка в суд.
Он вообще в толк не возьмет: почему – в суд?
Судят воров, хулиганов – это ясно. Но как будут судить отца и мать? И за что?
Отец ушел из дому, и он прав. Он не хочет больше так жить. А мама хочет. Ну и все. Разошлись люди Разошлись, как в море две селедки, такая поговорка есть. А что Толик мучается, так это его дело. Что мама плачет – не плачь, если хочешь, решай по-другому. Отец ушел – тоже его дело. Ничье больше. Разве еще бабкино. Остальным свой нос совать сюда запрещается.
А тут суд! Толик представил судью в черной, мантии и в круглой шапочке, как в кино. И отца с матерью на желтой яркой лавке. Скамья подсудимых.
– Как вас судить будут? – спрашивает Толик у матери.
– Обсуждать, – вяло отвечает мать. – Тебя делить.
Вот еще новости! Делить! Что он, пирог? Толик даже рассмеялся. Представил, как судья черную шапочку снимает, рукава у черной мантии закатывает, берет нож, длинный, широкий, на камбалу похожий —. видел Толик такой в столовке, – и Толика на две части, будто пирог, режет. Одну – маме, вторую – отцу.
Утром мама не пошла на работу. Открыла шкаф, достала нарядное платье.
– Дура! – Бабка скривилась. – Надень похужее! К бедным-то сожаленья побольше, суд-то, он тоже не лыком шит!
Мама послушалась, надела старенькое платье, губы помадой подвела. И тут бабка со своим указом.
– А ну-кось, – говорит, маме фартук подавая, – губы утри. На суду народ будет, об ем подумай, какая предстанешь…
Потом баба Шура в кармашек свой потайной полезла, ключик вынула. Открыла со звоном сундук, старой рухлядью набитый. Ничего не бросает бабка – глядишь, пригодится. Вынула рвань – старые, залатанные штаны. Протянула Толику.
– Зачем? – удивился он. – В суд-то маму вызывают, не меня.
– А мать-то не твоя? – окрысилась бабка и, увидев, как сник Толик, добавила: – Со мной сидеть станешь, а если спросят чего – ответишь. Да гляди, – спину разогнула, – да гляди у меня!..
Толик думал, суд непременно в доме с колоннами должен быть, и тишина там почище, чем в больнице, потому что уж слово-то такое: суд! Народный суд!
Решают, кого в тюрьму посадить, а кого выпустить. Но суд оказался в сером доме, грязном и обшарпанном. В вестибюле было накурено и наплевано, словно на захудалом вокзале.
Толик испуганно озирался, вглядываясь сквозь табачные облака в лица людей, пришедших сюда. Ему казалось, что все здесь должны волноваться. Ведь это суд, это не радость, сюда приходят лишь по несчастью – значит, у каждого, кто сидит здесь, свое несчастье.
Но люди вокруг бродили с постным лицами, будто они в магазине и ждут, когда привезут молоко. Им уж надоело, но они ждут: ведь ничего не поделаешь – надо.
На мгновенье Толику показалось, что все лица тут на один манер – вытянутые, желтые, лошадиные. Было душно. Толику захотелось выйти отсюда – и вдруг он увидел, как лошадиные лица вокруг него оживились и у них заблестели глаза. Сзади брякнула дверь. Толик обернулся.
В вестибюль вошел милиционер, перед ним двигался бритоголовый мужчина – не старый и не молодой. Глядя в пол, он прошел мимо Толика. Руки он держал за спиной.
Будто в школе, зажужжал под потолком звонок. Лошадиные лица зашевелились, загомонили и повалили за высокую дверь.
– Ох, народ! – услышал Толик за спиной знакомый голос. – Прямо как в цирк валят!
Он повернулся и увидел, что рядом с бабкой и мамой стоит тетя Поля. Она покачала головой, повернулась к бабке и сказала:
– И у тебя, я гляжу, совести нет. Бога бы побоялась!
Бабка не моргнула, не шевельнулась, будто оглохла, будто не ей это говорят, и тетя Поля укоризненно на маму посмотрела.
– Ну а ты-то, Маша, как могла? Мало вам для мальчишки всяких бед, так еще в суд притащили?
Мама покраснела, глаза ее сразу взмокли, она не знала, что сказать. Тетя Поля подошла к Толику, взяла его за плечо.
– Ладно! – сказала она маме с бабкой. – Мы с ним на улице подождем.
Мама быстро кивнула, радуясь, что так хорошо все обошлось, и Толик с тетей Полей двинулся к двери.
Июньский ветер будто ополоснул Толика прозрачной водой. Он вздохнул облегченно и вздрогнул.
Перед ним стоял отец.
Наполовину уже похудел толстый календарь на стенке с тех пор, как ушел отец. Каждый день – долой листок. Один листок – тонкий, а много листков – полкалендаря.
Отец стоял перед ним, бледнея, а в памяти Толика, будто в ускоренном кино, проносилось одно за другим все, что было за это время.
Как обнимал он отца в последний раз, и тот стоял, небритый, серый, сжимая в руке авоську с мятыми рубашками. Как писал первую жалобу, роняя на бумагу кляксы. Толстый почтарь, подмигивающий красными глазами «Москвич», дымящий оранжевый ящик, седой дядька из парткома, драка с Цыпой, стертая доска и тонкогубая Изольда Павловна промчались перед Толиком нестройной чередой, как привидения, как духи с того света.
Толик отшатнулся от отца. Сколько всего разделяло их теперь: сколько несчастий, обид, слез!.. А главное – их разделял страх.
Толик боялся отца. Он боялся его все эти долгие дни, но тогда страх был отдаленным. Толик мог его избегать, прячась от отца, таясь за взрослыми, перебегая от угла к углу.
Теперь страх вырос перед ним. Страх был отцом, и надо было рассчитываться.
Толик ждал, что отец станет ругать его. Или еще хуже – пройдет мимо, будто бы не узнав. Он никак, ну никак не мог простить Толику этих писем. Никак!
Ведь из-за них, из-за жалоб, пришли они в суд, и судья станет разводить их, потом делить Толика. Нет, то, что было сделано им, неисправимо. Это нельзя простить.
Вдруг отец шагнул к Толику. Мальчик сжался в комок.
– Толик! – сказал отец тяжелым голосом. – Толик! Сынок!..
Он протянул к Толику руки, и враз, в одно мгновенье все прошлое, тяжкое, страшное исчезло. Будто по заляпанной чернилами тетрадке кто-то провел удивительным ластиком. И грязный лист стал белым.
Толик, раскинув руки, бросился навстречу отцу.
Он бросился к отцу – и словно взлетел, как стриж над улицей. Выше крыш, выше тополей, выше труб пронесся, разрезая крыльями упругий ветер. Увидел большое солнце – вполнеба. Увидел близкие облака. Засмеялся легко, освобожденно.
2
И вот снова на землю упал. Опять обшарпанный дом перед глазами. Где-то в нем, за серыми стенами, отца и мать судят.
Толик видел на картинке судебную богиню. Тетка с завязанными глазами, а в руках – весы. Вешает, будто рыночная торговка ягоды. А что вешает? Вину! Кто больше виноват, в ту сторону и весы перетянут.
Толик не сомневался: если по справедливости взвешивать, весы в мамину сторону перетянут. Она больше виновата. Отец совсем ни при чем. Хотя кто его знает… Та древняя тетка с завязанными глазами ничего не видела, может, и тут не увидит?
Толик шевельнулся. Очнулся от своих дум. Тетю Полю спросил:
– А страшно судиться?
– Кому как, – качнула она головой. – Должно, стыдно, а бояться чего?..
Толик вспомнил тех, с лошадиными лицами. Как тетя Поля их ругала. Кто такие, он так ведь и не понял.
– А-а!.. – махнула рукой тетя Поля. – Есть тут всякие. У людей горе, а они как в кино ходят. Любопытные просто…
Как? Толик не поверил. Не может быть! Не может быть, чтобы на суд пускали кого угодно, да еще и бесплатно: гляди – не хочу. Слушай, как судят.
– И там? – спросил он оторопело, кивнув головой.
Тетя Поля поняла.
– И там.
Толик с ужасом представил опять желтую скамью подсудимых. На ней мать с отцом, а сбоку – эти лица. Как тени. Заглядывают им в глаза, и мама с отцом головы опускают. Все ниже, ниже, чтобы скрыться от них. Он думал, там один судья. И одному судье всего не скажешь, а тут эти лошадиные морды. Как стыдно! Ужасно стыдно.
Солнце стояло над головой, жарило сквозь рубашку спину. Тетя Поля надвинула на глаза платок и вдруг спросила:
– А с кем ты останешься, если они разойдутся?
Толик испуганно поглядел на нее. Правда! Как он забыл? Ведь если… Надо будет решать. С отцом или с мамой? Толик вспомнил тот день, когда он ждал отца возле проходной. Тогда он не сомневался ни секунды. С отцом! Отца выгнали из дому, он оставался один, и тогда Толик твердо решил, что будет с ним. Отец говорил: трудно, надо подождать, и Толик согласился. А потом закрутилась такая карусель, что голова кругом.
Сегодня все стало по-прежнему. Толик думал, отец не будет с ним говорить, а он протянул руки. Значит, по-прежнему? Значит, как было? Значит, он должен быть с отцом?
Толик задумался.
Значит, с отцом! Он хотел было сказать это тете Поле, но что-то удерживало его. Будто лопнула какая-то ниточка с тех пор, как он не видел отца. Он бросился с трепетом навстречу отцу, а сейчас думал, что радовался, наверное, из-за прощения. Отец простил его, протянул руки – и сразу исчез страх. То, что мучило его столько времени. И сразу стало легко. Может, из-за этого он радовался?
Толику стало стыдно, что он размышляет, будто шкурник. Ему хорошо, а на отца теперь наплевать? Пусть как знает?
Да, Толику было стыдно, но тетя Поля ждала, надо отвечать ей, и Толик растерянно пожал плечами.
– Меня ведь будут делить, – сказал он мрачно. – Как поделят.
– Вон как! – удивилась тетя Поля. – А я-то думала, ты живой человек. Сам решать станешь.
Толик мгновенно вспотел. Ему стало стыдно. Самого себя. Тети Поли. Но он так и не сказал ничего больше. Еще раз пожал плечами и сильней покраснел.
– Что ж, – сказала тетя Поля, вздыхая. – Не твоя вина, что не можешь ответить. И отец и мама – родные люди. И если надо выбирать между ними – значит, они виноваты. Не бабка твоя, не кто другой, а они. Оба.
– Отец не виноват, – сказал Толик, глядя в землю.
– О-хо-хо! – вздохнула тетя Поля. – Не виноват!.. Ну да ладно, – добавила она, – будь по-твоему…
Они замолчали.
Толик припомнил, как сказала ему зимой тетя Поля, чтобы они с отцом не бросали маму бабке. Толик кивнул тогда головой, но что он мог поделать?
– Ах, был бы жив мой Коля! – сказала вдруг тоскливо соседка. – Никогда и в голову не пришло бы нам разводиться…
Толик удивленно обернулся к ней. Глаза у тети Поли были широко открыты, она смотрела вперед, словно старалась разглядеть что-то там, впереди.
– Если бы живой он был, – повторила она тягостно и вдруг сказала с жаром, будто спорила с кем: – Да ведь люди для того и находят друг друга, чтобы любить! Чтобы рядышком быть до самой смерти, да и помереть-то хорошо бы в один день!
Она помолчала. Потом добавила:
– А есть, есть такие счастливцы, мало, но есть – помирают в один день.
Толик удивился – чего тут счастливого? – но промолчал. Уж очень горько говорила тетя Поля.
– Ну да что толковать, – вздохнула она, смахивая слезинку. – У всякого свое. А если уж все в горе испытывается, никому такого горя не пожелаю.
Тетя Поля утерла глаза краем платка. Хлопнула дверь, и из суда вышла бабка. Она сияла, словно начищенный самовар, и у Толика сразу оборвалось сердце. Улыбается бабка – значит, быть худу.
– Господи! – охнула тетя Поля. – Неужто своего добилась?
Вслед за бабкой шагали мама с отцом. Они хмурились и отворачивались друг от друга.
– Да ты тут никак горевала? – воскликнула бабка, подходя к тете Поле и всматриваясь в нее. – Ох ты, сердешная!
– С вами заплачешь, – ответила тетя Поля, настороженно глядя то на отца, то на мать, стараясь разгадать, чем там кончился этот суд.
– Вот и все! – объявила бабка, морща от веселья острый носик. – Молодец Маша, так и держись! Пусть-ка обмозгует получше поперед, чем в суд подавать.
Отец остановился, глядя себе под ноги, поодаль от мамы.
– Эх, Васильевна! – сказала горько тетя Поля. – Ни жалости в тебе, ни любви – ничего нет. Дочку-то бы пожалела!
– Твое како дело, бесплодна смоковница! – взъярилась бабка, но тетя Поля уже уходила от нее.
– Погоди, – сказала она, оборачиваясь. – Твой бог тебя накажет за это.
– Видали мы такого бога, – усмехнулась бабка и ткнула сухоньким пальцем в небо.
Над головой вдруг протяжно грохнуло, и Толик расхохотался: бабка присела от испуга. А с неба полился, набирая силу, чистый летний дождь.
– Маша, – позвал отец маму. – Может, поговорим?
Мама топталась под дождем, поглядывала на бабку. Наконец решилась и шагнула к отцу. Он взял ее осторожно за руку и повел к стеклянному кубику между домами. Мама сначала шла медленно, словно боялась чего-то, потом побежала, и вот они уже мчались, словно маленькие, разбрызгивая лужи.
Толик поглядел на них издали и вдруг кинулся вслед.
В стеклянном кубике было кафе-мороженое.
Когда Толик вбежал в него, отец и мать уже сидели у столика друг против друга. Увидев Толика, отец смутился, а мама покраснела.
– Ты? – спросила она удивленно.
Толик опешил. Значит, они забыли о нем. Значит, они хотели без него! Опять? Как тогда?
Он сжал вздрогнувшие губы и повернулся, чтобы уйти. Уйти немедленно, прямо под секущий дождь, черт с ними! Толик уже шагнул к двери, но почувствовал на плече руку отца.
– Садись, Толик! – приказал он. – Будем говорить втроем.
В другой раз Толик бы убежал, но сейчас было не до обид. В голосе отца слышалась тревога. Толик сел между ними, словно шахматный судья, только перед игроками были вазочки с цветными шариками.
– Что ж, Маша, – хмурясь, сказал отец, сделав первый ход: е-два, е-четыре, как говорят шахматисты. – Дела наши, как видишь, зашли далеко. – Он вытащил папироску и закурил. – Скажу только, что в суд первым никогда бы не пошел, если бы не надеялся на него, как на последнюю соломинку.
Он глубоко затянулся.
– Так вот, как и в суде, еще раз предлагаю тебе: давай уедем. Это единственное, что спасет нас.
Толик пристально смотрел на маму. Что она скажет? Как решит? Неужели не согласится?
– Нет, Петя, нет, – ответила мама, волнуясь. – Я не могу. – И добавила тихо: – Матерей не бросают.
– Да ты пойми! – громко воскликнул отец, и все в кафе заоборачивались на них. – Ты пойми, – тихо повторил отец. – Мать матери разница… Да что говорить! – сник он. – Ты прекрасно все понимаешь.
– Как я брошу ее? Она же старуха, – снова сказала мама и жалобно посмотрела на отца. – Нет, не могу…
– Что ж, – ответил отец, гася папироску. – Теперь все в твоих руках. Но я не вернусь. Я не могу больше так жить.
Мама заплакала. Официантки шушукались, собравшись в кучку, поглядывали на их столик, но мама будто никого не замечала – слезы катились у нее из глаз и падали в мороженое. Толик не выдержал.
– Мама! Ну мама! – шепнул он ей отчаянно. Неужели она откажется?
Мама взглянула мельком на Толика, улыбнулась сквозь слезы и сказала отцу грустно:
– Ты должен вернуться. Я не могу без тебя!
– Ах, Маша, Маша! – горько усмехнулся отец и добавил: – Да разве можно удержать силой, чудак ты человек?
Они понурились оба над своими вазочками, так и не глотнув ни разу мороженого. Толик все ждал, что сейчас заговорят о нем. Как он-то? Куда? Как его разделили? Но родители молчали и, казалось, забыли о нем.
– А я? – спросил Толик, глядя то на маму, то на отца. – А как я?
– Ты? – задумчиво переспросил отец. – Ты?
Он взглянул на маму.
– Я думаю, – спросил он, – у меня равные с тобой права на Толика?
Мама испуганно кивнула.
– Тогда скажи, когда я буду видеть сына.
– В воскресенье, – ответила мама и взглянула за стеклянную стену.
Дождь на улице кончился.
А в маминых глазах опять были слезы.
3
Теперь по воскресеньям у Толика половинчатая жизнь. Вечером он мамин, а с утра принадлежит отцу. Все-таки разрезал его судья, как пирог на две части.
Толик встает утром, завтракает и смотрит в окно. На ворота. Потом возле ворот появляется отец, и Толик кричит маме:
– Я ушел! Пока!
Они бродят вдвоем до самого вечера. Ходят в кино. Едят мороженое в стеклянном кубике. Катаются на трамвае – до конечной остановки и обратно. Пьют до отвала сладкую воду. А когда совсем жарко, идут к реке.
Толик больше всего жаркие воскресенья любит. Он у берега бултыхается, где по грудку, ныряет с открытыми глазами, глядит, как бегает солнце по речному дну, переливаясь. А выскочит из-под воды, фыркает, весело смеется, скачет на одной ножке, вытряхивает воду из ушей. Потом на отца глядит.
Отец руки вперед, будто нехотя, выбрасывает, а гребнет – сразу вперед уносится, только бурунчики кипят! Руки у отца жилистые, сильные и, кажется, звонкие – на солнце загорели и медью отдают.
Отец и Толика плавать учит. Посадит его на плечи и в воду, как царь Нептун, идет. Волны перед отцом разбегаются, он заходит на глубину, себе по горло, велит Толику на плечи ему становиться и кричит:
– Ныряй!
У Толика колотится сердце: до заповедной мели далековато, да и с отцовских плеч прыгать страшно, – но он молчит, чтобы не осрамиться. Закрыв глаза, бросается в сторону берега, отбивает живот и машет руками изо всех сил. Сквозь плеск он слышит, как отец его подбадривает, и вдруг упирается руками в песок. Доплыл!
– Ну вот, – говорит отец, – только не торопись. Набок голову поворачивай – вдох, в воду лицо – выдох. И не бойся. Давай-ка еще раз.
Потом они лежат на берегу, говорят неторопливо, и Толик засыпает отца желтым песком – ноги, туловище, руки. Одна голова остается.
Голова лежит на песке, улыбается, всякие интересные истории рассказывает. Вот, например, откуда инженеры взялись? Что вообще значит «инженер». Оказывается, это слово произошло от латинского – «ингениум». Значит, способность, изобретательность. Выходит, инженер – изобретатель. Толик удивлялся: неужели всякий инженер непременно изобретатель? Отец говорит: всякий. Один в меньшей степени изобретатель, другой – в большей. И вообще, инженер, пожалуй, самый главный человек в стране. Любая машина, да что машина – самая простая вещь инженером придумана, сконструирована, рассчитана.
– И утюг? – смеется Толик.
– А как же, – говорит отец, улыбаясь. – Смог бы человек без утюга прожить? Смог бы. Только что это за жизнь, если все мятые, неопрятные ходить станут.
– И чайник? – удивляется Толик.
– И чайник, и люстры, и самолеты, и лампочки, и иголку – все, все, все…
Они улыбаются, молчат. Потом Толик спрашивает тревожно:
– А ты больше не инженер, раз в цех перешел?
Отец Толику подмигивает и отвечает:
– Я обратно вернулся!
– Значит, снова ту машину чертишь? – смеется Толик.
– Не машину, а только один узел.
Толик смеется: не выиграла, значит, бабка, так ей и надо, не будет лезть! И за отца радуется – то-то он веселый, не хмурится, как раньше.
Не так уж много воскресений в одном месяце, а Толик, с отцом увидевшись, поплавав с ним, повалявшись в песке, чувствовал, как раз от разу он будто бы крепнет, становится сильнее. Не в мускулах, конечно, дело, не в бицепсах там всяких. Сильнее Толик становится вообще.
Столько времени он жил, словно пришибленный. Утром просыпался, а что вечером будет – не знал. Словом, нет ничего на свете хуже неуверенности. Неуверен человек в себе, во всем, что вокруг, – и жить ему тоскливо, неинтересно, тяжко. Толик перегрелся, пережарился на солнце, и кожа с него клочьями полезла. Так вот и тут. Неуверенность, будто старая шкура, с Толика сползала. И он становился веселей, радостней, сильней. Никакая баба Шура его из равновесия сейчас вывести не могла. Жил он так, будто и не было никакой бабки. Не замечал ее. Вот что такое сила!
Но никак не думал Толик, что сам же отец, который силу ему эту дает, и по уху может дать.
Тогда он обиделся поначалу, хотел не выходить к отцу в другое воскресенье, но подумал хорошенько – и еще лучше стал относиться к отцу. Понял, что, кроме всего, отец еще справедливый человек.
Вот как было.
Лежали они в песке, говорили, кем Толик станет, когда вырастет. Отец хотел, чтоб инженером. И Толик не возражал. Ингениум – это ведь здорово! Идешь по улице, а тебе навстречу машина. Твоя, ты ее сконструировал…
Лежали они, в общем, говорили мирно, спокойно, улыбались друг другу – и вдруг у Толика глаза расширились.
Он увидел, как недалеко от них Цыпа с учительницыной Женькой располагаются. По-хозяйски втыкают в песок зонт, раздеваются, от солнца жмурясь, потом, взявшись за ручки, бредут в воду, как жених и невеста, плещутся там, словно утки, и визжат дружно в два голоса.




