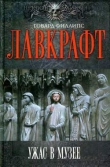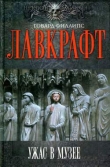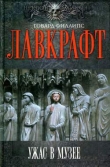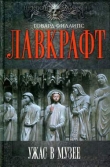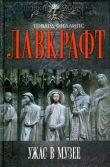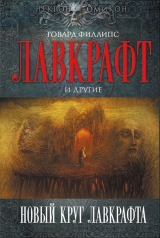
Текст книги "Новый круг Лавкрафта"
Автор книги: Алан Дин Фостер
Соавторы: Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Лин Спрэг Картер,Карл Эдвард Вагнер,Томас Лиготти,Роджер Джонсон,Дэвид Саттон,Джеймс Уэйд,Гари Майерс,Г. Лоукрафт,Роберт Прайс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
Так вот, Йогаш вел записную книжку, в которой английские слова перевода, зачастую помеченные на полях знаком вопроса, долженствующим передать сомнения переводчика в правильности эквивалента, располагались напротив столбцов тщательно выписанных иероглифов. Так выглядел ключ к языку «Писания», и, изучив его, Мэйхью надеялся перевести загадочные надписи на Черном Камне.
– Все, все здесь! – злорадно приговаривал профессор, поглаживая размытые, запятнанные страницы старинной записной книжки. – Нуг, Йеб и мать их, Шуб-Ниггурат…
А еще Йиг и Мномква, и сам Голгорот – собственной персоной!..
– Это боги какого-то тихоокеанского пантеона? – осторожно поинтересовался я.
– Ну, если судить по «Писанию», то да… – задумчиво пробормотал в ответ мой собеседник.
– Но… как это возможно? Если это действительно так, то как, каким образом боги из Тихоокеанского бассейна почитались на другой стороне земли в джунглях Африки? – воскликнул я.
Профессор внимательно оглядел меня с ног до головы через пенсне и после нескольких мгновений тягостного молчания заметил:
– У меня нет объяснений этому явлению. Так же, как я не могу объяснить, как значки, обнаруженные на табличках с острова Пасхи, о котором писал Черчворд, попали в надписи на стенах Мохенджо-Даро на севере Индии.
– Да этот Черчворд никакой не ученый, а просто оккультист! – возмутился я. – К его работам никогда не относились всерьез в научном мире!
– Тем не менее таблички с острова Пасхи существуют, – вы можете убедиться в этом, просмотрев замечательные фотографии в экземплярах «Национального географического вестника» – даже специальные издания ворошить не придется. И я полагаю, что вам нет необходимости доказывать подлинность – если не значение для науки – надписей, обнаруженных при раскопках Мохенджо-Даро?
Я покорно кивнул, ибо не находил никаких аргументов для возражения. Но – как? Как объяснить столь удивительное совпадение, если только не предположить существование некоей жившей по всему миру доисторической расы или общераспространенного религиозного культа, которые к тому же счастливо избежали до сих пор научного внимания?..
Сбитый с толку и ошеломленный, я решил заняться другими более понятными делами и перестать задавать себе и другим риторические вопросы.
С любезной помощью доктора Арнольда профессор Мэйхью и я вскоре обзавелись прекрасными и весьма четкими фотографиями страниц записной книжки – они понадобились нам для дальнейшего изучения и сравнения с надписями на Черном камне. Очевидно, что собственно оригинал записок Йогаша не мог покинуть стен Библиотеки Кестера, ибо составлял неотъемлемую часть хранящегося там архива семейства Хоуг.
В течение долгих дней мы занимались кропотливой работой по сравнению замысловатых символов, набрасывая их приблизительный перевод на английский. Грамматика и пунктуация, конечно, остались на совести профессора и моей, ибо записки Йогаша, увы, не снабдили нас исчерпывающими сведениями о том, как на неизвестном языке «Писания» передаются эти характерные для нашей письменности значения. Однако изучение записной книжки пролило свет на многие вещи, которые никак не затронули тогда моего внимания, зато привели в крайнее возбуждение Профессора.
– Итак! – торжествующе воскликнул он однажды вечером. – Этот язык – не наречие Наакала и не рльехианский, и даже не Тсат-йо… хотя… я бы предположил, что это некоторый диалект Тсат-Йо… но нет, нет, Йогаш совершенно ясно указывает в шести местах, что это некая «Старшая речь», а в еще двух называет это «Старшим алфавитом»…
– Я уже слышал от вас об этом Тсат-йо, профессор, – встрял я с вопросом. – А что это такое?
– Ах, это… Это язык древней Гипербореи, которым пользовались в доисторические времена, – отмахнулся он, как ни в чем не бывало.
– Гиперборея? – ответ меня безусловно поразил. – Северный рай из греческой мифологии? Про который Пиндар…
– Ах, ну конечно, это гипотетическое, временное называние – за неимением более правильного! Так обозначают цивилизацию Северного полюса, которая стала промежуточным звеном между древним Му и более близкими нам по времени культурам Атлантиды, Валузии, Мнара и другими. Хотя Кирон из Вараада в своем кратком труде «Жизнеописание Эйбона» прямо указывает, что первые люди переселились с уходящего под воду Му в Валузию и Семь Империй, в том числе Атлантиду, и лишь потом наступил период варварства, за которым последовал исход на север, в Гиперборею…
По правде говоря, я ничего не понял из этих сбивчивых объяснений и решил, что позже разберусь с такими запутанными вопросами. Мои знания по древней истории, как я уже понимал, оказались явно недостаточными – если, конечно, принять на веру существование всяких Му, Гиперборей и Атлантид, которые до этого я почитал оккультистскими баснями.
Той ночью кошмары вернулись, и я проснулся весь в холодном поту, дрожа, как лист на осеннем ветру. Комнату заливал призрачный лунный свет, и лежавший на столе Черный Камень матово поблескивал в сиянии месяца. Взглянув на него, я снова испытал приступ безотчетного, но острого страха. Страха – или предчувствия?..
Прошло несколько недель, и профессор Мэйхью все-таки сумел разобраться и выяснить предназначение и природу надписей на гранях Черного Камня из Зимбабве.
Оказалось, что это молитвы и обрядовые заклинания для призыва – или, как гласила жутковатая надпись на Камне, «выкликания» – Рыболовов из Ниоткуда, прислужников темного демонического бога Голгорота. Как ни странно, но мои сны оказались пророческими: с того самого момента, как мой взгляд впервые упал на адский камень, мне являлись в кошмарах ритуалы, с помощью которых жрецы в омерзительных масках призывали с ночных небес жутких птицеобразных тварей (Профессор сумел расшифровать в одной из надписей их подлинное имя – «Шантаки»). Осознав это, я почти смирился с тем, что, оказывается, вещие сны это не вымысел.
Что же до черного божества, которому служили Шантаки, Голгорота – во всяком случае, его птицеподобной ипостаси, – то он, как считалось, обитал под «черным конусом» Антарктоса, горы в Антарктиде, непосредственно на Южном полюсе или близко к нему. Конечно, я перевожу все эти понятия в более понятную нам форму: в надписи полюс назван «антарктическим», а имя «Антарктос» горе дал сам Профессор.
Когда мы дошли до этого места в переводе, он вдруг заколебался, а потом впал в задумчивость. Я спросил, все ли в порядке, хорошо ли он себя чувствует. Тогда он с усилием собрался с мыслями и бледно улыбнулся:
– Ничего страшного – так, вдруг что-то не по себе стало. Нет, Слоун, я просто припомнил четверостишие, которое где-то прочитал, – не помню, где, – но название, Антарктос, намертво запечатлелось в моей памяти…
И тихим, дрожащим голосом он продекламировал эти необычные строки:
Что-то в его приглушенном, хриплом голосе – или в самих строках, исполненных самого мрачного настроения, кто знает? – заставило меня содрогнуться. И снова на память пришли сны на Равнине Мегалитов, те самые кошмары, в которых мне являлись распростертые на жертвенных камнях нагие тела и налетающие на них полуптичьи силуэты отвратительных существ, рвущие и терзающие беспомощную плоть на алтарях.
Той ночью я опять спал… плохо.
Два дня спустя – о, господа полицейские, не извольте беспокоиться, я уже почти завершил рассказ – Профессор, похоже, завершил большую часть своего исследования. Точнее, он расшифровал последнее из призывающих Шантаков заклинаний, высеченных на гладких блестящих поверхностях Черного Камня.
– Слоун, я бы хотел сегодня отправить вас в Кестер, – сказал он мне вечером – а я-то решил, на сегодня все труды закончены. – Мне нужен текст вот этой части «Книги Эйбона»…
И он передал мне клочок бумаги, выдранный из его карманного блокнота, с нацарапанными номерами главы и страницы. Я пришел в крайнее изумление:
– Но библиотека наверняка уже закрыта – посмотрите на часы! Разве нельзя отправиться туда завтра утром и…
Но он лишь отрицательно покачал головой:
– О, нет. Текст понадобится мне сегодня, что же до библиотеки, то для публики она, конечно, закрыта, однако в ней остались несколько сотрудников – как раз для того, чтоб ученые с пропусками, подписанными доктором Арнольдом, могли бы беспрепятственно пользоваться ее фондами в неурочное время. Прошу вас, мой юный друг, исполните мою просьбу немедля.
Что ж, я не мог отказать профессору в такой услуге – в конце концов, он меня нанял как раз для выполнения подобных работ. Делать нечего – я вышел из Университетского клуба и на Бэнкс-стрит сел в трамвай, идущий к библиотеке. Над головой висело пасмурное низкое небо, дул пронизывающий, порывистый ветер – холодный и влажный, как дыхание гроба, по тротуару летели сухие листья облетающих деревьев. Подступала осень. Я прошел меж громадных гранитных столбов и постучал в массивные, окованные бронзой двери.
И вправду, мне тут же оказали содействие: через некоторое время «Книга Эйбона» оказалась у меня в руках, и я принялся переписывать из нее избранные места, указанные Профессором. Отрывок целиком был посвящен одной теме, затрагиваемой в шестой главе Третьей части «Эйбона», – пространному мифологическому или космологическому, кому как больше нравится, трактату под названием «Папирус Темной Мудрости». Приведу этот отрывок целиком:
«…но великий Мномква не сошел на Землю, но избрал местом Своего обиталища Черное Озеро Уббот, что лежит в глубоком непроницаемом мраке Нуг-йаа под поверхностью луны; что же до Голгорота, брата Мномквы, то Он спустился на землю в местности, прилегающей к Южному полюсу, где до сей поры обитает и ждет своего часа под черным конусом горы Антарктос – о да, сия гора велика! – и все легионы Шантаков служат Ему в месте Его заточения, все без изъятия, и главенствует над ними Куумиагга, что значит первый среди слуг Голгорота, и он сделал местом своего пребывания разверстые бездны под черным Антарктосом или неприступные пики устрашающего Лета; а великий Итаква, Летящий с Ветром, избрал своею земною обителью ледяные пустоши Арктики, и могучий Шаугнар Фаугн также обитает поблизости, и внушающий страх Афум Жах, исполняющий грозным присуствием черные пустоты Йаанека, ледяной горы на полюсе Борея, и все они служат ему, даже Илидим, Хладные, и главный над ними, Рлим Шайкорт…»
Завершив работу, я вдруг с ужасающей ясностью осознал, что «Книга Эйбона» не содержала ничего – абсолютно ничего! – нового, ибо все эти сведения мы уже тщательно перенесли на бумагу и законспектировали, и единственным объяснением моего присутствия в библиотеке и этого ненужного поручения стало бы желание профессора избавиться от моего присутствия в то время, пока Мэйхью делал – что?.. Что он там делал, пока я сидел в библиотеке?
Охваченный смутным, но недобрым предчувствием, я схватил бумаги с переписанными отрывками из книги, вернул старинный фолиант библиотекарю и выбежал из здания. Над горизонтом клубились темные облака, и сумерки затопляли узкие извилистые улицы. Дул северный, очень холодный и влажный ветер – словно в затылок дышал задыхающийся от погони огромный хищник.
Трамвая я ждать не стал и остановил такси – скорее, скорее! Мне нужно как можно скорее вернуться в наши комнаты в Университетском клубе! Я со всей очевидностью понимал – счет идет на мгновения, и секунда опоздания может стоить патрону жизни, однако спросил бы меня кто, чего я боюсь, внятного ответа бы не последовало. В жизни случаются мгновения, когда знание посещает нас, приходя неведомыми путями, и горе тому, кто не прислушивается к тихому голосу предчувствия, поднимающемуся из глубин души!
Водителю я кинул смятую купюру и, не ожидая сдачи, выпрыгнул из авто. Влетев в здание, я помчался вверх по лестнице, ворвался в комнаты, которые мы с профессором занимали на пару – но никого в них не обнаружил.
Я уже хотел развернуться и отправиться на поиски Мэйхью в располагавшуюся на нижнем этаже библиотеку Клуба, как слуха моего достигли странные, прерывистые то ли напевы, то ли завывания – они доносились с крыши непосредственно над нашими комнатами, и среди непохожих на звуки человеческой речи звуков явственно различил слова:
Иа! Иа! Голгорот! Голгорот!
Антарктос! Йаа – хаа
Куумиагга! Куумиагга!
Куумиагга ннг’х ааргх…
Сомнений не оставалось – я слышал начальные слова одного из заклинаний, которыми призывали Шантаков, моя память прекрасно сохранила эти строки из рукописи профессора, которую он обозначил «Ритуалы Зимбабве». И я тут же понял – Профессор услал меня под ложным предлогом из дому, чтобы взобраться на крышу и опробовать заклинание призыва. Страх сомкнул холодные пальцы на моем сердце, я вскрикнул и проклял нечестивое любопытство ученого, сподвигнувшего несчастного Мэйхью на столь неподобное деяние.
Задыхаясь, я побежал вверх по ступенькам, оступаясь и оскальзываясь. Вот, наконец, и крыша! Выскочив на нее, я застал зрелище, исполнившее мое сердце ледяным ужасом.
Небо закрывал купол мрачных темных туч, словно бы землю, от горизонта до горизонта, прихлопнули свинцовым колпаком. Сквозь клубящуюся тьму проникал слабый свет – хотя какой это был свет – мертвенно-бледный, неестественный, фосфоресцирующий нездоровыми отблесками сернисто-желтого. На мгновение мне почудилось, что над головой простерлось небо над Зимбабве из моих кошмарных снов – огнистые вспышки молний, клубящийся дым, жрецы в птичьих масках, скалящийся череп луны… Тогда я издал пронзительный крик и – увидел.
Я увидел их– бескрылые, но омерзительно подобные птицам тени, бросающиеся с высоты вниз, покрытые не перьями, но осклизлой чешуей, скалящие лошадиные, бугристые, уродливые морды. Твари взмахивали чешуйчатыми, прозрачными крыльями – и пикировали, пикировали вниз, налетая и налетая, они рвали нечто еще кричащее, забрызганное алым, нечто, что билось и дергалось в луже крови посередине крыши. Я бы ни за что не смог бы признать в кричащем теле нечто, что когда-то могло быть человеком, если бы мой взгляд не остановился на некоей вещи, вид которой исполнил меня леденящим ужасом: окровавленное пенсне на вымокшей красным черной шелковой ленте среди алых ошметков чего-то, что уже никак и ничем не напоминало голову человека.
Гэри Майерс
ХРАНИТЕЛЬ ОГНЯ
Высокая каменная стена храма Киша вздымается над вершиной неприступного утеса, и с нее открывается вид на всю просторную долину Шенда. Храм высечен в скале и из скалы, и следы работы древних мастеров – огромные груды камня – до сих пор видны у основания утеса. Просторная высокая арка его главного входа, под которой легко прошли бы трое слонов, в ясные дни видна от самых ворот Шенда. Не то узкая тропинка, вьющаяся среди откосов и камней по отвесной стене – ее не видно никогда, а ведь она – единственный путь, соединяющий долину и вершину с храмом.
Не поразительно ли, что храм так далеко отстоит от города, которому служит? И не удивительно ли, насколько крепка вера паломников, взбирающихся по горной тропе к святилищу? Однако же сомневающийся всякий день может видеть людей, упрямо карабкающихся вверх, чтобы помолиться на ступенях храма и оставить у его порога подношения – вино, пищу и масло. Подношения всегда оставляют у порога – ибо закон храма таков, что паломники не смеют входить внутрь. Лишь жрец Киша может переступать порог, лишь он может входить в святая святых и представать перед живым богом.
Однако пришло время, и к храму поднялся некто, кому не было дела до закона. В те времена жрецом Киша был человек великой святости и весьма преклонных лет. Более полувека он верно служил, отправляя обряды и приветствуя паломников, находя для каждого слово надежды и утешения, выслушивал их молитвы и принимал их подношения во имя бога. Вот и в то утро он сидел на пороге храма, греясь на солнце. И тут к подножию лестницы приблизился одинокий пилигрим.
Многих старый жрец встретил у этих ступеней – не зря же пятьдесят лет он провел, отправляя обряды, – однако представший перед ним юноша нисколько не походил на паломников, приходивших к святилищу. Во-первых, ему недоставало присущей пилигримам скромности. Он держался горделиво, подобно царственной особе, хотя изорванная туника и потрепанные сандалии совершенно не оправдывали подобные манеры. А кроме того, он пришел с пустыми руками – без подобающего подношения. Однако удивительнее всего был ответ, который он дал на вопрос старого жреца. Тот вопросил: что привело тебя сюда, о юноша? И странный пилигрим произнес чистым громким голосом, проникшим в самые сокровенные покои святилища: «Я – Нод, и я пришел сюда встретиться с Кишем».
Даже думать о таком считалось непозволительным, не то что произносить вслух. Однако старый жрец не обличил нечестие юноши, ибо надеялся, что тот сказал то, что сказал, без умысла, а лишь по невежеству или же не разобравшись. Вот почему он принялся охотно объяснять, что предстать перед лицом бога возможно лишь священнослужителю и что ежели у юноши есть какая-либо просьба или же молитва, жрец Киша непременно передаст ее богу. Ибо таково дело жреца Киша – служить посредником между верующими и богом. Однако Нод твердо отрицал, что его просьба вызвана невежеством. Ему, сказал он, не надобен посредник между ним и Кишем. Ибо свобода поклоняться избранному божеству есть неотъемлемое право каждого, и отказывать в беседе с богом – все равно что запрещать смотреть на солнце и чувствовать на лице дуновение ветра.
Тогда старый жрец понял: это не обычный паломник. Однако у бедняги все еще оставалась надежда воззвать к разуму странного пришельца. Ежели ему не по душе доводы закона, надобно воззвать к обычаям. Ибо почитатели Киша по праву гордились тем, что поклонялись своему богу так, а не иначе, со времени установления священноначалия и возведения храма. Следуя заведенному обычаю, верующий приобщался к вневременной вечности почитаемого божества, и жажда духа утолялась влагой холодного ключа, к которому припадали до него множество поколений. Однако Нод лишь посмеялся над метафорой. Ибо старое – не значит хорошее, и нельзя придерживаться одного и того же обычая лишь потому, что так поступали всегда. Когда обычай, сказал юноша, становится препятствием на пути бьющего из-под земли ключа, человеку надлежит очистить русло от камней и позволить воде течь свободно.
Однако старого жреца не так-то легко было сбить с толку. Юношу не тронула вечная в своей неизменности красота традиции и обычаев, однако даже подобный ему должен склониться перед истинами разума, провозглашаемыми философией. Ибо боги, являясь воплощениями священного и святого, не должны оскверняться присутствием мирского и профанного. Лишь жрецы, просвещенные и подготовленные многократными очищениями, дерзают представать перед лицом богов и не погибнуть. Однако Нод не согласился и с этими утверждениями. Ибо как боги могут оскорбиться молитвами простецов? К тому же боги настолько выше нас, что разница между жрецом и мирянином для них вовсе не так уж и очевидна. Все эти различия придумали сами жрецы с корыстной целью: стать важными и незаменимыми, а благословения богов обратить себе на пользу.
Тут старый жрец погрузился в молчание, ибо обдумывал дальнейшие действия. Юноша не возбуждал в нем вражды, несмотря на то что высказывания его были сущей ересью и, к тому же, содержали весьма обидные для жреца намеки. Напротив, старик восхищался горячим рвением юноши, который пришел смести все препятствия между собой и своим богом. Жрец пытался вспомнить времена давно ушедшей юности: а его вера – были ли она столь же пламенной? Он надеялся отвратить юношу от неразумного поступка, но в то же время и не повредить его вере. Однако поскольку доводы закона, обычаев и философии не убедили упрямца, старый жрец понял: настало время для самых решительных мер.
– Следуй за мной, – сказал он, встал и повернулся к дверям храма.
Едва ступив за порог, жрец подхватил маленькую глиняную лампу, ожидавшую его возвращения. В ее свете Нод впервые увидел то, что скрывали стены храма. Возможно, он думал увидеть золото и драгоценности, сиянием прославляющие земное могущество бога. Однако открывшееся глазам изрядно подивило его: внутри храм представлял собой лишь вырубленный в скале проход. Туннель продолжал колоссальную лестницу, ведущую к подножию святилища, и в нем царствовали тьма и холод отчуждения. В стенах время от времени мелькали входы в темные и аскетичные кельи – ни дать ни взять тюремные камеры. Но, возможно, юный Нод и не удивился: и в самом деле, зачем земная роскошь тому, кто купается в лучах божьей славы?
Спускаясь все глубже вниз, они наконец приблизились к вратам, забранным железной решеткой, протянувшейся от стены к стене и от пола к потолку. Сдвинуть тяжелые ворота человеку было не под силу, однако в решетке оказалась калитка, которую старый жрец отворил и кивком пригласил Нода пройти внутрь, а затем вошел сам. За воротами туннель продолжился – и они шли довольно долго, пока, уже приблизившись ко вторым вратам, не разглядели вдалеке слабый зеленый свет. Чем дальше они шли, тем ярче становился свет, и вскоре огонек глиняной лампы погас, словно бы устыдившись собственной ничтожности. А когда они достигли третьих и последних врат, свет превратился в сияющий зеленый туман, заполнивший туннель перед ними, туман, подобный волнам моря, накатывающим на берег, ибо он становился то ярче, то тускнел, словно бы опадая и поднимаясь в сиянии.
И здесь старый жрец предпринял последнюю попытку вразумить Нода. Ибо он привел его сюда, к месту, где дотоле только жрец Киша мог стоять и не умереть, в последней отчаянной попытке отговорить юношу от гибельного намерения. В конце концов, что Нод подлинно знает о природе богов? Откуда ему известно: а вдруг жрецы встали между богами и людьми вовсе не для того, чтобы присвоить себе их благословения, а для того, чтоб защитить человечество от их проклятия? Нод думал о боге как об утешительном огне, в котором согревается душа. А что, если в действительности бог есть пещь огненная, в которой дух человека сгорит дотла? И жрец снова призвал юношу проявить разумность и оставить опасные поиски истины, отступив в тень спасительной лжи веры. Ибо только в вере есть надежда для слабого человека.
Так говорил старый жрец, и отчаяние делало его красноречивым и изобильным словами. Однако красноречие старика лишь разъярило Нода. Ибо, сказал он, все это кощунство, граничащее с мерзостным атеизмом. Он, Нод, не собирается внимать столь отвратительным словам, уязвляющим самый его слух. И ежели жрец снова возьмется осквернять имя Божие в его присутствии, то Нод выволочет его из храма и сбросит в пропасть на камни у подножия скалы, и подлый старик найдет свою гибель. Так говорил Нод, охваченный праведным гневом. Однако не столько слова юноши расстроили старика, сколько выражение его глаз. Ибо глаза Нода ни на миг не отрывались от зеленоватого тумана, клубившегося перед ним, и вспышкам неземного сияния отвечали в глазах юноши приливы пугающей жажды. Что ж, делать нечего, понял старый жрец и растворил третьи врата.
Обнаружив, что на пути не осталось препятствий, юноша пошел вперед – поначалу медленно, затем все быстрее и быстрее. Зеленый туман склубился, стремясь поглотить его. Силуэт Нода растворился в млечном сиянии, и только звук шагов некоторое время еще выдавал его присутствие. Однако вскоре даже он затих в отдалении. Установившаяся тишина была совершенной. Даже туман прекратил переливаться, вздыматься и опадать. И вдруг, неожиданно и вовсе без предупреждения, зеленоватый свет усилился. Он ярчел и ярчел с каждым мигом, словно бы питаясь от некоего скрытого источника силы, и вот наконец достиг предела ослепительного сияния. А затем, словно бы источник силы истощился, свет принялся гаснуть и постепенно вернулся к прежним неярким переливам.
Только тогда старик закрыл и запер врата – неуклюжими, трясущимися пальцами. А потом развернулся и принялся нащупывать выход – к чистому, яркому свету солнца.