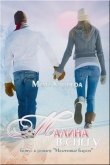Текст книги "Некоторые не уснут (ЛП)"
Автор книги: Адам Нэвилл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Разнос вскоре заканчивается. Она собирается оставить меня сегодня без молока. На лице у меня, должно быть, появляется выражение ужаса. Я чувствую, как растягиваются мои пухлые щеки и морщится лоб. Но потом она улыбается. Все же, я получу свою долю.
– Где грязное белье? – спрашивает она. – Давай мне все.
Из-за подола ее желто-коричневого, похожего на цирковой шатер платья появляется Итан. Он рад меня видеть, и хочет, чтобы разнос закончился. Он резвится, как щенок. Что-то лепечет мне своим странным жужжащим голосом. Но я с трудом понимаю смысл его слов, даже спустя все это время. В мои обязанности входит развлекать Итана, поэтому, чтобы угодить бдительной матери, я все время стараюсь изображать глупую улыбку, пока не начинает болеть лицо. Его маленькое тельце носится по кухне, словно бочка на крошечных ножках, волосатых, как у старика. Лепечет, лепечет, лепечет. Он когда-нибудь вообще затыкается? Иногда я хочу шлепнуть по его маленькому поросячьему лицу. Но он лишь убежит в соседний дом и пожалуется матери.
Собрав белье в белые наволочки для подушек, мать уходит из кухни к себе домой. Саул, Итан и я сидим на кухне вокруг деревянного стола, в мерцающем розовом свете и ждем. Своими локтями мы качаем стол, на котором стоят масляные лампы. Их свет отбрасывает рябь на коричневые шкафы, блестит на стеклянных окнах и отражается от фарфоровых тарелок, к которым нам запрещено прикасаться.
Мы начинаем тяжело вздыхать и зевать, когда слышим, что мать возвращается. Она идет вразвалочку через лужайку, заставляя нас ждать, как огромная ощипанная гусыня без клюва.
Молоко! Вот молоко, пенящееся и плещущееся в больших, цвета слоновой кости кувшинах. Она несет его на широком жестяном подносе, раскрашенном в зеленые, синие и красные полосы. Ее крошечные пальчики держат поднос под подбородком – ей он всегда кажется очень тяжелым. По одному кувшину каждому. Саул, Итан и я начинаем немного поскуливать от волнения. Запах теплых сливок заполняет мои ноздри, и я почти вижу маленькие пузырьки на поверхности жидкости. Это все равно, что голодать и умирать от жажды, находясь рядом со свежим лакомством. Нужно пить быстро. Глотать большими глотками, давая молоку загустеть в тебе, и так, пока не наполнится живот. А еще хлеб. Жирный хлеб, смоченный в сливках.
– Спокойно, мальчики, – говорит она.
Но мы слышим лишь шипение, когда закрываем глаза и начинаем есть.
***
После трапезы я бегу к себе наверх, чтобы убедиться, что мать ничего не стащила. Я знаю, что она была у меня в комнате, чтобы забрать обычные хлеб и молоко, которое кажется мне теперь пресным, жидким, и меня от него тошнит. Оно выходит фонтаном, едва коснувшись моего желудка. Но может, – говорю я себе, – приносное молоко сможет ослабить силу материнского.
В спальне я начинаю рыться на дне пахнущего нафталином шкафа, проверяя свой маленький тайник. Там, в обувной коробке, должны быть расческа, бумажник и сломанные часы. Все остальное исчезло. Раньше там лежали письма, перевязанные резинкой, но мать забрала их. Этот дом не имеет номера, и семье все равно никто не пишет. Но раньше люди писали письма в контору, где работаем мы с Саулом. Какое-то время одна девушка присылала письма и открытки, и мне нравилась одна, с надписью "С днем рожденья". Большие розовые буквы спереди, и синее число "30" внутри.
И хотя больше из коробки ничего не пропало, я вижу, что содержимое было потревожено. Маленькие ручки матери побывали здесь. К счастью, у меня под матрасом сохранилось фото девушки. Я хочу помнить ее. Как и там, в конторе, пока голод не начинает расти, и я не принимаюсь кружиться вокруг маленького белого столика с лежащей на нем металлической фляжкой. Но когда я не нахожу фото девушки с угольными глазами, худеньким тельцем и длинными каштановыми волосами, ярость выплескивается наружу. Мать забрала снимок вместе с хлебом и молоком.
Ярость закипает во мне, и на теле выступает пот. Я снова решаю сбежать. Появляются те же чувства, что и раньше, когда я пробежал сквозь лес и сумел добраться до ворот. Но тогда я не был еще таким толстым и сонным, и холодный снег все время бодрил меня. Я ненавижу себя за то, что стал пить молоко. Если б я не трогал его в самом начале аренды, я жил бы с той девушкой, а не с матерью. К ярости примешивается ненависть.
Я бегу вниз на кухню и разбиваю кувшин молока об пол. Наверху, Саул закрывает свою тяжелую книгу с громким хлопком, который я слышу сквозь потолок. Из-под стола появляется Итан и начинает жужжать, лепетать и носиться по кухне, будто в доме начался пожар. С криком и грохотом я выбегаю через заднюю дверь из дома в сад. Пересекаю лужайку и бросаюсь в сторону ворот и лежащего за ними леса. Ярость движет моими пухлыми ногами, и я даже не обращаю внимания на боль между трущимися друг об друга ляжками. Сердце бешено колотится, а легкие горят огнем, но я продолжаю бежать.
Мне не стоило оборачиваться возле ворот. Я хотел лишь посмотреть, не следуют ли за мной Саул и Итан. Нет. Но я вижу движение в доме матери. К стеклу кухонного окна прижалось лицо. Как будто огромный белый заяц смотрит на меня своими розовыми глазами. Это отец.
Моя скользкая рука все равно ложится на кольцеобразную ручку ворот. Мне совсем не нравятся эти глаза. Он – тот, кого мать держит запертым в соседнем доме. Тот, с икающим голосом, который раньше по ночам проходил сквозь стену, когда я только переехал сюда. Тогда он был зол, и он злится сейчас, глядя, как я пытаюсь убежать. От его икающих визгов звенит стекло, и он поднимает вверх свои козлиные ноги с твердой костью на конце. Начинает стучать и царапать стекло, будто хочет добраться до меня. У отца за спиной, из темноты появляется лицо матери, красное и воющее, потому что она слышала, как разбился кувшин. Из материнской кухни доносится звук отпираемой двери, и я вижу, как отцовская гримаса превращается в ухмылку. Мать выпускает его поймать меня.
Я бегу от ворот, обратно к нашему дому, через молочно-зеленую лужайку, не поворачивая головы. Но он слишком быстр. Достигнув кухни, я уже слышу у себя за спиной приближающийся стук его костяных ног. Вскоре он уже сопит над моим плечом, и я чую его козлиное дыхание. И сейчас я думаю о его желтых зубах, и о том, как они кусают с деревянным щелканьем. Я хочу, чтобы у меня остановилось сердце. Тогда все кончится очень быстро.
Тут на кухню вбегает лепечущий Итан и не дает ему поймать меня. За спиной у меня раздается грохот. Одна из розовых ламп разбивается об пол, стол скользит по полу и ударяется в эмалированную плиту "Дэйнти Мэйд". Итану больно, и я слышу, как он визжит, когда отец топчет его волосатую спину своими цокающими ногами.
Я бегу вверх по лестнице, и слышу, как мать начинает орать на отца за то, что тот бьет Итана. Я проскальзываю себе в комнату, слыша доносящийся из кухни грохот и вой, и придвигаю раскладушку к двери.
***
Теперь я болею, лежу с лихорадкой, а сны у меня стали еще хуже. Я на два дня оставлен без молока, и мне плохо от этого. Итан жужжит за дверью моей спальни. Он несет какой-то безумный бред. Говорит, что молоко сделает меня лучше, и что мать сердится. Когда она сердится, страдаем мы все. Со слов Итана, мать сказала, что я больше никогда не пойду на работу. Говорит, что я поступил неправильно. Что я – маленький ублюдок, которому нельзя доверять.
И теперь мне больно внутри. В горле и легких сухость и першение. А в желудке, будто битое стекло, режущее мягкие ткани. И тоненький голосок подсказывает мне попить молоко, потому что он заполнит порезы и снимет боль. Все мои мысли заняты похожей на крем жидкостью в кувшинах цвета слоновой кости. Эта тяга заставляет меня рыдать горькими слезами, и я ненавижу себя еще больше. Я хочу лишь вернуться назад во времени и отказаться от той работы на складе, где я впервые познакомился с Саулом. Тогда я мог бы отказаться и от этой комнатушки и от сладкого-пресладкого молока.
Лучше б меня тошнило от одного вида молока в самом начале аренды. Я бы назло ей таскал домой банки и пакеты с нормальной едой. И ни за что не стал бы пить то густое пойло с привкусом потрохов. Но каждый вечер мать приносила его в огромных кувшинах, слегка дымящееся, и оставляла на кухонном столе, чтобы сыновья могли поесть. Звуки, издаваемые ими во время трапезы, заставляли меня задуматься о новом жилье. И я съехал бы, не коснись я молока.
Всякий раз, когда я оставлял коробку или бутылку в обычно пустующем холодильнике "Дэйнти Мэйд", она выливала мое обычное "магазинное" молоко, будто это какая-то отрава. Не имея другого выбора, я взял за привычку хранить у себя под раскладушкой маленький запасной контейнер. Но однажды, когда я вытряс из него последнюю каплю, и мне захотелось горячего чая, чтобы отогнать ночную прохладу, меня вынудили попробовать ее продукт. Чтобы подбелить чай, я налил в него чайную ложку ее молока из кувшина, оставленного на кухонном столе. Получилось очень вкусно. Это был лучший чай, который я когда-либо пробовал. Густой и сладкий, он согрел меня как стаканчик виски, и наполнил живот не хуже плотного ужина. Затем, несколько дней спустя, я попробовал его с хлопьями. Добавил всего несколько ложек, отвернув нос от запаха. Когда я ел, каждый глоток оборачивал мое тело в теплые пуховые подушки и наполнял голову сонливостью и обещанием хороших снов. Втайне я ходил к тому кувшину снова и снова, словно дремотный медведь, нашедший в бревне медовые соты. В конце концов Итан увидел меня и помчался в соседний дом. Когда он вернулся с матерью, та улыбалась, и щеки у нее светились румянцем. Это было начало моих проблем.
Если б только я доверился своим инстинктам. Возможно, предыдущий квартирант доверился своим и сбежал. Понимаете, в той маленькой комнатке наверху, со шкафом, засаленными обоями и детской раскладушкой, с которой у меня свешивались ноги, до меня жил еще один человек. Я видел его метки и знаю, что ему снились эти сны. Возможно, он прятался под кроватью от этих грез о плясках на молочно-зеленой траве и выцарапывал остатки своего "я" на деревянных досках под крошечными пружинками. Молоко, молоко, молоко, – царапал он снова и снова ногтем или пряжкой от ремня. Ему была знакома эта тяга, когда тысячи рыболовных крючков впиваются тебе в живот, и пронзительный внутренний голос кричит так, что готовы лопнуть перепонки. Но где сейчас этот предыдущий квартирант? Если он убежал, то смогу и я. Скоро.
***
Запертый в комнате без молока, я пытался справиться с накатывавшими волнами желтой лихорадки. Иногда голова у меня немного прояснялась, но не в положительном смысле, как раньше на работе, перед тем, как я ужинал с аппетитом. Когда позволяло самочувствие, и я мог немногого двигаться, я писал под кроватью крошечные заметки для следующего человека, который займет эту комнату, будет пить молоко и отдавать на стирку матери свою одежду.
Сейчас отец стоит за дверью. Он поднимается каждый день и что-то чирикает, как обезьяна, но я не впускаю его. До того, как я разбил молочный кувшин, мать раньше пугала меня отцом. "Мой муж укусит тебя", – говорила она, – "если ночью ты не пойдешь к Итану". Итану одиноко в своей маленькой коробке, но солома в ней пахнет, как мясные стулья внизу, и терпеть не могу находиться в ней с ним. Мне придется подождать, когда Итан и отец уйдут от двери моей комнаты, тогда я предприму следующую попытку побега.
А еще по ночам раздаются шумы. Самые худшие исходят из комнаты Саула.
С тех пор, как я здесь, Саул придерживается одной и той же процедуры. После работы и трапезы он всегда идет к себе в комнату, соседнюю с моей, читать свои тяжелые книги, и не выходит до следующего утра. Ранним вечером, когда мать стуком по стенам объявляет о начале комендантского часа, остальные отправляются спать. Но сейчас, большую часть ночи я не сплю. Ворочаюсь и слышу, как она поднимается по лестнице. Я знаю, что это она, потому что ноги у них звучат по-разному, как и их голоса. Итан карабкается, Саул шаркает, отец цокает, а мать семенит, как курица по соломе. Большинство ночей она поднимается по лестнице, скребя своими птичьими ножками, и идет в комнату Саула. Затем я зажимаю себе уши, чтобы не слышать те бухающие звуки.
Но сны – самая пугающая часть моего плена. Сейчас я никогда не знаю точно, сплю я или бодрствую, и все хорошие сны ушли. Я словно застрял в своей крошечной комнатке, то засыпаю, то просыпаюсь. Иногда меня тревожат звуки за окном, которые издает отец. Думаю, теперь он спит возле двери. А еще мне снятся танцы. Весь сад освещен желтой – цвета моей лихорадки – луной, то и дело закрываемой тонкими облаками. Звезды становятся будто ближе к земле, и семья образует круг. С кваканьем и воем Итан и отец скачут вокруг матери, которая медленно ползает на четвереньках, опустив голову в траву. А Саул читает что-то в стороне нараспев своим лающим голосом. В руках у него открыта книга, и он сидит у меня под окном, словно белый светящийся кит на каком-то странном пляже. Они взывают к чему-то в небе на языке, который я никогда не слышал, и который не понимаю. Но те имена и слова выдергивают меня из сна, и иногда я кричу.
Когда я просыпаюсь, я всегда стою у окна и гляжу вниз на молочно-зеленую траву, весь взмокший от пота. Сад пуст, но на лужайке все еще остается едва заметный вытоптанный круг. Затем мягкие стебли травы выпрямляются, и в центре медленно исчезающего круга лужайка серебрится от полуночной росы.
Я мог бы разбить окно и слизать эту влагу. Чтобы остановить желтую лихорадку и смочить пересохшее горло, оставившее меня без голоса. Три дня и три ночи во рту у меня не было ни росинки, и я почти полностью обессилел. Возможно, последний глоток молока поможет мне сбежать, но если отведать той сливочной сладости, уже нельзя себе доверять.
На четвертый или пятый день у меня в комнате появляется запах. Если я не попью в ближайшее время, то высохну и умру. Я щупаю свое лицо медленно шевелящимися пальцами, касаюсь обвисшей кожи. Все тело у меня пожелтело. Даже белые волоски на моем животе умирают. От лихорадки и тошноты меня охватывают судороги, но из-за слабости я их почти не замечаю.
Неважно, насколько остры зубы у отца и как быстро он умеет бегать, или насколько велики лесные птицы, я должен убежать сегодня ночью. Понимаете, сегодня все они поднимались наверх и разговаривали через дверь.
– Нехорошо оставаться там. Приходи и выпей молока, – сказал Саул. – Сегодня – очень важная ночь. Все готово, и ты не захочешь это пропустить. Мы все очень усердно работали, чтобы принять тебя в нашу семью.
Итан просто жужжал и повизгивал, но мать сыпала угрозами.
– Это твой последний шанс, – сказала она. – Если выйдешь прямо сейчас, я не позволю моему мужу кусаться, и мы забудем о том, каким плохим ты был. Но если не выйдешь, я усыплю тебя навсегда. Суну твою большую башку в миску с водой и утоплю, как предыдущего жильца. Ты же так славно рос, – продолжала она. – Почти уже готов. Тебе осталось совсем немного подрасти, чтобы присоединиться к нам.
Ярость не дает мне уснуть, и я, придвинув кровать к двери, сел на нее. Если присоединюсь к ним, значит, мне конец. Когда она упоминала это, в ее голосе было ликование. Пусть танцуют под этими испарениями и желтой луной. Когда они соберутся на лужайке, меня уже здесь не будет.
***
Теперь, когда снаружи тихо, мысли о побеге вызывают дрожь, и под ложечкой начинает посасывать. Я встаю и принимаюсь осторожно отодвигать раскладушку от двери. Мало-помалу, одновременно слушая, не идет ли отец. Дом наполняет тишина. Возможно, они в соседней половине. Все, что мне нужно сделать, говорю я себе, это покинуть сад, пробежать через лес, а затем перелезть через ворота у автобусной остановки. И на этот раз, если дети закричат, я уже не вернусь назад.
Выглядывая сквозь узенькую щель между дверью и рамой, я не вижу никого на грязной лестничной площадке. Поэтому выхожу, тихо и чуть судорожно дыша, в темный дом.
На неосвещенной лестнице меня окружают сливочные запахи, словно мягкие руки, тянущиеся из пятен на стенах. Наверное, молоко здесь даже в кирпичах под грязными обоями, и я хватаюсь за свое обвисшее лицо, чтобы остановить головокружение.
Я иду в сторону кухни, с розовым светом и мерцающими тенями на столе и шкафах, которые видно от подножия лестницы. Прохожу мимо маленькой гостиной со стульями из конского волоса, которые пахнут испорченным мясом. Подумываю посидеть там какое-то время, чтобы перевести дух и унять дурноту. Но при мысли о сидении на тех мясных штуках, в окружении шелковых обоев, потемневших от сырости и пахнущих серой, мне становится еще хуже.
Лампы на кухне горят, но кувшины пусты. Я заглядываю в них, и сухая отрыжка подступает к горлу. Глаза жжет от горячих спазмов, щиплющих мои внутренности раскаленными щипцами. В эмалированном холодильнике "Дэйнти Мэйд" тоже ничего нет. Ванильный свет заливает полки из матового стекла и заставляет отступить обратно к столу. Я не могу перестать шмыгать носом или облизывать губы. Язык у меня сухой, как ломоть хлеба. Он высовывается между толстых губ и касается холодных кувшинов цвета слоновой кости.
Тут я слышу песню. Голос Саула проникает сквозь кухонную стену, соединяющую нас с домом матери. На фоне его лая звучит странная музыка из семейного хора. Соскальзывая на холодный плиточный пол, тщательно подметенный матерью, я чувствую, как ритмы и вой цепляются за мое липкое от пота тело. Издавая животом посасывающие звуки, я выползаю по полу через заднюю дверь на молочно-зеленую траву.
Теперь во мне борются два голоса. Один шепчет о воротах и побеге, направляет взгляд моих прищуренных глаз к арке в деревьях, где на темных досках висит металлическое кольцо. Но другой голос пронзительно кричит.
Я иду искать молоко.
Плача, я двигаюсь, словно нечто, желтое и мягкое, выпавшее в траву из грубой руки рыбака. Медленно пробираюсь к задней двери материнского дома, не в силах остановить себя, и кричащий во мне голос смягчается. Вот так, только один глоточек, и тебе будет лучше, – поет он.
В предвкушении молока скребущее ощущение внутри меня утихает. Моя голая плоть блестит под гигантской луной, низко висящей в ночном небе над молочно-зеленой травой, чьи ласковые стебли скользят подо мной, словно подталкивая меня в направлении кухни. Перелезая через маленькую ступень перед дверью, я морщусь, когда грубый камень впивается в мой бледный живот.
На кухне у матери зажжены четыре лампы с розовым маслом, и мне кажется, будто я все еще нахожусь на полу нашего дома. В основном здесь все такое же, только между настенными шкафами и рабочей поверхностью – окошко для раздачи. Вид маленьких закругленных вмятин на чисто подметенной плитке, оставленных отцовскими ногами, заставляет меня встать. Семейная песнь смолкает. По другую сторону окошка для раздачи раздается чмоканье губ.
Из пересохшего рта вырывается сипение, и я вижу, как мои руки тянутся к окошку. Толстые пальцы двигаются сами по себе, пытаясь нащупать отверстие, в которое можно просунуть большой палец. Дверцы окошка бесшумно скользят по полозьям, и в образовавшееся отверстие падает свет с кухни. Я гляжу в шевелящуюся тьму, мои глаза следуют за воронкой розового света, падающего, словно луч в церковное окно.
Я вижу, как по полу движутся бледные фигуры. Влажные и переплетенные, члены семьи извиваются перед матерью, которая, сидя на корточках, раскачивается взад-вперед. Кто-то с влажным лицом прерывает трапезу и что-то скулит кормилице. Затем следующий размыкает губы, показывая маленькие квадратные зубки, после чего отворачивается от меня. Все они мяукают, затем откатываются в сторону, и розовый свет падает на мать.
Крошечные пальчики сжимают подол цветочного платья, удерживая его под подбородком. Ее глаза полны возбуждения. Я вижу раздутый живот с плодородными грудями среди белых волос. Прозрачные слезы сладкого молока, такого густого и манящего, падают на членов семьи и что-то растопляют внутри меня.
Широко улыбаясь, мать приглашает меня присоединиться.