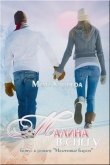Текст книги "Некоторые не уснут (ЛП)"
Автор книги: Адам Нэвилл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
– Временно, чтобы проверить, пропадут они или нет.
– Они?
– Юки. Юки. Идем играть. Идем, – шептала Махо у меня за спиной. Она спускалась, беззвучно ступая по ступенькам.
– Не знаю, – продолжал папа. – Маленькая тварь... С длинными ножками, свисающими с подоконника. А ее лицо, Маи. С тех пор, как я увидел это лицо, я не могу спать.
– Юки, посмотри, что я нашла. В шкафу. Идем, посмотришь, – позвала сзади Махо и потянулась к моей руке. Я обернулась, чтобы попросить её не шуметь, и тут увидела, что её кукольные глазки все мокрые. И тогда пошла с ней наверх. Потому что я не могу видеть, как она плачет.
– Что случилось, Махо? Не грусти, пожалуйста.
Она отвела меня в пустую комнату на втором этаже, в конце коридора, и мы уселись на деревянном полу. Там всегда холодно. А окно только одно. Из-за стекающей по стеклу воды деревья в саду выглядят размытыми. Махо склонила голову. Её волосы спускаются по белой длинной рубашке до самого подола. Мы держались за руки.
– Почему ты плачешь, Махо?
– Из-за твоего папы.
– Он болеет, Махо. Но выздоровеет. Он сам мне сказал.
Она покачала головой, затем подняла её. Из единственного глаза, который было видно среди волос, текли слезы.
– Твои мама с папой хотят уехать. А я хочу, чтобы ты не уезжала. Никогда.
– Я никогда тебя не оставлю, Махо.
Теперь грустно стало уже мне, и в горле появился привкус моря.
Махо принюхалась, прячась за волосами. Дождь очень громко стучал по крыше. И казалось, будто он идет внутри нашей комнаты.
– Обещаешь? – спросила она.
– Обещаю, – кивнула я. – Ты моя лучшая подруга, Махо.
– Твои родители не понимают игрушек.
– Я знаю.
– Они просто хотят играть. Твой папа должен спать и не мешать им. Если он узнает обо мне и игрушках, то увезет тебя от нас.
– Нет. Никогда. – Мы обнялись, и Махо сказала, что любит меня. И что игрушки тоже меня любят. Я поцеловала её мягкие волосы и почувствовала губами, какое холодное у нее ухо.
На первом этаже открылась и закрылась кухонная дверь. Махо убрала руки и распутала волосы, обвившиеся вокруг моей шеи.
– Твоя мама ищет тебя. Слезы по-прежнему бежали по её белому лицу.
Она оказалась права, потому что с лестницы послышались шаги.
– Юки? – позвала мама. – Юки?
– Мне нужно идти, – сказала я Махо и встала. – Но быстро вернусь, и тогда мы поиграем.
Махо не ответила. Она сидела с опущенной головой, поэтому её лица я не видела.
***
– Юки, как ты отнесешься к тому, если я скажу, что мы можем скоро переехать? Вернуться обратно в город? – Мама с улыбкой посмотрела на меня. Она думала, эта новость меня обрадует. Но я ничего не могла с собой поделать, лицо у меня словно вытянулось и потяжелело. Мама сидела рядом со мной на полу в холодной комнате, где нашла меня. Хотя Махо спряталась, я знала, что она сейчас слушает.
– Разве тебе не хотелось бы этого? – спросила мама. – Снова встретишь всех своих подружек. Пойдешь в ту же самую школу. – Кажется, её удивляло, что я не улыбаюсь. – В чем дело, Юки?
– Я не хочу.
Мама нахмурилась.
– Но ты так расстраивалась, когда мы переехали сюда.
– Теперь мне тут нравится.
– Ты же совсем одна. Тебе нужны друзья, милая. Неужели ты не хочешь снова поиграть с Сачи и Хиро?
Я покачала головой.
– Я и здесь могу поиграть. Мне нравится.
– Одной, в таком большом доме? Когда за окном льет как из ведра? Ты глупости говоришь, Юки.
– А вот и нет.
– Тебе скоро надоест. Ты даже не можешь выйти во двор и покачаться на качелях.
– Не хочу во двор.
Мама уставилась в пол. Её пальцы казались очень тонкими и белыми в местах, где удерживали мои руки. Она шмыгнула носом, пытаясь сдержать слезы. Потом закрыла глаза рукой и шумно сглотнула.
– Идем отсюда. Здесь грязно.
Я хотела сказать, что мне тут нравится, но знала, что она рассердится. Поэтому промолчала и пошла за ней к двери. В темном углу я заметила белое лицо Махо – она смотрела, как мы уходим. А наверху, на чердаке, внезапно затопотали маленькие ножки. Мама подняла глаза, а потом быстро вывела меня из комнаты и закрыла дверь.
***
Тем вечером папа дочитал мне сказку и поцеловал меня в лоб. Он так и не побрился, и подбородок у него был колючим. Он подтянул мне одеяло к подбородку.
– Постарайся сегодня его не скинуть с кровати, Юки. Оно у тебя каждое утро на полу, а ты холодная как лед.
– Хорошо, папа.
– Может, завтра дождик прекратится. Сходим на речку.
– Мне дождик не мешает, папа. Мне нравится играть в доме.
Папа нахмурился и посмотрел на одеяло, обдумывая мои слова.
– Иногда в старых домах у маленьких девочек бывают плохие сны. Тебе снятся плохие сны, Юки? Ты поэтому скидываешь одеяло?
– Нет.
Он улыбнулся:
– Это хорошо.
– А тебе снятся плохие сны, папа?
– Нет, нет, – ответил он, хотя его глаза говорили обратное. – Просто из-за лекарства мне трудно засыпать. Вот и все.
– Я не боюсь. Этот дом очень добрый.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что так и есть. Просто ему хочется завести себе друзей. Он так радуется, что мы здесь.
Мой папа рассмеялся:
– Ну а как же дождь? А все эти мыши? Не очень-то радушный прием.
Я улыбнулась.
– Здесь нет мышей, папа. Игрушки их не любят. Они их всех съели.
Папа перестал смеяться. Я увидела, как кадык у него заходил вверх-вниз.
– Не надо из-за них беспокоиться, папа. Они – мои друзья.
– Друзья? – Его голос был очень тихим. – Игрушки? Ты их видела? – Таким тихим, что я почти его не слышала.
Я кивнула и улыбнулась, чтобы успокоить его.
– Когда все дети уехали, они остались.
– Где… где ты их видишь?
– Да везде. Но в основном по ночам. Когда они выходят играть. Обычно они вылазят из камина. – Я показала на темную дыру в углу комнаты. Папа тут же вскочил, обернулся и уставился на камин. Дождь за окном перестал идти, оставив после себя размякший и раскисший мир.
***
На следующее утро папа нашел кое-что в дымоходе у меня в комнате. Он взял швабру и фонарик и принялся шуровать внутри ручкой швабры, сбивая сажу, которая облаком опускалась на пол. Маму это раздражало, но когда она увидела выпавший из дымохода маленький сверточек, притихла.
– Смотри, – сказал папа, протягивая руку. Находка лежала у него на ладони. Они понесли её на кухню, и я пошла за ними.
Папа подул на сверток, потом смахнул с него золу кисточкой из-под раковины. Мама расстелила на столе газету. Я встала на стул, и теперь мы все смотрели на штуку, завернутую в грязную ткань. Потом папа попросил маму принести маленькие ножницы из шкатулки для шитья. Когда она вернулась с ними, он аккуратно разрезал высохшую ткань. И извлек из нее крохотную ручку.
Мама прижала ко рту растопыренные пальцы. Папа просто откинулся на спинку стула и смотрел, будто не хотел прикасаться к находке. Отовсюду доносился шум дождя, стучащего в окна и колотящего по крыше. Таким громким он не был еще никогда. Тогда я встала коленями на стол, мама принялась ругаться.
– Там могут быть микробы.
Я подумала, что это – лапка, отрезанная от пожелтевшего куриного бедра. Такие можно увидеть в городе, в витринах ресторанов. Но у нее было пять кривых пальчиков с длинными ногтями. Не успела я до нее дотронуться, как мама завернула её в газету и сунула на самое дно мусорной корзины.
Но были еще и другие. В пустой комнате в конце коридора. Папа вытащил из дымохода и принес на кухню еще один сверток. Сперва мама даже не хотела смотреть на крошечную туфельку, пока мы не обнаружили внутри кости ступни. Мама стояла у окна и смотрела на мокрый сад. Ветки с листьями колыхались от тяжелых капель, будто махали дому.
Туфелька была сделана из розового шелка. Папа развязал ленточки. Вырвалось облачко пыли, и папа вытряхнул на стол крохотную ножку. Услышав стук, мама оглянулась через плечо.
– Выкинь, Таичи. Не хочу видеть это у себя дома, – сказала она.
Папа посмотрел на меня и поднял брови. Мы пошли искать дальше. В большую гостиную на первом этаже. Шуруя шваброй в дымоходе, папа сказал, что эти свертки остались от предков.
– Дом очень старый. И когда его строили, люди прятали во всякие тайники маленькие обереги. Под половицами, в подвалах и дымоходах, чтобы те защищали дом от злых духов.
– Но почему они такие маленькие? – спросила я. – В туфельке была нога ребенка?
Он промолчал и продолжил шуровать в дымоходе ручкой швабры. Мой папа был очень умным, но вряд ли у него были ответы на мои вопросы. Те штуки, которые он находил, были как-то связаны с игрушками, это точно. Поэтому я решила спросить Махо, как только её увижу. Она пропала, пока я завтракала, и до сих пор пряталась, потому что папа ходил по всем комнатам и везде совался.
Следующей находкой был крошечный белый мешочек, завязанный тесемкой и с бурыми пятнами снизу. Но как только папа вытряс из него на кухонный стол твердые черные комочки, он сразу же завернул их в газету, и сунул в мусорную корзину, утрамбовав рукой и ногой.
– Что это такое? – спросила я.
– Просто старые камешки, – ответил папа.
Но они были совсем не похожи на камешки. Они были очень легкие и черные и напомнили мне высушенных соленых рыбок.
После этого папа прекратил поиски и стал подметать сажу с пола. Мама тем временем залезла у них в спальне на стул и снимала со шкафа чемоданы. А я нигде не могла найти Махо. Она не появлялась весь день. Я проверила везде, во всех наших секретных местах, но не нашла ни ее, ни игрушек. Шептала её имя возле каждой щелочки, но она не откликалась. Но когда я залезла на чердак, то услышала под люком разговор мама с папой.
– Сердце, – прошептал папа маме. – Крошечное сердце, – успела я расслышать, прежде чем они ушли на первый этаж.
***
Той ночью, забравшись ко мне в постель, Махо обняла меня так крепко, как еще не обнимала. И так плотно укутала меня своими мягкими волосами, что я почти не могла двигаться. Под волосами было так темно, что я ничего не видела и попросила ее отпустить меня. Мне было трудно дышать, но она была в каком-то странном мрачном настроении и просто сжимала меня своими холодными руками, пока я не задремала.
Дождь за окном перестал, и дом начал поскрипывать, как старый корабль, на котором мы плавали однажды летом. Наконец Махо заговорила. Она сказала, что скучала по мне. Зевая, я спросила насчет туфли, ноги и мешочка с комочками, которые папа нашел в дымоходах.
– Они принадлежат игрушкам, – ответила Махо. – Твоему папе не стоило брать их вещи. Это было ошибкой. Это не правильно.
– Но они были старые, грязные и противные, – возразила я.
– Нет, – настаивала Махо. – Они принадлежат игрушкам. Игрушки положили их туда давным-давно, и родителям нельзя их забирать. Они для игрушек все равно, что счастливые воспоминания. А теперь спи, Юки. Спи.
Я ничего не поняла. И, думая над ее словами, стала засыпать. Под её волосами было так тепло. Она тихонько пела мне на ухо и терлась холодным носом о щеку, как щенок.
Я слышала, как в коридоре собираются игрушки. Никогда еще их не было так много. В одно время, в одном месте. Такое происходило впервые. Наверное, был какой-то особый повод. Вроде парада. Когда родители Махо уехали, они тоже проводили парад.
– Игрушки, – прошептала я в черную шерсть у себя на лице, сползая в глубокую яму сна. – Ты слышишь их?
Махо не ответила, так что я просто слушала, как игрушки бродят в темноте. Как шаркают своими маленькими ступнями. А их розовые хвостики шелестят по деревянному полу. Как звенят бубенцы на шляпках и кривых пальчиках их крошечных ножек.
– Тук-тук-тук, – стучали деревянными тросточками старые обезьянки.
– Чик-чик-чик, – щелкала тонкими, как вязальные спицы ножками какая-то дама.
– Цок-цок-цок, – цокали копыта черной лошадки с желтыми зубами.
– Дзынь-дзынь-дзынь, – дзынькали тарелки в руках куколки с острыми пальчиками.
– Тум-тум-тум, – бил барабан.
Они все маршировали и маршировали по дому. Все дальше, дальше и дальше по коридору.
***
Меня разбудили крики. Сквозь сон и мягкую тьму, укутавшую мое тело, я услышала чей-то громкий голос. Мне показалось, что это папа. Но когда глаза у меня открылись, в доме было тихо. Я попыталась сесть, но не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Перекатываясь с бока на бок, я немного освободилась от волос Махо. Они были везде, со всех сторон.
– Махо? Махо? – позвала я. – Проснись, Махо.
Но она лишь сильнее обхватила меня своими тонкими руками. Сдув волосы с губ, я попыталась рукой убрать с глаз длинные пряди. Я ничего не видела. Махо мне не помогала, и я потратила много времени, чтобы размотать шелковые веревки, опутавшие шею и лицо, стряхнуть их с рук, вытащить из щелей между пальцев, чтобы они не цеплялись и не тянули. В конце концов, мне пришлось перевернуться на живот и задом выползать из воронки её черных волос. Она крепко спала и не проснулась, даже когда я стала трясти ее.
Лишь добравшись до края кровати, я смогла сесть нормально. Все простыни и одеяла опять были на полу. Я слезла и побежала в темный коридор. Направляясь к спальне мамы и папы, я не видела под собой холодных половиц и слышала лишь стук своих босых ног. Дверь в их комнату была открыта. Может, папу снова разбудил плохой сон. Я не стала заходить и просто заглянула внутрь.
В спальне было очень темно, но там что-то двигалось. Я напрягла глаза и уставилась туда, куда из щелей между занавесками падал тусклый свет. А потом увидела, что шевелится вся кровать.
– Мама, – позвала я.
Казалось, мама с папой пытаются сесть и не могут. И простыни вокруг них шуршали. Кто-то стонал, но на голоса родителей это не было похоже. Будто кто-то пытался разговаривать с набитым ртом. И с кровати доносился еще один звук, он становился громче. Чавкающий звук. Словно много-много людей торопливо ели лапшу в токийском кафе.
Дверь закрылась, и, обернувшись, я увидела Махо. Но поняла, что она там, еще раньше.
Она смотрела на меня из-за своих волос.
– Игрушки просто играют, – сказала Махо.
Она взяла меня за руку и повела обратно к нашей кровати. Я забралась в постель, она вновь опутала меня своими волосами, и мы вместе стали слушать, как игрушки раскладывают свои вещи по тайникам в стенах, там, где им и место.
Срок расплаты
В сумерках, когда все вокруг погрузилось во мрак, мы молча шли по опустевшей улице с непроизносимым названием Рю-ду-Су-Льетенан-де-Луатьер. Впереди, за белыми, крытыми черепицей зданиями на Куай-дю-Канаде бушевало море, и мы знали, что оно чернеет, хотя не видели его. Эта улица была ближе всего к океану и казалась более чем пустой. Буквально вымершей.
Улицы Арроманша не тронула разруха. Не было разбито ни одного окна. И не все дома были заброшены. Хотя я не знал наверняка, какие пустуют, а какие по-прежнему обитаемы. Флаги были сняты. Танки и легкая артиллерия, оставшиеся со Второй Мировой, ржавели под открытым небом. Кафе и музеи были закрыты. А ветераны, однажды побывавшие здесь, давно умерли. Какой бы пустынной и мрачной ни была внутренняя часть города, сжавшаяся и отодвинувшаяся от набережной, здания, непосредственно выходившие на океан, почему-то казались еще более безжизненными и обветшалыми, словно понесли поражение.
Мы чувствовали, как океан заглатывает водянистый свет, слышали бесконечный шум его холодных бурных волн и его громкие беспокойные вздохи. Бесчувственная и вневременная вода тянула нас к берегу, пытаясь завлечь в свою ужасающую орбиту. Подумать только, когда-то я относился к морю с любовью, его запах и крики птиц вызывали у меня умиротворение. Теперь, когда нас стирают, нацию за нацией, одна мысль о его существовании, заставляла меня содрогнуться. В то утро, сразу после нашего прибытия в Гавр, пока я стоял перед огромным водным пространством, мой внутренний мир рухнул, превратившись в жалкую пыль. Я почувствовал, что, как и черная бездна, нависшая над землей, водные глубины стали ближе к суше, чем когда-либо. Почему-то слишком близко. В Арроманше это ощущение обострилось.
Сердце у меня бешено колотилось. От паники перехватило дыхание. Я жадно хватал ртом холодный воздух. "Небо все ближе. Море все ближе. И меркнет свет". Когда я сказал это Тоби на улице под названием Рю-ду-Су-Льетенан-де-Луатьер, тот прохладно и натянуто улыбнулся. Я отчаянно жаждал успокоения, но Тоби был в восторге от моего дискомфорта.
Наши отношения никогда не были сбалансированными. Я развлекал Тоби и решал практические вопросы, которые были необходимы ему для совершения этих поездок. Думаю, он только поэтому терпел рядом с собой мое беспокойное присутствие. Из-за него я чувствовал себя престарелым родственником или слугой, подчинявшимся кому-то, более молодому и сильному, избалованному и искушенному. Я презирал его.
– Классное дерьмо. – Так он отзывался о содержимом маленькой бутылки из коричневого стекла, которую часто носил в нагрудном кармане своей водонепроницаемой куртки. Я почти не притрагивался к этому зелью. Ранее в тот же день, в нашей комнате в гостевом доме я сделал один глоток горького сиропа, перед тем как в полдень мы начали осмотр Байе. Но Тоби набрал его полный рот, отчего зубы у него покрылись коричневой пленкой чистого йода. Именно поэтому глаза у него были по-прежнему стеклянными. И именно поэтому он весь день пролежал на влажной неподстриженной траве Военного Кладбища возле заброшенного музея-мемориала битвы за Нормандию, молча уставившись в унылое серое небо. Он был доволен тем, что лежит среди неухоженных могил пяти тысяч павших солдат, чествовать которых ни у кого больше не было сил, после всего, столь стремительно произошедшего в этом мире.
Тоби тоже было уже не интересно фиксировать свои впечатления. Говорить о них. Перенаправлять их мне. Или пытаться их осмыслить. Он был доволен тем, что просто молча переживал эти эпизоды, снова и снова. Он сказал мне лишь одно: "Но готовы ли они быть забытыми? Вот в чем вопрос, дорогой мой". И склонив столь наглым образом павших к появлению, захихикал, как ребенок.
Такова была природа моего страха перед вещами, которые я втягивал в себя на пустых прибрежных улицах Арроманша, все сразу. Мой взгляд был обращен к серым каменным стенам, граничившим с садами, заросшими сорняками садами, позади некогда величественных отелей справа от меня. Затем мое внимание переключилась на окна, вставленные в изъеденный солью кирпич и столетиями обдуваемые влажными ветрами. И в окнах третьего этажа здания, соседствовавшего с заброшенной церковью, я увидел фигуру.
Я остановился и вдохнул так резко, что даже издал короткий вскрик, который тут же проглотил.
Я почувствовал на себе внимательный взгляд фигуры. Она наблюдала за мной, а затем, в тот момент, когда я посмотрел в ее сторону, внезапно отвернулась. Не исчезла, а просто повернулась ко мне спиной. Она была облачена в нечто длинное, гладкое и бледное, что сочеталось тоном с тем белесым светом, которым когда-то, очень давно, восхищались здешние импрессионисты. На голову фигуры был накинут капюшон, а лицо закрыто обеими руками, чтобы я не видел его выражения.
– Господи, – произнес я дрожащим голосом.
– Что? – спросил Тоби, глядя на меня и хмурясь с усталым равнодушием.
Я сглотнул, не в силах говорить, охваченный холодным параличом кратковременного и сильного шока.
Тоби повернулся и проследил за моим взглядом.
– Что? – повторил он.
Я указал на окно.
– Там.
Он пожал плечами, поэтому я встал рядом с ним.
– Там! – Я ткнул пальцем в сторону окна, в котором все еще стояла фигура, явив себя нам и все же умоляя нас не смотреть на нее, чтобы мы не видели ее скорбь. Это был не траур, а запустение. Я сразу понял это.
– На что я смотрю... О, да. Но...
– Она отошла. Отвернулась. Закрыла лицо.
– Давай сходим, посмотрим, – предложил Тоби и поспешил через улицу к стене сада.
– Нет. Нет, – воскликнул я, поразившись его полной нечувствительности. Фигура в окне требовала соблюдения почтительной дистанции. Чтобы после короткого взгляда ее оставили в покое. Я понял это инстинктивно. Но Тоби являлся редким нахалом. По отношению к чувствам других людей он, если честно, был вандалом и нарушителем. Его непрестанные поиски ощущений, всего эзотерического и странного, внутренних переживаний, извлеченных на свет, риска и опасности, тревожили меня в тот момент, на дороге, больше, чем все остальные занятия, за которыми я наблюдал его в течение всех двадцати трех лет нашего знакомства.
Но я не мог рационально объяснить, почему это его беспардонное вторжение шокировало меня до тошноты. Он не глотал неопознанные таблетки, не терялся преднамеренно в незнакомых местах, не ходил в поход по труднодоступной местности без надлежавшего оборудования, не залазил в темные окна, не провоцировал нестабильных людей пьяным состоянием и грубой речью. Здесь его вторжение понесет более суровое наказание. Навязываться и вмешиваться было бы кощунством. Откуда я это знал, не могу объяснить. Достаточно сказать, что это было место, где множество людей погибло страшной смертью в забытой войне. И как мы с Тоби видели, там, где столькие закончили свои дни в вихре насилия, они "пропитали" все вокруг своим желанием остаться. Навсегда вцепились в то место, где когда-то видели свет. Я предупредил Тоби об этом царстве, которое можно почувствовать или увидеть мельком, лишь в определенных местах в определенное время. Но иногда двери этого региона, который, как мне кажется, является своего рода параллельным небытием, бывают широко распахнуты. Как здесь, что объясняло мою чрезвычайную нервозность с тех пор, как мы сошли с парома, каждую неделю заканчивавшего свой маршрут на этом полузаброшенном побережье Нормандии.
Конечно, именно поэтому Тоби захотел приехать сюда со мной в качестве проводника. Он слышал истории об этом месте. А я был лабрадором для слепца. Я вел его. Помогал обходить препятствия. Он прошел бы мимо той фигуры в окне, если б я не пережил рядом с ним тот приступ тревоги. Самый пик моего припадка вызвал извлечение... чего-то, чего я не знаю.
– Статуя, – сказал он. В его голосе звучало разочарование и презрение ко мне, будто у меня не получилось развлечь его. Затем повеселевшим тоном он добавил: – Хотя она довольно занятная.
Я почувствовал некоторое облегчение от того, что это была всего лишь статуя, но ненадолго. Это каменное изваяние женщины, разбитой горем, погруженной в себя и отвернувшейся от мира, закрывающей себе лицо и одновременно сжимающей свой ужас и отчаяние, заставляло меня сникнуть. Съежиться перед всем, что оно символизировало в этом мрачном умирающем месте. И я склонил голову и закрыл глаза при одной мысли о том, с кого скульптор ваял эту фигуру. Или о том, какая усталая, но неугасающая тоска, вышедшая из-под волн, была вложена в камень. Мне захотелось снова закричать Тоби, что тысяча восемьсот семь тел, выпотрошенных в соленом мелководье и между аккуратных изгородей, так и не было найдено. Что мы должны действовать осторожно и тихо, не поднимать глаза и не повышать голос. То, что мы потревожили прошлым летом в заброшенных траншеях Вимийского мемориала, заставило его испачкать себе ботинки собственной рвотой. А я упал в обморок.
Но здесь у Тоби не было таких проблем, такой интерпретации, когда он стоял перед этими холодными, влажными и в большинстве своем заброшенными зданиями из вымытого камня, всего в нескольких ярдах от наводящего ужас моря, чьи волны накатывали на галечный берег и топили свет.
Море. Бескрайнее. Бесчувственное. Монотонное. Ужасающее. Уничтожающее, словно растущая холодная бездна над нами, безразличная к этой голубой песчинке жизни, на которой мы стояли. Крапинки на крапинке. Море и небо здесь почти соприкасались. Разве он не чувствовал это? Здесь происходило вымирание.
Внезапно разыгравшееся воображение едва не выпустило с шипением свой собственный свет. Я вонзил ногти в ладони и произнес слова. Заклинание. Повторял эти слова снова и снова, чтобы вновь обрести собственное "я". Затем, обессилев, расслабил плечи.
Тоби продолжал стоять возле стены и смотреть, очарованный далекой каменной фигурой за стеклом. В комнате, где находилась фигура, было темно. А затем Тоби заговорил, без каких-либо эмоций, но от его слов кости у меня заныли от холода, а кожа покрылась мурашками.
– Там есть и другие. Смотри.
Я встал рядом с ним возле старой стены. И заглянул в соседний дом. Похожая фигура в капюшоне стояла одна, отвернувшись от внешнего мира и закрыв себе лицо руками, словно неподвижный страж, в окне третьего этажа. Третья каменная фигура заполняла собой боковое окно убогого бетонного здания, стоявшего с другой стороны от церкви. С его голубой металлической крыши слезла почти вся краска. Наверное, когда-то это был гараж.
– Интересно, зачем они там? – спросил Тоби, и его вопрос прозвучал искренне.
Для меня эти фигуры словно запечатывали пустые здания, или помечали их как непригодные для проживания, или как неспокойные, "пропитанные". Те статуи обозначали места, где мертвые появлялись более свободно, поскольку живые освободили им место. Где мертвые "впитались" в вещи и в пространства.
– Давай возвращаться.
– Но это же так клево.
За время нашего общения бывали случаи, когда мне от всей души хотелось уничтожить Тоби, физически. Это был очередной такой случай.
Едва мы вернулись в нашу комнату в гостевом доме, как Тоби растянулся на кровати, прямо в куртке и грязных ботинках. Закрыл глаза и через минуту захрапел. Испачканное его грязной обувью покрывало придется отстирывать сморщенной, пожелтевшей старухе, владевшей гостевым домом.
Голод, сидение рядом с Тоби весь день на холодном кладбище, и недавний эпизод на улице лишили меня сил. Я тихо подобрался к маленькому столу, на котором мы оставили остатки ланча, которым перекусывали во время нашего автомобильного путешествия из Гавра. Открыв пластиковый контейнер, я обнаружил, что Тоби съел, без моего ведома, последние два сэндвича, пакетик чипсов и шоколадный батончик. Я посмотрел на поднос с чайником и растворимыми горячими напитками. Ранее я видел там две упаковки песочного печенья. Их он тоже съел. Полиэтиленовые обертки валялись возле сломанного телевизора.
Осознав, что я скриплю зубами так сильно, что рискую сломать один из них, я разомкнул челюсть и потер подбородок. Снова посмотрел на лежавшего на кровати Тоби. От его заполнившего холодный воздух храпа вибрировали стены. Тонкое лицо было бледным, узкий рот раскрыт. Вьющиеся белые волосы казались неестественно молодыми для его лица, будто это был старик в девичьем парике. Мне захотелось сбросить его пинком с кровати и топтать, топтать, топтать его кудрявую башку.
Вместо этого я отвернулся. За окном, море и небо были черными, будто за стеклом кончилась вся жизнь. Внезапно сильный жар ушел из моего тела, оставив головную боль. Оставался еще чай и кофе в пакетиках, но кипящий чайник мог разбудить Тоби.
Я обругал себя за такую заботливость. Человеческий инстинкт, о котором он ничего не знал, поскольку никогда не проявлял его за все время нашей долгой дружбы. Тоби сразу же утолял любой свой импульсивный аппетит, не учитывая чужие потребности. Он привык брать и хватать. Привык получать все, что ему нужно, везде и всегда. Считал, что имеет на то право. А его презрение ко мне уже превышало все разумные пределы. Но теперь я знал точно, что служило причиной его презрения. Теперь мне все стало понятно. И он стал понятен. И хуже его откровения насчет его семейного окружения был тот факт, что мы не в силах изменить свою природу.
В темноте я опустил свое истощенное и усталое тело на край своей кровати. Было уже восемь.
Я подумал о том, что он сказал мне в машине в столь бесцеремонной манере, и вспомнил, как это поразило меня до глубины души. После чего я растерял всякое желание к общению. Сидевший на пассажирском сиденье Тоби заметил мой шок и просто нацепил на лицо ухмылку, которая сохранялась у него до конца дня. Я был слишком горд, чтобы сердиться, и слишком расстроен, чтобы разговаривать. Меня предали, а предательство вызывает мощную эмоцию, которая отключает большую часть рассудка, кроме его способности выносить страдание от предательства. По крайней мере, если его не охватывает ярость. И это не было размолвкой любовников, потому что мы не были любовниками. Но между нами была такая связь, которая бывает только между любовниками. Вернее, я осознал, почувствовав холодную струйку пота, вызванную как страхом, так и стыдом, что то, что мы делили двадцать три года, было привязанностью пса к своему хозяину. Хозяину, который ставит собственные потребности выше, чем потребности пса, и который скоро должен бросить доверчивую псину.
В той темной и душной комнате гостевого дома на берегу беспокойного моря, я не мог заставить себя перечислить все те вещи, которые принес в жертву или упустил за свою жизнь, из-за своей ошибочной привязанности к этому человеку, своему другу. Но перечень моих претензий появится вовремя. В длинные темные дни, заполнившие мое существование, время для такого перечня найдется всегда.