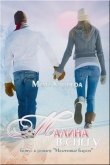Текст книги "Некоторые не уснут (ЛП)"
Автор книги: Адам Нэвилл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Внезапно лицо у меня сморщивается, и я плачу, сотрясаясь под одеялом всем телом. Потом я встаю с койки и смотрю на верхний ярус, где храпит Уксусный Ирландец. Жалко, что я это не он. У него в голове никаких кровавых картинок. Его неспокойные сны наполнены лишь мыслями о прозрачных жидкостях, которые он будет пить из пластиковых канистр.
Из-за царящего в спальне холода меня трясет еще сильнее. Запястье пульсирует. Мне хочется вернуться в кровать и свернуться в клубок. Как я когда-то лежал у мамы в животике. Пока меня не вырезали оттуда, и мама не умерла.
Выйдя из спальни, я гляжу на дверь, ведущую в душевую.
Никто не кричит, не звучит сигнал тревоги, не загорается свет. Во всем здании тихо. Никто не знает, что госпожа Ван ден Брук мертва. И никто не знает, что это я убил ее... пока не знает.
На душе становится легче. Меня никто не видел. Никто не слышал. Джемима все это время спала и видела сны о теплом зеленом крае за океаном, откуда она родом. Мне просто нужно сохранять спокойствие. Возможно, тогда никто не заподозрит меня – большеголового парня с кукольными ручонками. Да что он может сделать с такими игрушечными ножками и спичечными ручками? В этой голове-луковке, в которую втиснуто детское личико, не способны возникнуть такие мысли. Наверное, так они и подумают. Именно так думали и в приюте. Потому я и вышел тогда сухим из воды. Обо мне даже и не вспомнили, когда всех тех гадких воспитательниц, раздающих детям затрещины, нашли мертвыми в их постелях. Обо всех троих позаботились вот эти самые фарфоровые ручки.
Я радостно улыбаюсь. Мое серое сердечко успокаивается. Капельки пота на коже высыхают. По каждому крошечному пальчику ног, по тонким пальчикам рук, по всему моему прозрачному телу до самой круглой головы растекается тепло. И вот уже я весь сияю от радости – ведь я ускользнул от них, провел их. Одурачил всех, кто даже не представляет, какая сила прячется в моих крошечных ручонках.
И еще я представляю маленького мальчика, которого привезли в белом грузовике. Того, которого съели вчера. Сейчас он танцует в раю. Там, в вышине, небо ясное и голубое. Ему нравится длинная трава, мягко щекочущая ему ноги, нравится, как желтое солнышко пригревает его тело, нравится бегать и прыгать. Это ради него и его брата я уронил ту тяжелую лампу. Тук. Случившееся с ним нельзя забыть. Я снова все вижу. Вижу все своими черными глазами-пуговками, хотя они и крепко зажмурены.
Но что насчет второго?
И тогда я спускаюсь в душевую и отпираю дверь. Не успевает она отвориться, как я уже слышу, как быстро удаляются в угол шлепки его босых ног. А потом раздается всхлип.
Ну, уж нет, тебя они не получат.
Открыв дверь, я прохожу мимо темной мокрой скамейки у белой стены. Останавливаюсь перед мальчиком с желтой кожей, съежившимся в углу. Улыбаюсь. Он берет меня за мою протянутую руку, моргает заплаканными глазами.
Я думаю про Церковь Богородицы и про туман. Нам понадобится одеяло.
– Твой братик ждет нас, – говорю я, и он поднимается с пола.
Забыть и быть забытым
Даже в самых густонаселенных городах на Земле множество людей пребывают в одиночестве. И все же, вытерпев достаточный период времени, и испытывая при этом неловкость или отсутствие внимания в социальном или профессиональном плане, по собственному опыту знаю, что отдельные индивидуумы могут относительно комфортно чувствовать себя в роли «отстраненных», либо «частично допущенных».
По-настоящему отвергнутым я никогда не был, но оттеснялся толпой к краям дел человеческих. И лишь после значительного опыта в роли отщепенца, я, наконец, смирился со своей судьбой. Это весьма раскрепощало.
Я считал себя истинным аутсайдером, поскольку одиночество само по себе стало моей целью. Мое новое призвание заключалось в том, чтобы избегать всех тех вещей, которые сближают людей, и которые можно назвать обменом опытом. Ибо я развил желание создавать вокруг себя тишину, покой, и личное пространство, где я могу думать и читать. Ибо наиболее редкое желание, которое преследует любой индивид в моем солипсистском возрасте, это быть обычным. Просто обычным. Заурядным и невидимым. И именно эту цель я счел для себя наиболее важной.
Я занимал последнее место в задней части трамвая и сидел так тихо, чтобы не привлекать испытующих взоров. Стоял в тени у края толпы, если людных мест нельзя было избежать. Не волочился за повальным увлечением или модой. Подавлял любую особенность или атрибут, которые можно было назвать отличительными. Жил в ничем не примечательных квартирах без сожителей, в нефешенебельных районах. Не принимал участия в каком-либо сообществе или субкультуре. Никогда не поднимал руку и не говорил вслух. Сваливал с вечеринки и вздыхал с облегчением. Я был вежлив и корректен, если контакт был неизбежен, но если была возможность от него уйти, я ею пользовался. Всякий раз.
И я начал оживать так, как мало кто мог себе представить. Поскольку очень многое можно увидеть и понять, когда разум не требует внимания, одобрения или принятия окружающих.
Будь серостью. Это стало моим девизом, в котором я нашел освобождение и умиротворенность. И моя миссия привела меня к дому Дулле-Грит-Хёйс в Зуренборге, Антверпен.
Для людей самоустранившихся, не желающих иметь дел с "командными игроками" или профессиональным ростом, сама идея работы является неуместной. Хотя мне по-прежнему требовались средства для основных нужд, таких как жилье и еда. Была необходима толика безопасности, поскольку я не хотел, чтобы мое новое ментальное пространство страдало от финансовых забот. И я быстро осознал, что мне требовалось некое занятие, в противовес карьере, которым можно заниматься в одиночку. И такие виды деятельности, без коллег и надзора, существуют. На самом деле, ниш имеется множество, потому что мало кто хочет занимать их.
Если представить то, чему я собирался посвятить себя, то даже самое бедное воображение могло бы нарисовать глубокую изоляцию, отсутствие возможности для прогресса, нечеловеческий режим и сползание по скользкому склону, которое удалит меня от общества настолько, что я никогда не смогу найти дорогу назад.
– Отлично. Когда я начинаю? – спросил я менеджера агентства, проводившего собеседование при моем приеме на должность ночного сторожа.
Моя новая работа была самой скоростной трассой в Антверпене, ведущей вникуда, и я с радостью ступил на нее.
Единственными требованиями были отсутствие судимости, пунктуальность и готовность бодрствовать в течение двенадцати часов. По меркам агентства, которое нанимало таких странных индивидуумов, как я, и распределяло по старым, но благоустроенным многоквартирным зданиям в моднейших районах Антверпена, мои обязанности считались "легкими".
Я сменял консьержа в шесть вечера, а затем он сменял меня в шесть вечера следующего дня. Я работал четыре ночи подряд, затем следовал перерыв в четыре ночи. Будучи на дежурстве, я был обязан следить за мониторами, контролирующими девятиэтажный экстерьер Дулле-Грит-Хёйс, патрулировать каждые четыре часа помещения общего пользования, и оказывать содействие жильцам, когда потребуется. Остаток двенадцати часовой смены я был сам по себе.
Последний пункт в перечне моих обязанностей заставлял насторожиться, так как мне представилось постоянное взаимодействие с зажиточными жильцами и их гостями, которые, как все богачи, могли развлекаться, куражиться и шуметь ночи напролет. Но Питер, управлявший агентством по трудоустройству, меня успокоил. В Дулле-Грит-Хёйс было всего сорок квартир, и большинство из них пустовало. Все принадлежали иностранным компаниям, либо частным лицам, жившим за границей и почти никогда не пользующимся своей собственностью. В здании существовало строгое правило, запрещающее нахождение детей в возрасте до четырнадцати лет, поэтому семьи там не жили. И единственными постоянными обитателями были люди очень пожилые, редко покидавшие свои квартиры. Ночью, со слов Питера, здание вымирало.
– Вы никогда их не увидите. Так что, боюсь, вам придется самому себя развлекать.
– Без проблем, – заверил я его, с трудом сдерживая ликование от этой словно специально созданной для затворника вроде меня должности. – Читать можно? – спросил я. – Я люблю читать.
Питер быстро кивнул, словно был так же доволен заполнить должность, как я ее принять.
– Конечно. По ночам у меня работает много студентов, поэтому они могут выполнять какие-то задания, ни на что не отвлекаясь.
– И разве можно их винить за это? Мне эта должность идеально подходит, Питер.
– Вполне может быть. Терри, ваш предшественник, проработал в этом здании тридцать пять лет.
– Тридцать пять лет?
Питер кивнул.
Признаюсь, эта деталь встревожила меня, словно принимая эту работу, я подписывал некую гарантию того, что останусь здесь на неопределенный срок. Словно я принимал окончательное решение, которое изменит мою жизнь, и пути назад уже не будет.
Питер быстро закончил собеседование, передав мне форму для проверки анкетных данных.
И напомнил:
– Регулярно посматривайте на мониторы.
Я подавил в себе последние смутные сомнения и, насвистывая, покинул агентство. И я не помнил, чтобы, устраиваясь на работу, я был так возбужден. На самом деле, я не помнил, чтобы вообще когда-либо возбуждался от приема на работу, поскольку ранее не испытывал подобного чувства. Любая работа страшила меня. Но теперь-то, наконец, я буду свободен от манипуляторов. И буду настолько далеко от охотничьих угодий людей, испытывающих патологическое удовольствие от краха своего коллеги по службе, что они никогда больше не уловят мой запах. В Дулле-Грит-Хёйс у меня не будет сослуживцев, которые будут высмеивать, травить или дискредитировать меня. И никто никогда не будет использовать очередную мою идею как свою собственную, поскольку это не место для идей, конкуренции или амбиций. Это не место для кого-то кроме меня. У меня даже не было ответственного руководителя. Моими работодателями были жильцы, которые передали полномочия оплачивать мой труд внешней управляющей компании. Наконец, я смогу забыть и быть забытым.
***
Дулле-Грит-Хёйс отбрасывал длинную тень на закоулки Зуренборга и вызывал странную тишину на прилегающей площади. Глядя с улицы на десять этажей из надменно-красного кирпича, с балконами из белого камня, я поначалу испытал соблазн опустить глаза, и даже склонить голову в знак уважения к ауре исключительности, которую источало здание. Беги прочь, любезный. Здесь нет ничего для тебя.
Интерьер здания был реконструирован в 20-ые годы, и с тех пор не обновлялся. Само оно обладало жутковатым величием роскошного пассажирского лайнера. Там были антикварные лифты, обшитые панелями из латуни и красного дерева, лестничные клетки и коридоры, оклеенные шелковыми обоями, и декоративные светильники из узорчатого стекла, создававшие в общих помещениях коричневатую мглу. Я даже представлял себя во фраке и цилиндре, бродящим между столов в каком-то гигантском плавучем банкетном зале. И весь интерьер обладал тем специфическим запахом исторической важности. Не совсем таким, как в храмах, но близким к тому. Запахом законсервированных старых вещей, плохой вентиляции, дерева и полированного металла.
На каждом этаже – квадратная лестничная площадка, с входом в лифт и двумя обшитыми шпоном и снабженными латунными кольцами дверями, ведущими в квартиры. Под гигантскими зеркалами в позолоченных рамах, повешенными на уровне глаз, напротив дверей лифта, стояли изысканные мраморные короба для батарей отопления, напоминавшие детские гробницы конца девятнадцатого века. Между этажами лестница делала один поворот.
Мануэль, дневной портье, прибывал сменить меня таким усталым, и так жаждал выбраться из здания в конце каждой дневной смены, что контакт между нами был минимальным. И это нравилось нам обоим. Ни сплетен, ни интриг, ни козней. Просто один кивок, и мы расходились в разные стороны. Наша маленькая пересменка проходила без излишней суеты.
Стол дежурного располагался напротив дверей лифта в приемной на первом этаже, что было необычно, но эффективно. Под столешницей находилось шесть крошечных мониторов, демонстрировавших экстерьеры Дулле-Грит-Хёйс. В них они имели зеленоватый оттенок, словно площадь возле здания была дном некоего илистого океана.
Остальная часть приемной сверкала. Все очень тихо и цивилизованно. Неплохая среда, где можно коротать двенадцать часов за чтением отличных книг под хорошим верхним освещением в удобном кожаном кресле, спинка которого откидывалась назад. За ночь нужно было делать три обхода, по пятнадцать минут каждый. Только кто будет следить за выполнением этого правила? Но я всегда старался совершать обходы полностью. Было полезно размять ноги после неподвижного многочасового сидения. Также это было одним из моих обязанностей, и тем немногим, за что мне платили. Я – отшельник, но это не ширма для лени.
И первые четыре недели я частенько откидывался в кресле и поздравлял себя за обнаружение успешного пути эвакуации из жизни с ее обязанностями. У меня получилось. Я был по-настоящему свободен, по крайней мере, от них. А также свободен исправить свое абсолютное невежество в большинстве тем, поскольку создал возможность для самообразования в областях, которые считал важными. Начал читать труды историков, философов и популярных ученых. Составил списки всего, что я хотел узнать. Проводил дни между сменами в книжных магазинах и публичных библиотеках, тщательно выбирая необходимые книги. Каждую ночь брал с собой широкоформатную газету, и чтобы подстраховаться, подписался еще на два литературных журнала. А зачастую, если хотел, просто сидел и смотрел на дождь. Высмеиваемое и недооцененное большинством времяпровождение, хотя использовать его необходимо дозированно, либо разум может обратиться против себя.
Моя новая должность была настолько многообещающей, что я даже начал предпочитать ночную смену тем дням, которые проводил в своей мрачной съемной квартире. Однако месяц спустя Дулле-Грит-Хёйс решил показать мне свое истинное лицо.
***
Сперва перемены внутри здания были едва заметными. Незначительные изменения температуры и освещения, на которые я не обратил внимания. Но эти атмосферные аномалии вскоре усилились, всецело захватили мое внимание и отбили всякую охоту проводить второй обход в два часа ночи, когда активность достигала своего пика.
Пользоваться лестницей становилось все некомфортнее. И потребовалось время, чтобы точно определить, что вызывало у меня столь странное чувство. Хотя я списывал все на необъяснимое воздействие замкнутого пространства. После полуночи, когда на внешний мир опускалась тишина, грудь у меня стягивало от чрезмерного напряжения, воздух вокруг казался неестественно холодным. И я с трудом пытался отдышаться, пока нечто все время пыталось проникнуть в мои мысли. Вызывало у меня внезапные приступы воспоминаний, паранойи и страха, что казалось необъяснимым, когда я возвращался на первый этаж, к своему столу.
Внезапное чувство клаустрофобии сопровождалось тенями. В каждом случае, я улавливал краем глаза мимолетное движение. Движение, предвещающее чье-то появление. Только никто никогда не появлялся. Тени, казалось, спускались по лестнице вслед за мной, словно их хозяева следовали за мной по пятам. Или время от времени, когда я спускался на нижний этаж, какая-то тень – не моя – юркала за угол впереди меня.
Несколько раз я даже окликнул: "Кто там?". Но никто не ответил и не показался. Когда я замирал и внимательно осматривался, никаких признаков движения в тенях больше не обнаруживалось. Но светильники на стенах и потолочные лампы на каждой лестничной площадке тускнели. Отчего мне казалось, что либо у меня садится зрение, либо окружающее меня пространство постепенно растворяется в темноте.
Либо это светильники теряли яркость? Может, все это – просто результат усталости моих глаз? То были лишь смутные и периферические галлюцинации, а я был непривычен к ночной работе. В конце концов, я не являлся ночным животным, и лишь становился таковым намеренно. Кто знает, как это влияло на меня? Поэтому я принял этот феномен за первые последствия недосыпания, так как он всегда имел место около двух часов ночи, когда необходимость в отдыхе достигала своего пика.
Шумы были более тревожными из-за их неподконтрольности. Они возникали вслед за появлением теней. Фактически, присоединялись к ним. И проверив график дежурств, я понял, что звуки исходят из пустых квартир.
Как будто мощный порыв ветра влетал в открытое окно, гулял по комнатам и коридорам квартир, после чего со страшной силой врезался во входные двери. От удара двери содрогались в рамах.
Я думал, что это, возможно, вызвано сильными воздушными потоками из вентиляционных стояков. Я ничего не знал о физике циркуляции воздуха в таких старых зданиях. И спросить, конечно, было некого. Но внезапный удар в дверь в тот момент, когда я пересекал лестничную площадку, начал творить странные вещи с моими нервами и воображением. Меня не покидала тревожная мысль, что кто-то бросается на дверь всей своей массой, словно потревоженный сторожевой пес при звуке почтальона. Усиливающаяся паранойя подсказывала мне, что нечто в пустующих квартирах требует моего внимания.
– Простите? – говорил я закрытым дверям. – Это я. Джек. Ночной вахтер. Все в порядке? – Но ответа никогда не было, и я понимал, что отвечать не кому, поскольку, когда я проверял регистрационную книгу, неспокойные квартиры были отмечены, как "НЕЖИЛЫЕ". Но шумы случались, даже когда ночь была безветренной и тихой. И с обеих сторон здания.
Все же, это была работа моей мечты, и к середине третьего месяца я убедил себя, что могу жить с неисправными светильниками, странными ветрами внутри здания и психическими побочными эффектами от бессонных ночей. Но не успел я возобновить свой обет остаться, как моя терпимость к Дулле-Грит-Хёйс вновь была подвергнута сомнению, хотя и более ощутимой угрозой.
Мое знакомство с обитателями заселенных квартир, оказалось более тревожным, чем те игры, которые свет или воздушные потоки играли с моими нервами. И я никогда не видел такого количества стариков, собравшихся под одной крышей. Сообщество, находящееся на пике дисфункции и эксцентричности, и остававшееся полностью скрытым от меня первые десять недель моей работы. Я подозревал, что именно мое упорное присутствие в здании пробудило их.
***
Первыми жильцами, которых я увидел, были сестры Аль Фарез Хуссейн, из 22-ой квартиры. Обеим было по сто с лишним лет. По крайней мере, так сказал мне Мануэль, когда однажды сестры появились во время моей смены. И у меня не было причин не верить ему.
Входя в здание (хотя Мануэль не помнил, чтобы они выходили во время его дневной смены), сестры на невероятно медленной скорости пересекали приемную, словно исполняли странный регентский танец, замедленный до такой степени, что не было заметно движения куда-либо, лишь покачивание вверх-вниз, как при переступании с ноги на ногу.
Привычно улыбнувшись и помахав, я возвращался к чтению книги, после чего периферийным зрением улавливал значительное ускорение движения. Казалось, они падали на четвереньки и поспешно удирали.
Это было невероятно. Несомненно, очередная игра разума из-за недосыпания. Поскольку эти две фигуры, закутанные в халаты, одна в белый, другая – в черный, были настолько сморщенными и сгорбленными, что двигаться с какой-либо скоростью, не говоря уже о легкости, представлялось для них невозможным.
Они никогда не обращались ко мне на каком-либо языке, но, пока они шли к дверям лифта, их взгляды всегда были прикованы ко мне. Одна поворачивала ко мне свое маленькое лицо, коричневое, как патока и сморщенное, как изюм, и два крошечных обсидиана в запавших глазницах изучающе смотрели на меня. Вторая носила маску. Золотая маска в виде клюва была закреплена на голове несколькими цепочками, терявшимися в недрах ее паранджи. Думаю, она символизировала лик ястреба.
Но были в этом здании и другие непривлекательные курьезы, гораздо более серьезные, чем сестры.
Первое, что привлекло мое внимание в миссис Гольдштейн, это ее необычная прическа. Идеальный шар из серебристых прядей. Но полностью просвечивающий под любым углом. И сквозь иллюзорный блеск этого сферического творения просматривался жуткий птичий череп, белесый и покрытый пигментными пятнами. Ее нос напоминал нож для резки бумаги, а кожа лица, в тех местах, где стерся грим, была полупрозрачной, как у вареной курицы. В возрасте 98-ми лет ее тело было высохшим до такой степени, что макушкой она едва достала бы до низа моей грудной клетки. Но двигалась она от парадного входа до дверей лифта в приемной довольно быстро, по паучьи, с помощью двух черных тростей, напоминавших палочки для еды. Я никогда не видел, чтобы она носила что-то, кроме туфель на высоком каблуке и старых черных костюмов, в которые ее горничная, Олив, облачала ее скелетообразное тело. Она напоминала мне марионетку с дьявольским лицом из папье-маше. Зрелище не для слабонервных, особенно ночью.
Миссис Гольштейн и Олив проживали в роскошном пентхаусе с тремя спальнями. И миссис Гольштейн не было до меня совершенно никакого дела. Так сказала Олив. Сообщила мне шепотом, когда ее круглая филиппинская физиономия проплыла однажды вечером мимо моего стола.
– Она думает, что вы слишком молоды для вахтера. Ни жены. Ни детей. Говорит, что вы сомнительная личность.
Вскоре Олив полюбила сообщать мне все пренебрежительные замечания своей хозяйки касаемо меня.
Я начал видеть эту пару каждый вечер, в восемь часов. Олив выводила свою хозяйку на короткую прогулку по прилегающей к зданию площади. Так они говорили. Опять же, как и в случае с сестрами Хуссейн, меня посетила неприятная мысль, что они приходили в приемную лишь для того, чтобы поглазеть на меня.
Согласно регистрационной книге, остальные постоянные жители тоже были женщинами. Однако все они были прикованы к постелям, поэтому я никогда их не видел. Хотя иногда слышал, как их сиделки разговаривают на лестничных клетках.
Но в 18-ой квартире на восьмом этаже проживала не только старейшая жительница этого дома, но и самые зловещие его обитатели. Миссис Ван ден Берг и ее круглосуточная сиделка, Хельма.
***
Мое первое соприкосновение с Хельмой и миссис Ван ден Берг произвело на меня настолько мощное впечатление, что весь последующий день, пока я отсыпался дома, меня мучили кошмары. В длинном и хаотичном сне я сочетался узами брака с древней миссис Ван ден Берг посреди какого-то луга, в то время как моих родителей и двух сестер забивали халяльными ножами в загоне неподалеку, под аплодисменты детей и возбужденные возгласы молодых женщин. Толпу я видел лишь смутно, но она кружила вокруг загона в странном медленном танце.
После всего, что произошло потом, этому странному сну, возможно, нашлось бы свое объяснение.
Миссис Ван ден Берг была длинным, тощим существом, имевшим мало сходства с живым человеком. И перемещалась на кресле-каталке, таком же древнем, как и его хозяйка. В первый раз, когда мы представились друг другу, она напомнила мне мумию представительницы египетской династии, разбинтованную и выставленную в ящике Британского музея, где я однажды побывал во время школьной экскурсии по Лондону. Кожа миссис Ван ден Берг была настолько усеяна пигментными пятнами, что казалась коричневой при любом освещении. Пол у нее тоже был неразличимым. Под полупрозрачной кожей лысой головы виднелись черные капилляры, а ее руки напоминали мне птенцов, выпавших из гнезда, которых я иногда находил, будучи ребенком.
Всегда одетая в домашний костюм, выцветший как постельное покрывало в ночлежке, и покрытый спереди пятнами, богатая наследница была привязана к креслу за руки и за ноги холщовыми ремнями, словно представляла опасность для общества. И все же глаза у нее были ясными и голубыми, как арктические воды, плещущиеся вокруг айсберга.
Несмотря на шокирующий внешний вид, миссис Ван ден Берг была когда-то потрясающей красавицей, обладающей блестящим умом. Она разорила трех мужей, и ее собственность оценивалась более чем в сто миллионов евро. А еще она была печально известной в высшем обществе нимфоманкой.
– Ужасная блудница! – заговорщицки шепнула мне Хельма во время нашей самой первой встречи. Затем, миссис Ван ден Берг, вступила в фазу клептомании, после чего, наконец, стала пироманкой. Короче говоря, она страдала маниями. – Она приводила сюда темного мужчину.
Комментарий Хельмы насчет "темного мужчины" смутил меня. Что за расизм? И когда я попытался расспросить ее об этом, Хельма лишь загадочно улыбнулась. Хельма никогда не отвечала на прямые вопросы. Ей нравилось говорить самой. А мне приходилось только слушать. Такую роль она мне отвела. Но она видела, что я интересуюсь ее подопечной, и иногда вдавалась в подробности, когда я хмурился на какое-то провокационное замечание или наводящую деталь.
Со слов Хельмы, травма, полученная в 30-ые годы превратила миссис Ван ден Берг в крайне неуравновешенную молодую женщину. Расстройство было вызвало рождением у нее "ребенка-ненормаши". И она так и не оправилась от того несчастья. Я никогда раньше не слышал такого инфантильного выражения, как "ребенок-ненормаша". Но Хельма называла так детей, родившихся с психическими и физическими недостатками, чье появление в высшем обществе, или в качестве наследников, было неприемлемо. Таких детей отправляли за границу, и они содержались в частном санатории в Карловых Варах, вместе с несколькими габсбургскими принцами, о которых, со слов Хельмы, мир по-прежнему ничего не знает.
Мне показалось странным, что такое откровение доверяется охраннику в форме, и как следствие, я не поверил в эту историю.
По-видимому, следующие семьдесят лет две одинаково блистательных и талантливых сестры миссис Ван ден Берг содержали свою дефективную и заблудшую старшую сестру в Дулле-Грит-Хёйс. Потратив кучу денег на то, чтобы замять скандал и на лечение в лучших швейцарских клиниках, они, наконец, остановились на дорогостоящей методике ухода в сочетании с успокаивающими лекарствами. И Хельма, видимо, преуспела в этой методике, хотя никак этого не проявляла.
Также я быстро усвоил, что в этой точке мира, нет ничего необычного, если сиделка, живущая по месту работы, становится незаменимой для пожилого жильца, нанявшего ее. Или для того, кого ее наняли опекать доверенные лица. Это был гротеск в традициях готики, и вызывал воспоминания о временах, когда истеричных жен держали запертыми на чердаках. Если б люди видели, как живет миссис Ван ден Берг под оккупацией Хельмы, то скорее попытали бы счастья в румынском доме престарелых.
Хельма была болтливой, параноидальный и крайне расчетливой женщиной за пятьдесят, и все же на полвека моложе своей пациентки. На третий месяц моей работы частота посещений Хельмой моего стола возросла как минимум до одного раза за ночь моего дежурства. Иногда, к моему огорчению, она могла болтать целый час.
Также Хельма взяла за привычку выкатывать миссис Ван ден Берг в приемную и оставлять ее возле моего стола, пока "выскакивала" за лакомствами в лавку, работающую допоздна на Кляйне Хондстраат. Почему она не делала этого в течение дня, оставалось загадкой, но я начал подозревать, что Хельма хочет, чтобы мы с наследницей познакомились. Хотя как бы мы наладили контакт, было загадкой вдвойне.
Миссис Ван ден Берг давно уже утратила разум. В те короткие, но неловкие моменты, когда она сидела у моего стола, на нее находило странное просветление, и с кресла доносился безупречный голос, желающий мне "доброго утра". Хотя большую часть времени от нее лились лишь потоки тарабарщины про какую-то "Флорину". После чего Хельма возвращалась в здание и увозила подопечную от моего стола.
Я работал в Дулле-Грит-Хёйс уже пятнадцатую неделю, когда мне вынужденно пришлось пересечь порог их квартиры и погрузиться в пучину безумия.
Однажды в полночь воскресенья, во время второго обхода, не успел я преодолеть последние ступени, ведущие на площадку восьмого этажа, как входная дверь 18-ой квартиры открылась. И я увидел поджидавшую меня Хельму. На ней были туфли "Джимми Чу", шелковые ажурные колготки и розовый костюм "Шанель", а косметики больше, чем носят трансвеститы.
– О, Джек. Я хотела бы попросить вас об одном большом одолжении. Не могли бы вы один часик присмотреть за миссис Ван ден Берг? Мне нужно кое-куда выскочить. Кое-что произошло, и это очень важно. Чрезвычайная ситуация.
Чрезвычайная ситуация, как бы ни так, – подумал я.
– Боюсь, я не могу. Мне нужно следить за камерами внизу.
Глаза у Хельмы вспыхнули, взгляд стал жестким, заставив меня замереть на месте. Это была не та женщина, которой можно было перечить.
– Ничего страшного, если вы сделаете это чуть позже. Она уже покормлена и приняла лекарство, поэтому у вас не будет с ней никаких проблем. Это вам.
Лакированные коготки Хельмы сунули мне в одну руку две банкноты по двадцать евро, и надавили на пальцы, чтобы я сжал деньги в кулаке.
Я снова попытался отказаться и вернуть деньги, но Хельма поспешно "зашыкала" на меня, словно на домашнего кота, и улизнула в квартиру. Входя, я задумался, не совершаю ли я некую незаконную сделку и не становлюсь ли замешан в пленении и вымогательстве у местного аналога Говарда Хьюза.
Но не успел я сориентироваться в тускло освещенной прихожей пентхауса, как из гостиной заверещал знакомый голос: