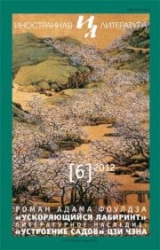
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Осень
– Послушайте, послушайте, мы ведь можем малость подзаработать, а? Тряхнем стариной. Я все еще помню, чего хочет публика.
Он глядел на него в упор, вглядывался изо всех сил, но больше не видел в глазах Джона самого Джона, разве что мельком, словно бы тот понимал, что его заметили, и тут же прятался. Джон говорил очень быстро. Посреди его приплюснутого лица двигался сухой и мускулистый рот, из которого шел дурной запах.
Черт из бутылки, доктор по урине
Смотритель в королевском карантине
Велик и важен, словно дож в Турине
Все больше в Лондоне его увидишь ныне
Зовется Аллен, лечит дам, что в черном сплине
Цветут от чирьев, точно Флора на картине
Сквозь лес путь новый верен, говорят
Увидишь красный ад, а там и белый ад[19]19
Перевод А.Круглова.
[Закрыть].
Ему захотелось выбраться из этой клетки. Это страшный сон, просто страшный сон: его старый друг безумен, он бормочет и хохочет, зачитывая стихи из засаленного блокнота. Ведет себя, как одержимый. А еще это зловоние. И шумы, доносящиеся из других палат.
Притон для содомитов, сущий ад,
Плен для мужчин, для женщин поруганье —
Я видел эту мерзость и разврат,
И непомерность трат на содержанье
Таких домов, где всякий доктор рад
Нажиться. Я же приобрел познанье:
Коль содомит свой уд крутить начнет,
Как он ни кайся, смерть предъявит счет[20]20
Перевод М. Липкина.
[Закрыть].
Джон Тейлор возвращался из Лепардз-Хилл-Лодж под осыпающимися деревьями в сопровождении Элизы Аллен. Под ногами хлюпали лужицы. Вокруг падали листья.
– Сивиллины пророчества, – произнес он. Его расстроило то, что он увидел, расстроили тающие жизни друзей. Эта хрестоматийная мысль наложила отпечаток на его настроение и в чем-то даже смягчила боль.
– Простите?
– Сивилла, предсказательница, – пояснил он. – Она записывала свои пророчества на листьях и пускала по ветру, – пусть читает, кто может. Я сейчас занимаюсь историей древнего мира, по большей части Египтом, пирамидами и всем таким прочим.
– Вот оно что. Непременно расскажите моему мужу. Уверена, ему будет интересно. Скажите, а как вам показался мистер Клэр?
– Так себе, – ответил он. – Он был… возбужден. Все спрашивал про свою детскую любовь, Марию. Я не нашел в себе сил рассказать ему, что она умерла. А еще – что было бы забавно, если бы не указывало на столь тяжелую болезнь, – порой ему вроде как кажется, что он лорд Нельсон.
– Да, а иногда Байрон, как мне рассказывали.
– Ну, это хотя бы можно понять. Он переписывает одну из поэм Байрона. А еще он очень резко, даже оскорбительно, отзывался о заведении и о вашем муже, которого он, по его словам, сейчас почти не видит. Он показал мне отрывок из поэмы «Дон Жуан», где выразил те же чувства. Он уже долго здесь? Я хочу сказать, в этом месте, а не в Фэйрмид-Хауз?
– Трудно сказать. Больше месяца. Многие наши больные в случае необходимости проводят там некоторое время, а потом возвращаются. Что до моего мужа, Джон Клэр и в самом деле почти его не видит, Мэтью сейчас очень занят, налаживает деревянное производство.
– Полагаю, вы не знали его на пике славы. А видели лишь только после того, как он лишился рассудка.
– Я привыкла видеть людей, лишившихся рассудка.
– Однако жаль, что вы не видели его таким, каким знал его я.
– Его умственные способности до сих пор не вызывают никаких сомнений.
– По поводу умственных способностей я как раз не уверен. То есть я убежден, что он весьма одарен и всегда очень хорошо разбирался в людях. Но тогда, в расцвете сил, его вдохновение – это было что-то! Ему не хватало стиля. Не хватало формальной выучки. Он использовал множество никому не известных слов из своего диалекта. Но живая земля, его родина… да будет мне позволено выразиться не вполне привычным образом… она пела через него. Сама Англия пела через него, ее вечная, живая душа. Многие тысячи строчек, и каждая свежа, образна, музыкальна, подлинна. Это был гений, истинно говорю вам. Куда же могла деться вся эта мощь, вопрошает он теперь, понимая, что ответа нет. Вы уж извините, мне вдруг захотелось о нем порассуждать. А ведь вы начали рассказывать, что ваш муж налаживает сейчас какое-то производство.
– Да, механический станок для резьбы по дереву.
– Ну конечно же! Пироглиф. Дивное греческое название, что пришлось бы по вкусу сивилле: огненная метка. Он мне об этом писал. Увы, я сейчас не располагаю достаточными средствами, чтобы войти в долю. И что же, он всецело поглощен этим проектом?
– Да. И, как обычно, не знает никакого удержу. Не говоря уже о том, что совершенно забросил лечебницу.
– А вы как поживаете, миссис Аллен? Давненько мы с вами не виделись.
Элизе вспомнилось особое сдержанное обаяние Джона Тейлора, столь приличествовавшее человеку образованному, неженатому и не чуждому литературных занятий. При взгляде на него в голову приходили тщательно убранные комнаты с элегантной мебелью. Ей представилось, как в их безмолвной чистоте она только и слышала бы, что скрип пера да нетерпеливый тихий звук разрезаемых страниц.
– С тех пор как вы привезли Джона.
– Нет-нет, дорогая, вы ошибаетесь. Тогда я видел только вашего мужа. И сына. Верно ведь? А с вами мы встречались, когда я издавал книгу вашего мужа. Немало лет прошло, а?
Элиза улыбнулась. Джон Тейлор окинул взглядом ее лицо, чуть постаревшее, но красивое в ослепительно ярком осеннем свете.
– Так как же у вас дела? – вновь поинтересовался он.
– Неплохо. Я бы даже сказала, что мы процветаем. Все здоровы. Дора только что вышла замуж и живет неподалеку от нас. Ну, и про резьбу по дереву не забывайте.
– Надеюсь, ваш муж за всеми этими делами не забыл, что у него есть жена?
– Ну что вы. Я бы сказала, нам обоим достает дел. Послушайте, вы должны непременно его повидать.
– Да, действительно. Я должен покрыть расходы на содержание Джона.
– А еще у нас тут гости, с которыми вы, возможно, будете не прочь познакомиться. А может, вам даже доводилось встречаться. Вы знаете поэта Альфреда Теннисона?
– Простите, я совсем перестал интересоваться поэзией. Но его имя мне знакомо. Он тоже здесь? Боюсь, критики его не пожалели. Не слишком-то они подобрели с тех пор, как нападали на моего бедного Китса. Надеюсь, они его не сломили. Он тоже лечится у вашего мужа?
– Нет-нет. Лечится его брат, меланхолик. Знаете, к ним приехали родные, целая толпа, и сейчас они как раз у нас. Конечно, Альфред тоже подвержен приступам дурного настроения. Но он не болен.
Они свернули с тропы и направились к Фэйрмид-Хауз. Гости как раз пили чай. Мэтью Аллен стоял с чашкой в руке, разглагольствуя перед сидевшей вокруг него молодежью, состоявшей преимущественно из дам, две из которых разглядывали кусочки древесины. Заметив издателя, он внезапно умолк, но, поприветствовав вновь вошедшего взглядом, окончил фразу.
– Мистер Тейлор, рад вас видеть! Садитесь же. Фултон!
Фултон послушно поднялся и предложил гостю свой стул.
– О нет, благодарю. Простите, я не могу остаться. А вы, стало быть, Фултон. Вы подросли.
– Спасибо, – сказал Фултон и опустил глаза, застеснявшись столь глупого ответа.
– Позвольте мне вас познакомить. Джон Тейлор, это – Теннисоны.
– Целая куча Теннисонов, – пробормотал один из них.
– Возможно, вы слыхали про Альфреда Теннисона. Альфред, это Джон Тейлор, который некогда издавал Китса, Хэзлитта, Лэма, беднягу мистера Клэра и, должен признать, один из моих собственных трудов, посвященный классификации видов безумия.
– Я о вас наслышан, – заверил Тейлор Теннисона, который поднялся, чтобы пожать ему руку. – Вас называли кокни, насколько я помню, и сравнивали с Китсом [21]21
Про Джона Китса (1795–1821), лондонца и выходца «из низов» (отец его содержал конюшню), критики писали, что он не лишен таланта, но загублен «Школой кокни» («Школа кокни в поэзии» – название разгромной статьи Дж. Кроукера в «Квартальном обозрении» 1817 г.).
[Закрыть].
– Какой же я кокни, я ведь родом из Линкольншира. Но меня обвиняли в той же примерещившейся им чувственности и лености. Слишком много чести для меня, знаете ли, пусть они сами того и не желали. И, конечно же, особая честь для меня – пожать руку другу Китса.
– Знакомство с ним было само по себе честью.
Альфред Теннисон был высок и смугл, длинноног и большерук, а его бронзовое лицо украшал широкий рот. Тейлор, сравнивая его со своим покойным другом, видел в нем иное томление, своего рода усталую праздность, знаменующую его присутствие в этом мире. Все это было так не похоже на Китса, но виделось и кое-что общее – возможно, вот это исполненное смысла молчание. Вместе с тем Теннисону недоставало стремительности Китса, его разящего гнева.
– Вы издаетесь у Мюррея, верно? Очень достойный издательский дом. Надеюсь, опубликуете что-нибудь еще. Не позволяйте журналам вас расхолаживать. Не снисходите до их варварских развлечений, до этой пустой болтовни по кофейням.
Теннисону доводилось слышать голос старшего поколения из этаких «кофеен». И тем более важна была для него поддержка старшего товарища, знававшего истинных поэтов.
– Благодарю вас. Не думаю, что им под силу меня остановить. Больше я попросту ни на что не гожусь. А вы сейчас издаете стихи?
– Увы, нет. Они совсем перестали окупаться. Как вы знаете, нынешнему читателю подавай что-нибудь полезное или, на худой конец, прозу. Но поэзия выживет. Цивилизация без нее невозможна. – Внимание Тейлора невольно привлек модный серебряный чайник со сверкающими боками. Слова Элизы Аллен обрели плоть: они и правда процветают. – Она не будет окупаться, но выживет. По крайней мере, хотелось бы верить. Да, кстати, что касается денежных вопросов. Доктор Аллен, вы не могли бы уделить мне немного времени?
– Разумеется.
– Рад был с вами познакомиться. – Джон Тейлор поклонился собравшимся.
Теннисон проводил его глазами. Маленький человечек, не то чтобы слишком умный, с усталым добрым лицом. Но – друг бессмертных, один из немногих выживших среди тех, кто принес свою жизнь на алтарь поэзии.
После того как надежды ее развеялись как дым, а на глаза то и дело наворачивались слезы, Ханна вознамерилась невзлюбить семейство Теннисонов – если бы отец так не настаивал, она бы вообще к ним не спустилась, – но ничего у нее не вышло. Леди были умны и неординарны, в высшей степени решительны и хороши собой, особенно красавица старшая сестра Матильда, которая могла бы дать фору самой Аннабелле. Восхищение Ханны лишь усилилось, когда она увидела, что Матильда ходит медленно, чуть припадая на одну ногу. А когда они заводили речь о своем доме, он представал тихой пристанью, о какой она мечтала для себя: множество книг и животных, игры собственного изобретения, никаких тебе сумасшедших и никакого производства прямо рядом с домом. Абигайль тоже понравилось то, что донеслось до ее ушей: до чего же здорово, когда у тебя есть ручная обезьянка или огромная собака, которая возит маму в коляске. Она тотчас же затребовала у отца обезьянку, но тот отказал со смехом, словно бы счел саму эту идею нелепицей, не стоящей того, чтобы о ней задуматься. А ведь их тут вполне достаточно, чтобы позаботиться об обезьянке. Вот было б весело! Ханна старалась не смотреть на Теннисона. Поначалу она обвиняла его в равнодушии, потом – в том, что он не устоял перед чарами Аннабеллы, которая не оставляла равнодушными даже самых тупоумных. Но изгнать своего чувства полностью она, конечно же, не могла. Презрение болезненно переплелось в ней со страстным томлением. Она разглядывала скатерть. И прихлебывала чай.
Мэтью Аллен вернулся к гостям, надежно заперев деньги Тейлора. Ему нравилось держать в руках деньги, нравилось иметь их в достатке, но еще больше в самой глубине души он любил рисковать. В том, чтобы поставить всё на кон, была своя затаенная сила, заряжавшая энергией все тело, а если случалось выиграть, победа переживалась куда острее, чем можно было себе вообразить. Из-за подобных помыслов он и оказался по молодости лет за решеткой, но теперь – теперь у него были все эти здания, больные, безупречная репутация, и уже начинали поступать заказы на машинную резьбу. Он поднял новый чайник высоко над чашкой, и чай полился длинной, звонкой дугой. К вечеру в его проект вложились уже все Теннисоны, за исключением Септимуса, чьи нервы решено было поберечь, оставив его в стороне от этой финансовой авантюры.
Джон почувствовал, как на плечо ему легла чья-то теплая рука. Это прикосновение, эта тяжесть были ему знакомы. «Пэтти!» – окликнул он, оборачиваясь.
– Мне подумалось, тебе тут одиноко, – сказала она. – Темно-то у тебя как.
– Да, у меня темно. Мне одиноко. Тут только и есть, что это крохотное окошко. Звезды, облака, и ни тебе птицы, ни живой твари. Как в аду. Мне одиноко в аду, Пэтти. Ночью, в темноте, двери открываются. И начинается.
– Тише, тише. Не хочешь узнать, как там твои дети?
Пэтти присела рядом с ним на жесткую, дурно пахнущую кушетку и склонила его голову к себе на плечо – до чего же утешительно действовала на него ее сила. Тяжелыми холодными пальцами Пэтти придерживала его лоб. Он обвил рукой ее мягкий живот и ухватился за платье с другой стороны.
– Дети в порядке, – произнес он. – Я знаю. Они свободны. Джон плотничает на железной дороге. Чарльз пошел в клерки к тому адвокату. Анна Мария скоро выходит замуж. Я хочу домой.
– Чего ж ты хочешь домой? Не сказала бы, что мы там свободны.
– Вам не затыкают рот. И не держат взаперти.
Она покачала головой.
– Земля огорожена. Никуда-то не пойдешь. Ни тебе шага влево, ни шага вправо. Общая земля нынче в собственности. Бедняков гонят, и цыган.
– Богач – тиран, а мы все его узники. Беднота никому не нужна. Ну, что мы можем? Бунтовать, жечь стога. И ничего не будет. Выселят. Весь континент – тюрьма.
– Здесь ты в безопасности.
– А вот и нет. По ночам…
– Тише. К тебе кто-то пришел.
К постели приблизилась Мария.
– Ты! Но как ты вошла? Сквозь стены?
– Какие стены?
Джон рассмеялся.
– Вот невинная душа! Даже и не заметила.
Пэтти не отняла руки, а Мария, прелестное дитя, ростом не выше его сидящего, подошла к нему и запечатлела поцелуй, золотой пушинкой опустившийся прямо ему в душу.
– Сядь рядом со мной, – сказал он. – Сядь рядом со мной. Ну, вот мы и вместе.
Джон сидел меж двух женщин, взяв каждую за руку и соединив их руки у себя на коленях.
– Мы вместе, – повторил он.
Тепло их душ перетекало из одной в другую, они дарили друг другу зажигательные улыбки, то и дело переглядывались, и вдруг на правую руку Джона упала теплая капля. Капля крови, что тотчас же растеклась по тончайшим складочкам его кожи. Подняв взор, он увидел маленькую ранку под левым глазом Марии.
– Ох, – произнес он.
– Зачем ты так со мной? – спросила она. – Я ведь всегда была с тобой обходительна.
– Но я же был ребенком, – возразил он. – И я не нарочно. Ты казалась такой прекрасной, когда гуляла в саду. Мне захотелось к тебе прикоснуться. Но ты была так далеко. По-тому-то я и бросил в тебя орех.
– Взгляни. Все прошло. – Ранка исчезла прямо на его глазах, и кожа вновь стала гладкой, словно водная поверхность.
– Красота!
Мария ответила ему долгой улыбкой. И не отвела взгляда. Она излучала любовь.
– А ты скучаешь по своей сестре? – спросила она.
Джон почувствовал, как его лицо морщится.
– Да, – сказал он. – Но меня никто никогда не спрашивал. – Он вновь ощутил себя незащищенным с одного бока, кожу до боли холодил зимний ветер, щипал мороз.
– О ней просто не знали. Она лишь мелькнула в этом мире. Да и ты ее не знал.
– Она была младенцем, моим близнецом. Куда ее дели?
Ответ нашелся у Пэтти:
– В гроб одного богача. Она умерла до крещения. И ей нужно было хотя бы тайком проскользнуть внутрь церковной ограды.
– Стало быть, она спасена. Но ведь она могла бы быть здесь, с нами. И мы с ней любили бы друг друга.
– Вот ты так говоришь, – откликнулась Пэтти, – а сам в детстве любил побыть один, уйти от всех да помечтать.
– Это потому что ее не было!
– Вот она, – сказала Мария, вложив ему в руки сверток со спящим младенцем. Закрытые глаза с лиловатыми веками, сжатые пальчики, курносый сопящий носик, мягкий завиток волос. Теплая головка малышки легла в его левую ладонь.
– Это она, – проговорил он. – Моя сестра.
Он обессиленно, все еще не веря, взглянул на Марию и Пэтти. А когда вновь опустил глаза, увидел у себя в руках гнездо. И не смог понять, чье, хотя научился их различать, собирая птичьи яйца. Гнездо было легкое, упругое, из тесно переплетенных прутьев. Яйца он тоже не узнал. Их было четыре.
– Это мы, – сказала Пэтти. – Так-то лучше.
Яйца были белые, словно английский фарфор. Они светились, едва касаясь друг друга, такие нежные, такие настоящие.
– Это мы, – повторил Джон. Он поднял гнездо, и яйца одно за другим закрутились, задвигались вразнобой, словно в них были птенцы. – Это мы.
– Вот в чем загвоздка.
– Рама?
Он кивнул в свойственной ему невыносимо медлительной манере и замолк, так что Мэтью Аллену пришлось уточнить:
– И что же с ней не так?
– Она же из дерева, пусть даже в железной оправе. А дерево – оно мягкое, слишком мягкое. И плохо держит. А когда вот тут болтается…
Мэтью вновь взглянул на то, что получилось. Резьба была небрежна, вся в неровных царапинах и зазубренных надпилах. Чистый, глубокий рисунок погиб. Мэтью взглянул на него в ярости и ощутил, как его наполняет сила, готовая одолеть любые преграды и выполнить резьбу в совершенстве, как клокочет и рвется наружу его воля.
– И все они такие. – Он моргнул, вновь столь же медлительно.
– Ну и?
– В ней-то и загвоздка. Все они будут выходить одинаково. Я, конечно, мог бы доделать их вручную, привести в порядок.
– Нет, нет и еще раз нет. Так мы работать не будем. Весь смысл, вся соль моего проекта – механическая резьба!
Самое страшное в затеянной им рискованной игре было то, что хотя этот риск и подпитывал Мэтью Аллена энергией, нес его в будущее, как на крыльях, в терпком опьянении, доставлявшем истинное наслаждение, полнил каждое мгновение его жизни ощущением собственной силы и неограниченных возможностей, но, если его постигнет неудача, да, стоит ему потерпеть неудачу – весь этот стремительный поток энергии рухнет, словно телега в придорожную канаву, и не будет ничего, лишь унижение, долги, тюрьма, и все, чему он бросил вызов, вновь его настигнет. Вот он какой, этот риск. Мэтью внезапно швырнул доску в дальний угол комнаты с такой силой, что работник отпрянул и, словно пугливая старуха, прижал руку к затрепетавшему сердцу.
– Черт побери! – Он успокоился, несколько раз огладив обеими ладонями бороду. – В таком случае эту часть механизма следует изготовить из стали. Вот и все дела. Заказы придется задержать. Но другого выхода нет. Ну и ладно. Сейчас же отошлю ее мастеру.
– А мне как быть? Я могу доделать несколько штук вручную.
– Нет, нет. Слышали, что я сказал? Можете отправляться домой к жене.
Работник лукаво улыбнулся:
– У меня нет жены.
– Тогда переоденьтесь и пойдите поищите.
– О, далеко ходить не надо. Скажите, а мне заплатят?
– Да, – прошипел Аллен. – А теперь ступайте. Полагаю, у нас тут все застопорилось по меньшей мере недели на две. Я дам вам знать, когда вы понадобитесь.
Возвращаясь в Хай-Бич из Вудфорда, Мэтью Аллен сочинял в уме письмо заказчикам, где до того убедительно приносил им свои извинения и до того изысканно уверял в исторической значимости затеянного им предприятия (не забыв упомянуть непреложную истину, что революции в один день не делаются), что к тому времени, когда его нагнал Томас Ронсли верхом на лошади, настроение у него уже снова было чудесное. Мэтью поприветствовал молодого человека как предприниматель предпринимателя. И даже намекнул на свои сегодняшние затруднения, а Ронсли, которому были знакомы подобные неурядицы, с готовностью ему посочувствовал. В ответ на вопрос, куда же он скачет, Ронсли открылся, что на самом деле направляется к дому Алленов, к которым решил заглянуть по-дружески, без предупреждения. Ему захотелось угостить семейство доктора яблоками из своего сада. Смеет ли он надеяться, что застанет дома супругу доктора и его дочь?
Выглянув в окно, Ханна увидела Чарльза Сеймура, который прогуливался за оградой парка, размахивая тростью. Скука, бессилие без признаков безумия, непреходящая тихая ярость… Ханне показалось, что он вполне годится ей в товарищи, ведь его жизнь столь же пуста и убога, как и ее собственная. Во всяком случае, он со всей очевидностью нуждался в обществе. Она спустилась вниз и пошла ему навстречу. Какая теперь разница: она может встречаться, с кем ей заблагорассудится, а кроме того, ей ужасно скучно.
Когда она к нему приблизилась, он поднял руку, чтобы снять шляпу, и обнаружил, что шляпы-то на нем и нет. Тогда он улыбнулся и жестом изобразил свое намерение. Ханна на миг задержала взгляд на его туфлях и улыбнулась в ответ.
– Добрый день! – сказал он.
– Добрый день.
Она вновь взглянула на Чарльза Сеймура. Его гладкое безбородое лицо, увенчанное копной светлых вьющихся волос, раскраснелось на ветру.
– А сегодня нежарко, – произнес он.
– И в самом деле. Ветер с севера. Отец говорит, у больных в такую погоду бывает обострение.
– Но у вас ведь теплая шаль?
– Теплая.
До чего же приятно, когда кто-то беспокоится, чтобы тебе было тепло. Этот участливый и вместе с тем покровительственный тон к лицу истинному джентльмену и аристократу. Впрочем, он ведь и в самом деле аристократ. Став его женой, она сразу бы оказалась в высших слоях общества и могла быть уверена в своем будущем. Нелепая мысль, раньше ей такое и в голову не могло прийти. А еще в нем чувствуется пылкая натура. Ханна знала, что он здоров, что его поместили сюда против его воли, по настоянию семьи, чтобы он избавился от нежелательной влюбленности. А стало быть, им обоим пришлось отказаться от своих возлюбленных.
– Я сегодня не в духе, – сказал он, вновь принимаясь размахивать тростью. В голосе его звучала такая искренность и прямота, что, казалось, он готов раскрыть ей все свои секреты. – Вынужден признать. Перво-наперво, книга, которую я читал, закончилась. Впрочем, раз уж на то пошло, она была не слишком-то интересная.
– У моего отца есть библиотека. Он наверняка разрешит вам ею пользоваться. И у меня тоже довольно книг.
– Что ж, очень мило с вашей стороны. Ваш отец держит библиотеку для всех нас, однако книги там по большей части религиозного свойства. – Он постучал тростью по ботинкам, словно бы готовясь сыграть в крикет. – Если уж совсем честно, я не слишком большой любитель чтения. Для меня это скорее способ отвлечься.
– А давайте погуляем… – Он взглянул на нее, и она тотчас добавила, чтобы не слишком его напугать: – Как-нибудь.
– Надеюсь, вы бы не отправились на прогулку с первым попавшимся умалишенным? Впрочем, знаете ли, я-то как раз не сумасшедший.
– Да, знаю.
– Гм. Вам, наверное, скучно, как и мне?
– Я…
– Добрый день. Какая приятная встреча! – Голос отца. Ее заметили. А с отцом этот молодой человек, Ронсли.
Чарльз обратился к обоим сразу.
– Добрый день. Я Чарльз Сеймур, – сказал он, протягивая руку Ронсли.
– Томас Ронсли.
Мэтью Аллен улыбнулся всем троим: своей собственной дочери, богатому отпрыску феодального рода, слишком недалекому, для того чтобы вложить деньги в пироглиф, и здоровающемуся с ним энергичному промышленнику. Ронсли поклонился Ханне. Она почувствовала, что ему явно хотелось встретиться с ней взглядом. Взгляд был ищущий, вопросительный, исполненный смысла. Она не знала, как к этому отнестись, и ей стало любопытно, заметили ли остальные, но по их виду было не понять. Чарльз Сеймур вернулся к прерванному разговору.
– Ваша дочь только что предложила мне… – Сердце ее заколотилось, – … воспользоваться с вашего любезного соизволения вашей библиотекой. Это очень бы меня развлекло.
Мэтью Аллену его слова показались весьма симптоматичными.
– Ну конечно, развлекло бы, – ответил он. – И заодно обогатило бы ваши познания. Библиотека к вашим услугам.
То самое бремя тьмы.
Вот он, исток. Из него истекает то время. Истекает и он сам, юнец, да что там, дитя, каким он был, когда проснулся в этой, именно в этой тьме.
И он отправился обратно, в то время – деревенский паренек под звездами, грудь распирает от восторга. Приди, весна, о нежность неземная[22]22
Вступление к поэме Джеймса Томсона (1700–1748) «Времена года» (1730).
[Закрыть]. Он споткнулся, попав башмаком в колею. Вроде бы болела голова, но эта боль не мучила. От тягостного ожидания кости черепа, различимые теперь под тонкой кожей, обрели легкость. Хотелось кричать и петь, но следовало таиться.
Во тьме конюшни позвякивали недоуздки и шевелились лошади. Джон тихо с ними заговорил. Обходя стойла, он нежно вел рукой по лошадиным бокам, а потом мягко повернул своих подопечных к себе мордами, чтобы накинуть и закрепить поводья. В это время года лошадей следует выводить пораньше, пусть вдоволь пощиплют травы, пока не начали приставать и лезть в глаза мухи.
Он вывел их из конюшни. Лошади тихо шли за ним, то и дело оступаясь. Они натянули было поводья, но потом послушно пошли за ним на новое поле, где еще один паренек пас двух лошадей, зарабатывая свой пенни, по полупенсовику за каждую. Отстегнув поводья, Джон окликнул второго паренька, невидимого во тьме.
– Я тут! – отозвался тот.
Подбежав, Джон протянул Тому поводья.
– И еще кое-что, а?
Джон заранее увязал обещанное в носовой платок, отдельно от всего остального.
– Пенни за то, что за ними последишь, и еще пенни за то, что никому не расскажешь.
– А ты куда?
– Вернусь, прежде чем их надо будет вести обратно.
– Но куда?
– В Стамфорд. Неважно.
– В лавку, что ли? Ленты для девушки покупать, что ли?
Услышав, что лошади уже хрустят травой, Джон поспешил в город. Приди, весна, о нежность неземная. Когда родится музыка, из тучи, что дождь нам дарит, орошая куст тенистых роз, спустись в долину к нам. Вот куда он шел. Непонятно почему, но стоило ему прочесть эти слова в изорванной книжице «Времена года» Томсона, куда ему разрешил заглянуть проезжий ткач, как сердце в груди запрыгало от радости. Спустись в долину к нам. Ткач еще посмеялся над тем, как у него перехватило дыхание, как он разволновался. Ибо ткач был из методистов и ценил гимны Уэсли[23]23
Джон Уэсли (1703–1791) – основатель методистской церкви.
[Закрыть] куда как выше пасторальных ямбов Томсона. В его экземпляре была только половина «Осени», а «Зимы» и вовсе не было. О, как Джон мечтал обзавестись собственным экземпляром! Он без устали просил денег у отца, откладывал каждый пенни и, наконец, накопил достаточно.
В книжной лавке никого не было, ставни были закрыты. Джон сидел, пристально глядя на нее, на пустынной центральной площади Стамфорда и слушал, как где-то лает собака. Слонялся без дела, словно вор, засунув руки в карманы, а слова приплясывали на его обнаженных нервах. Приди, Весна. Восторженный и сбитый с толку, совсем еще ребенок, он был одержим несколькими словами и сам не понимал почему. Так он сидел и ждал, и чуть было не сбежал, когда хозяин, наконец, появился и отпер лавку.
Он понаблюдал, как хозяин зажигает лампы, как свет тихо расцветает в окнах, и лишь потом постучал в дверь.
– Да-да? Я еще не открылся.
– Простите. Ох, простите.
– В чем дело, мальчик?
– Мне, видите ли, надо обратно. Домой. Не могли бы вы продать мне «Времена года» Томсона? Деньги я принес, здесь без сдачи.
– Ага. Вот оно что. – Продавец приглядывался к нему, будто бы изыскивая повод для отказа, но не нашел. – Ну, что же, что же. Стихи, верно? Что ж, давай деньги.
– Да, конечно, – Джон выгреб из кармана монеты и высыпал их в руку книгопродавца.
Хозяин лавки, который несколько лет спустя издал стихи Джона, неплохо на них заработав, стоял и медленно пересчитывал монеты, в то время как Джон пританцовывал, переминаясь с ноги на ногу, словно бы ему срочно понадобилось справить малую нужду. «Все верно», – сказал книгопродавец. Открыв кассу, он разложил монеты по отделениям и только потом снял с полки книгу и протянул Джону.
– Спасибо, – сказал Джон. – Всего вам доброго. Спасибо, – и поспешил прочь под звон дверного колокольчика.
Пока он шел обратно в Хелпстон с книгой в руках, не смея ее открыть у всех на виду, на небе начал разгораться восход – размашистый, ослепительный, резкий.
А он лежал и смотрел в свое окошко на тот же крепнущий свет.
Жизнь – лабиринт без выхода, всюду ходил, везде побывал. Он услышал, как отпирают дверь, и увидел, как в нее просовывают деревянную тарелку с завтраком.
Она лежала у себя в комнате на полу и пыталась выдюжить. Ей было слышно их всех, слышно всех этих чертей на новом месте, как они кричат, как дебоширят в своих хозяевах, но поделать она ничего не могла, ведь ее заперли в этой гадкой комнате. Впрочем, так или иначе, она уже выбилась из сил, иссякла, от нее осталась одна шелуха. Из ее пальцев больше не исходит свет.
Она лежала в разверстой могиле далеко внизу, и здешние резкие голоса клубились над ней, словно клочья тумана. Лежала тихо, как только могла. А сердце продолжало отбивать ненавистный медленный ритм у нее в груди. Теплые слезы, не приносившие облегчения, заливались в уши, иссякали и вновь начинали литься. Едва заметно она шевелила руками, смыкала пальцы и слышала, как хрустят суставы. А вот короткая судорога рук, похожая на последнюю судорогу убитого. Ей казалось, что это ее – убили. Казалось, все кончено. Смерть покрыла ее толстым слоем, словно глина. И она лежала на дне этого колодца, испуская зловоние смерти, на мертвом дереве, среди мертвых стен, но не умирала. Все было кончено, но не кончалось. Господь не выказывал ей Своего Присутствия. Трудно даже вообразить, что все могло быть по-другому. Будь у нее силы, эта мысль заставила бы ее рассмеяться. Ничего больше не было. Лишь пустой свет пересекал комнату и к вечеру вновь умирал, а она вновь его переживала, лежа в темноте. Безмолвный Страж глядел в потолок и ничего не говорил. Ей хотелось покончить с собой, лишь бы хватило сил, лишь бы была дарована свобода взять свой сгнивший разум и убить, сплавить свою тьму с мировой, дождаться музыки, стенаний, струящихся кровавых цветов Судного дня. Слезы с глухим стуком падали на пол и шуршали в ушах.
Полли вела себя просто ужасно. Цветы есть нельзя, будет болеть печенка. А Полли обгрызла все цветы, вышитые на подушках, так что пришлось ее отругать и запереть в комнате, пока не научится вести себя как истинная леди, и на этом игра закончилась. Полли пристыженно сидела на полке, вытянув негнущиеся ноги, и глядела прямо перед собой. Абигайль ушла, оставив ее думать о своем поведении.
Она бежала, грохоча ботинками по половицам. Мать приветствовала ее возгласом:
– Что это за малютка пони к нам прискакала?
– Это я! – ответила Абигайль и с разбегу повисла на материных ногах.
Однако ей тут же было сказано:
– Что ж, постарайся не шуметь. И давай-ка поднимайся, детка.
Абигайль почувствовала, как мать опустила ей руку на голову, крепко обхватив макушку пальцами, – и вот уже Элиза с легкостью поставила ее обратно на ноги. Лишенная ощущения единства с матерью девочка вновь почувствовала себя одиноко и принялась сверлить Элизу взглядом.
– Детка, я занята. – Вот-вот должен был появиться новый больной, принять которого предстояло ей, поскольку Мэтью с утра до ночи возился со своим станком. И сейчас она не могла думать ни о чем другом. Разыскивая в кабинете мужа книгу для записи вновь поступающих больных, Элиза наткнулась на листок с расчетами. И если она поняла верно, он вложил в свой новый проект все, что у них было. И теперь они висят над пропастью, куда может рухнуть и все их заведение. Хорошо, что ее муж – не пустое место. Однако она заметила, что ей приходится вновь и вновь себе об этом напоминать.








