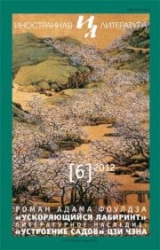
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Абигайль вытянула вверх руку. Элиза ухватила ее, покачала из стороны в сторону и отпустила.
– А теперь пойди поиграй, – сказала она и ушла.
Абигайль глядела вслед матери с болезненной смесью злости и тоски. Она, пыхтя, стояла на месте, пока мать не скрылась из виду, а потом убежала, ужасно громыхая ботинками.
Одним из главных недостатков Альфреда Теннисона, решила для себя Ханна, была неразговорчивость. А ведь это немаловажно. Именно из-за этого ничего и не получилось. Умение поддержать разговор было единственным оружием Ханны. Именно посредством разговора она могла привлечь, обольстить, влюбить в себя, ну, скажем так, потенциальных поклонников, и с Теннисоном она, конечно же, предприняла такую попытку, однако он оказался бестолков, неотзывчив, бессловесен, как скотина. Лишь однажды, когда он проделал ту странную штуку со своим лицом, он вел себя с ней по-дружески. Во всех прочих случаях, сколь бы она ни блистала, на ее долю не выпадало ничего, кроме слабых намеков на симпатию. Ее внимание было подобно лучу света, что пытался пробиться сквозь мутную воду и высвечивал темные глубины, но больше она ничего не видела – ничего такого, что могло бы дать ей надежду. А кроме того, хоть и не очень-то хорошо об этом вспоминать, он явно не из разряда чистюль, и от него пахнет. Конечно же, в стихах поэты восхитительны и великолепны; но в жизни все не так. И где же справедливость? Почему на них обращают больше внимания, чем на кого бы то ни было?
А вот Чарльз Сеймур охотно поддерживает разговор. Он общителен и открыт, он истинный джентльмен, и не исключено, что он одинок, а его разбитое сердце понемногу заживает. Будучи человеком безусловно умным, он вместе с тем обходителен и не чурается других. И уж, во всяком случае, не уходит в себя, сочиняя стишки для журналов, где бы их читали и поругивали.
Ханна сидела у себя в комнате, набрасывая список возможных тем для разговора, как вдруг к ней вбежала Абигайль. В списке значились:
Охота: восторг погони. Нравится ли ему? Королева Елизавета, охотящаяся в лесах.
Молодая королева и лорд Мельбурн. Добродетель и опыт. Знаком ли он с ней?
Лучшее общество – это общество единомышленников, вне зависимости от их происхождения.
Индия.
Снижение интереса к поэзии в обществе.
Когда в комнату ворвалась Абигайль, Ханна захлопнула дневник и распахнула руки навстречу сестре. Та проскользнула между ними и врезалась в Ханнины колени.
– Ух! – выдохнула Абигайль и застонала, заерзала, вцепилась себе в волосы, как обычно вели себя на ее глазах больные.
– Больше так не делай! – строго сказала Ханна, ухватив сестру за запястья. – Скажи-ка мне лучше, сестричка, о чем бы тебе хотелось поговорить?
– О фермах, – ответила Абигайль.
– Что, правда? О фермах?
Абигайль кивнула.
– О фермах. Или о подарках.
– Ну, иди сюда, – сказала Ханна, подхватывая Абигайль под мышки и усаживая к себе на колени.
Стало хуже, стало даже хуже, чем когда никого и ничего не было. Безмолвный Страж глядел в отчаянии, но деваться было некуда.
Похоже, ее муж вернулся, или кто-то вроде него, но еще сильнее и напористее. Он стоял и глазел, как она справляет малую нужду, а потом брался за свое.
Иногда их было двое.
День за днем в окне был свет, а потом тьма. Его привела тьма. Мария молилась. Молилась всякий раз, когда приходила в себя, все ее существо обращалось в крик, которого никто не слышал, в крик, что не приносил облегчения. Они овладевали ею прямо в этой комнате. По ночам. Не каждую ночь, нет, зато всякий раз их приход был непредсказуем.
Ханна наблюдала за ним уже давно и постепенно изучила все его привычки. Для наблюдения она избрала узкую колышущуюся щель в задернутых шторах своей спальни. Привычки отличались завидной регулярностью, и сегодня Ханна задумала попасться ему навстречу. Она поджидала его в заранее выбранном месте. День стоял чудесный. Ее волосы будут дивно смотреться в осеннем солнечном свете, что лился на ветви деревьев и мох, заполняя нежным золотом просветы между стволами. Рядом сверкал ягодами шумливый остролист. Издалека доносился сладковатый запах древесного угля: должно быть, угольщики раскладывали уголь в мешки. Вдоль тропы на длинных и извитых колючих ветках ежевики тут и там виднелись ягоды. Ханна сорвала одну ежевичину и положила в рот. Ягода растворилась, оставив после себя острый, слабый, тревожный привкус.
А вот и он идет навстречу по тропе со шляпой в руке – в точности как она замыслила. Только зачем она здесь? Он наверняка заметил, что она стоит на месте и ничего не делает. Как она могла об этом не подумать? Решение пришло сразу. Она принялась собирать ягоды, то и дело давя их беспокойными, неловкими пальцами. Когда он появился, она глядела прямо на него, и он наверняка ее заметил. Она же теперь отвернулась к ежевичнику, как будто никого не видела. Интересно, что он обо всем этом подумает? К тому же ей совершенно не во что собирать ягоды, кроме как в собственную руку. И Ханна стала складывать помятые, истекающие соком ежевичины в левую ладонь.
– Добрый день! – окликнул он ее, помахав шляпой.
Она обернулась, сделав вид, что не знала о его приближении, но переиграла, и получилось неубедительно.
– Добрый день, мистер Сеймур, – ответила она и присела в неглубоком реверансе.
– Собираете ягоды?
– Да, вышла пройтись, увидела их и подумала…
– Надеюсь, я вам не помешал, – сказал он, взял у нее с ладони ягоду и съел. Она ощутила прикосновение его пальцев. – Но вам же не в чем будет их нести.
– Увы. То есть я хотела сказать, что соберу немножко.
– Вот, возьмите! – Он протянул ей свою шляпу.
– Но на ней же будут пятна.
– Внутри. И, в конце концов, что такое шляпа?
Ханну этот философский вопрос неожиданно поставил в тупик, и она почувствовала, как разум ее заполняет некая абстрактная шляпа.
– Хотя постойте. Вот, смотрите! – сказал он, доставая из кармана носовой платок и расправляя его внутри шляпы.
– О, благодарю вас! – и она высыпала в шляпу горсть ягод.
– Люблю эту дорожку, – сказал он.
– Правда?
– Гм. Это одна из самых заманчивых троп, согласны? Тут, понимаете ли, так тоскливо. А потом, мне нравится сбегать от Альфреда.
При упоминании этого имени она заметно смутилась.
– От кого?
– Это мой слуга, мой камердинер. Надоело, что он весь день маячит у меня за спиной. Осторожней. Посторонитесь-ка.
Он вытянул руки, словно отгоняя гусей, и сдвинул ее к краю тропы. А Ханна и не слышала, что к ним скачет пони. Между тем пони промчался мимо: коренастый, пегий, мохноногий. А прямо у него на спине, безо всякого седла, восседал мальчишка, обутый в расхлябанные башмаки без шнурков. Он поднес руку к шляпе, но Чарльз Сеймур оставил его приветствие без ответа. Через несколько ярдов пони с ездоком свернули с тропы и замелькали между деревьев, то исчезая, то вновь появляясь.
– Цыган, – сказал Чарльз Сеймур. Его мягкие светлые волосы красиво блестели на солнце. – Хорошо, что я тут оказался.
– А вы охотитесь? – спросила Ханна.
– Да, – ответил он. – А почему вы спрашиваете?
– Ну, я просто подумала, что это, должно быть, очень захватывающее занятие, и вам его здесь не хватает.
– Откровенно говоря, это не главное, чего мне здесь не хватает.
Сердце у нее заколотилось. Будучи не в силах ни придумать, что бы еще сказать, ни мысленно представить себе свой список, чтобы сменить тему и уйти от этого разговора, она выпалила:
– Дела сердечные?
Он поднял брови.
– Что, отец вам все рассказывает?
– Нет-нет, что вы. Даже и не думайте. Просто, видите ли, вы не первый молодой человек благородного происхождения, попавший сюда по этой причине. И к тому же вы не сумасшедший.
– Признаться, порой я об этом сожалею, – неопределенно ответил он.
– Не говорите так. – Она постепенно входила в роль бесстрашной собеседницы. И даже решилась дать ему важный совет: – Мне кажется, здесь следует быть решительным и мужественным, избавиться от снисходительности к самому себе. Насколько я могу судить по собственному опыту.
– По собственному опыту? – в его расширившихся глазах сквозило удивление.
Она ничего не ответила, лишь смешалась и покраснела.
– Простите, – произнес он. Склонив голову, он на мгновение задумался, после чего, сделав резкий вдох, вновь взглянул на нее. – Будете еще собирать?
– О, да. – Ханна, подавшись вперед, сорвала еще несколько ягод. – А вы здесь еще долго пробудете? – спросила она, стоя к нему спиной.
– Да, некоторое время меня тут продержат. Ее семья считает меня сумасшедшим, но на самом деле они опасаются, что я с ней сбегу.
– Понятно. И что, вы могли бы решиться на побег?
– О, да вы необыкновенная девушка. Беседовать с джентльменом наедине о таких вещах! Полагаю, вся ваша жизнь здесь необыкновенна. День напролет разговаривать с безумцами!
– Пожалуй, так. Но мне она вовсе не кажется необыкновенной. И к тому же пока мне нечасто доводилось разговаривать с безумцами. Если мои… обстоятельства не изменятся, в скором времени мне предстоит работать с матерью.
– Давайте надеяться, что нужды в этом не будет.
– Давайте.
– Однако вернемся к вашему вопросу… раз уж вы спросили, мне кажется, трудно строить дом с нуля. У нее ничего нет. Меня лишат наследства. Вы, должно быть, думаете, как все это гадко и прозаично. Да наверняка думаете. Но вместе с тем… добрый день!
– Простите?
– Добрый день!
Обернувшись, Ханна увидела еще одного всадника. К ним на холеной гнедой кобыле приближался Томас Ронсли. Он приподнял шляпу.
– Приветствую вас!
– И что, – пробормотала Ханна, – вы двое часто вот так встречаетесь?
– Даже не знаю, что сказать, – ответил Ронсли, изобразив на лице шутливое замешательство.
– А у вас цветы, – заметил Сеймур, решительной рукой опытного наездника похлопывая кобылу по шее.
– Правда ваша, – откликнулся Ронсли, разворачиваясь в седле, чтобы достать их из седельной сумки.
– Розы, – удивилась Ханна. – В это время года?
– Да. Это из оранжереи моего друга. Возьмите! – и он протянул цветы Ханне. Желтые розы с прохладным, свежим ароматом, обернутые в бумагу.
Ханна молча взяла цветы. Томас Ронсли заметил, что она расстроилась, и добавил примирительно:
– Мне пришло в голову, что вы могли бы отнести их своей матушке. Пусть, думаю, украсят какой-нибудь уголок в вашем доме. Что ж, не буду вас задерживать. До свидания!
Вернувшись домой, Ханна обнаружила записку: «Милая Ханна, розы были для вас. Надеюсь, вам будет не слишком неприятно об этом узнать. Взглянув на них, вспомните обо мне. С уважением, Томас Ронсли».
Лорда Байрона разбудили. С шумом отодвинули засов. Дверь распахнулась. Он вытер рот, сел и всласть почесался прямо через теплую, грязную одежду.
В коридоре плясали пятна света – это раскачивались лампы в руках у санитаров, отпиравших двери других комнат.
По правде говоря, Байрон не слишком-то жаловал эти ночные гулянья. Царившие вокруг шум и веселье лишь обостряли ощущение одиночества, его возвышенного и мучительного уединения. Но если его дверь была открыта, он любил выходить, и не только потому, что поступал так по своей собственной воле, – все равно ведь через некоторое время вернулся бы санитар и спустил бы его по лестнице к чертям собачьим. Нет, ему нравилось украдкой проскальзывать вниз, дабы глянуть, не отперта ли случайно парадная дверь. А если бы она оказалась отперта, уж тут-то он, наконец, ускользнул бы отсюда, сбежал бы прямо в ночь.
Люди неуклюже двигались мимо его двери к лестнице, шаркая ногами и испуская стоны. Он вышел и присоединился к идущим. Их голоса звучали тише, чем голоса оставшихся взаперти и рвавшихся наружу из своих обиталищ. Внизу у лестницы хлопали бутылочные пробки. Принесли скрипку в одеяле, развернули и всучили кому-то, кто умел играть. Лорд Байрон, сам неплохой скрипач, обиделся было, но вспомнил, что здесь свой талант следует держать в тайне, ведь ему куда больше нравится играть для цыган и для свободных людей.
Он бочком пробрался сквозь толпу к парадной двери. Заперто. Ощутив, как снаружи веет прохладой, он прижался к дереву. Из трещины в двери засквозило, и коснувшаяся глаза струйка воздуха заставила его моргнуть.
– А ну-ка, отойди отсюда, – кто-то грубо хлопнул его по спине. – Лучше пей, дружище! Давайте веселиться! Кому сегодня достались твои деньжата? – Он взял бутылку и сделал долгий глоток. Санитар дружелюбно потрепал его по шее. – Ну вот, другое дело! – И он отхлебнул еще.
– Фаты-друзья, – проговорил лорд Байрон.
– Что-что? – санитар повысил голос, перекрикивая вопли, визг и мольбы других пирующих.
– Фаты-друзья. Водились у меня такие в Лондоне. В дни торжества. Когда слава моя достигла зенита.
– И что?
– Отдаешь себя без остатка. Поешь им, поешь. Пишешь с душой нараспашку. А потом они отворачиваются, смеются над тобой, топчут твою душу сапогами, спеша навстречу новым увеселениям.
Санитар не ответил. Отвернувшись, он прокричал:
– А ну всыпь ему!
Байрон промокнул глаза и тоже обернулся посмотреть, что там за шум. Санитары растаскивали дерущихся, чтобы начать бой сначала. Растерянного, тяжело осевшего на пол рябого человека с окровавленным лицом вновь подняли на ноги. Один из санитаров шепнул ему что-то на ухо, и он вытер рукой маслянистую кровь и облизнул пальцы. Что бы ни сказал санитар, его слова явно возымели действие. Лицо безумца исполнилось горя и гнева, и он вновь бросился на противника. А скрипка пела, тянула свой тоненький одинокий напев среди ударов, свиста, сопения и визга. Двое мужчин любезничали друг с другом в тени: он видел их торчащие члены. Еще один резким вскриком привлек всеобщее внимание: у него начался припадок. Негнущиеся руки медленно завертелись прямо перед ним, глаза закатились, в горле заклокотало. Оказавшийся рядом санитар принялся вливать ему в глотку вино, не слишком справляясь с этой задачей.
Джон Байрон отвернулся. Так нельзя, он против подобных развлечений. Дравшиеся упали на землю, он услышал удар головы о доски пола, звонкий и резкий, словно каменотес ударил молотом о камень. Тотчас же раздался смех. Полнолуние, заметил он, отводя взгляд. Одно из маленьких высоких окошек было залито холодным белым светом. Знакомый врач говорил, что полная луна мучает безумцев. Они и в самом деле мучились. Джон передал бутылку дальше. И вино сегодня не живит. Он не почувствовал себя свободнее и даже не согрелся. Нет, он лишь погружался в свою печаль, все глубже и глубже.
В этакой суматохе вполне можно было ускользнуть, вернуться в комнату, отдохнуть, а то и посочинять. Он медленно отделился от ревущей толпы и тихонько поднялся по лестнице.
Миновав дверь, содрогавшуюся под ударами недовольного, оказавшегося в этот вечер под замком, и другую дверь, из-за которой раздавался слабый стон, он добрался до третьей, чуть приоткрытой, и сразу понял, что там дело неладно. Он не смог бы ответить, почему так решил, но эти сдавленные голоса… в общем, понял, и все. Едва заметно, одними кончиками пальцев, он приотворил дверь чуть больше. Ноги на полу, один засовывает, другой стоит в сторонке, лицо первого в тени, а у нее над головой лампа. Почувствовав, что он подошел к двери, она медленно обратила к нему лицо. Мария! Нет, нет, не Мария. Ее широко распахнутые глаза были темны и тихи. Они чуть подрагивали в такт с пыхтением пристроившегося на ней мужчины, но взгляд был столь глубок, что Байрон ощутил, как проваливается туда, словно пол в комнате опустился и превратился в колодец, со дна которого взирала эта женщина. Она глядела на него из глубины себя самой, моля о помощи. Глядела и шевелила губами. Гость, иди… нет. Господи… и что-то еще. Господи… и что-то еще. А ведь она похожа на Марию, пусть самую малость, но похожа. Байрон почувствовал, как лицо его сморщилось, и расплакался.
Стокдейл заметил, что она куда-то смотрит, и обернулся.
– Снова ты, – сказал он.
– Нет, нет, нет, – ответил Байрон. – Я ничего. Просто иду к себе в комнату.
Стокдейл встал с нее и пошел на Джона, не озаботившись даже тем, чтобы прикрыть свой склизкий и раздутый уд. Женщина за его спиной, прикрыв срам одной рукой, перекрестилась другой. Человек, стоявший в тени, наступил ей на грудь коленом.
– Я просто иду к себе.
– А ты у нас помешанный? – спросил Стокдейл, натянув наконец штаны. – Что ты себе понимаешь?
– Понимаю, когда в воздухе пахнет серой. И когда люди забывают всякий стыд.
– Вот какой ты, стало быть, помешанный.
– Понимаю, когда вершатся преступления. Ибо я, лорд Байрон, всегда выступал против рабства и насилия.
– Ты ничего не видел и ничего не запомнишь. – Стокдейл поднял правую руку и врезал кулаком прямо Джону в лицо. Тот увидел, как костяшки санитара резко увеличиваются в размерах, становятся огромными, словно бревна частокола, разделенные полосками теней, и наконец все это обрушилось ему прямо в глаз, и наступила слепота, которая все еще длилась, когда второй, невидимый удар настиг его, словно копье, и сразил наповал.
Они сидели у Ханны в комнате, и разговор их становился то светским, манерным и полным недоговоренностей, то девчоночьим, быстрым и изумленным. Впервые в жизни Ханна решила не рассказывать Аннабелле обо всем, подумав, что не стоит знакомить ее с Чарльзом Сеймуром. Его имя в разговоре не звучало, однако незримо присутствовало в паузах и умолчаниях. Ронсли был более удобным предметом для обсуждения. Они поносили его на два голоса.
Аннабелла расчесывала свои густые темные волосы Ханниными расческами с шероховатым, волнующим звуком. С распущенными волосами, ниспадающими на плечи, Аннабелла выглядела очень по-девичьи или даже по-русалочьи, но в выражении ее лица, бездумного в своей сосредоточенности, было что-то такое, что делало ее похожей на маленькую девочку или на зверька.
Ханна обнаружила, что вполне может говорить об Альфреде Теннисоне. Когда она произносила имя поэта, оно перекатывалось во рту, холодное и твердое, словно камешек. А еще недавно при одном лишь его упоминании у нее возникало острое желание немедля куда-нибудь сбежать.
– Да, кстати. Я его тут на днях видела, – сказала Аннабелла, глядя в потолок. Склонив набок голову, она собирала волосы в руку расческой.
– Неужели? – Ханну отчего-то покоробило, что она об этом не знала.
– Да, правда. Он, обернувшись в плащ, бродил в тумане, – нараспев произнесла Аннабелла. – Средь призрачных дерев.
В голосе ее явственно слышался оттенок презрения и насмешки, и Ханна даже рассердилась. Пусть ей не нравится Теннисон, но это же не повод над ним смеяться. А кроме того, отсюда следовало, что Альфред Теннисон недостаточно хорош для нее, Аннабеллы. Ему она показалась нимфой, дриадой. Да она всем кажется нимфой или дриадой. И потому может не спешить со своим выбором.
– Ты с ним говорила?
– Я сказала: «Добрый день», и он мне в ответ: «Добрый день». – Она попыталась изобразить его линкольнширский акцент, но безуспешно, и предприняла вторую попытку. – «Добрый день», и приподнял шляпу над спутанными волосами, и пошел дальше своей дорогой.
Ханну, к ее собственному удивлению, все это вдруг разозлило. Ей не по нраву пришлась мысль, что знакомые ей люди ходят где-то в мире совершенно независимо от нее, встречаются, ведут разговоры, которых она никогда не услышит, и даже о ней не вспоминают. Тем самым, по сути, убивая ее, превращая в призрак. Хоть она и отказалась от Теннисона, высокомерие Аннабеллы ей не понравилось. Но разве не такова истинная Аннабелла, прятавшаяся под маской красавицы?
– Может, ему просто было не до тебя, его занимали более важные мысли.
– Ну и что с того?
– Из того, что ты такая красотка, Аннабелла, вовсе не следует, что весь мир должен немедленно рухнуть на колени и начать тебя превозносить.
– Ну и что? – тупо повторила Аннабелла. Теперь на лице ее читалась оскорбленная невинность. Она покраснела так мило, как удавалось только ей: два красных пятнышка проступили над ямочками на щеках, не то, что эта ужасная краснота, которая, как Ханна уже успела почувствовать, вовсю расползалась у нее по шее.
– Да ты же можешь добиться расположения любого, кого только захочешь. Ты и сама знаешь, что красива. И тебе не надо волноваться, не надо притворяться: ах, что вы, я всего лишь простая, честная, приличная девушка.
– Зачем ты все это говоришь?
– Затем.
Ханна и сама толком не понимала зачем. Она даже не ожидала, что способна так разозлиться. Такая красота, как у Аннабеллы, – это просто нечестно! Красота притягивает окружающих к Аннабелле, открывает перед нею будущее безо всяких усилий с ее стороны, и Ханне надоело делать вид, что она ничего такого не замечает. Тем самым она словно бы потворствовала предательству со стороны Аннабеллы, зная, что та с легкостью, с уверенностью пренебрежет ею и обойдет, едва только захочет. А значит, тотчас же решила Ханна, не быть им друзьями, ведь они не ровня.
Передумать ей уже не дали. Раздался стук в дверь, и на пороге появился Фултон. Он с игривой галантностью поклонился Аннабелле и, ухмыльнувшись, сказал сестре: «К тебе там пришли».
– Но он и правда назвал меня нимфой! – крикнула вслед Ханне Аннабелла. – А тебя твой поэт так называл?
Спустившись вниз, Ханна увидела Томаса Ронсли. Снаружи ждали две лошади. Ханне было предложено прокатиться на серой, более покладистой. Пока девушка взбиралась на новенькое, блестящее, без единой трещинки кожаное седло с двумя луками, вкусно пахнувшее мастерской, Ронсли стоял у нее за спиной.
– И куда же мы поедем?
Он взглянул на нее испуганно и чуть ли не обиженно.
– Да так, куда глаза глядят. Прокатимся по лесу. Свежий воздух и все такое. Мне подумалось, вам должно понравиться.
День становился все интереснее. Вот так пыхтишь, и желаешь, и ждешь, и страдаешь – и ровным счетом ничего не выходит, а тут вдруг начинается жизнь, правда, совсем не та, какую она себе представляла. Сперва поспорила с Аннабеллой, потом от нее сбежала и теперь скачет верхом. Вновь и вновь мысленно возвращаясь к этому спору, она попеременно ощущала то сожаление, то решимость. Томас Ронсли ее почти не отвлекал. Хотя намерения его были отныне совершенно прозрачны и бесспорны, он почему-то не предпринимал никаких усилий, чтобы ей понравиться. Не пытался ее обворожить, не откровенничал. Не было в нем ни свободы и легкости Чарльза Сеймура, ни глубокой, насыщенной сдержанности Теннисона. Он был буквален, прямолинеен и неловок. А его ухаживание (ведь, судя по всему, это было именно оно) казалось угрюмым и слишком уж настойчивым. И со всей очевидностью мучило его самого. Ибо было всерьез. В отличие от поэта и от аристократа, он трудился. И благодаря этому обогатился, но богатство висело у него на шее, хрупкое и совершенно отдельное, словно венок из листьев. Да он и олицетворял собою труд. Даже в звучании его имени было что-то этакое. Ронсли. Ронсли. Ханне не нравился протяжный первый слог. Что же он ей напоминает? Ровный. Полнокровный. Кровь. Ну да, кровь и плоть. Иначе говоря, мясо. И вместе с тем он превосходно одевается, а его вещи – перчатки, даже вот эти лошади – отличаются первозданной чистотой. Было небезынтересно, по крайней мере теоретически, представлять себе, что его жена будет точно так же экипирована, со всех сторон окутана богатством, что и к ней перейдут этот глянец, эта уверенность в собственном будущем и всеобщее признание.
В лесу становилось все темнее. Зима была уже не за горами. На черных опавших листьях, прибитых к земле проливными дождями, тут и там серебрился иней. Стволы деревьев потемнели от сырости. Вот сбоку мелькнули крючковатые, шумные и блестящие листья падуба. Ну и погода, просто засыпаешь на ходу. Вожжи поскрипывали, а когда лошади выдыхали клубы пара, во рту у них что-то позвякивало. Когда лошадь Ронсли извергла из себя кучку навоза, Ханна даже пожалела своего кавалера. Он явно смутился: уставился с одеревеневшей шеей в одну точку, будто бы сам оконфузился.
Безмолвие умиротворяло. До чего же приятно не разговаривать. Некоторое время спустя Ронсли произнес:
– Вы позволите кое-что вам показать?
– Разумеется. Очень интересно, – вежливо ответила она.
Они потрусили по тихим тропам, пока Томас Ронсли не отдал приказ остановиться. Он обернулся к ней с горящими глазами и прижал к губам палец. Хитроумная механика за сценой дня продолжала вершить свою работу, и теперь Ханну ждало новое, совершенно особое откровение. То, на что Ронсли указывал ей сквозь деревья и что явно вызывало у него восхищение, оказалось цыганским табором. Шипящий костер на сырых дровах, собаки, лошади и кибитки, свободная и преступная жизнь, от которой ей всегда наказывали держаться подальше. Им ничего не стоило украсть у нее что-нибудь. А то и ее самое. Наблюдая за ними с безопасного расстояния, чувствуя рядом надежное плечо Ронсли, она исполнилась дивного животворящего страха и удовольствия. И улыбнулась Ронсли, а он улыбнулся в ответ. Они поглядели еще немного, не спешиваясь, и тихо поскакали прочь.








