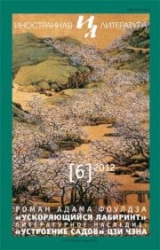
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Весна
Утро. Дверь открыта. Выходишь на свет, в распахнутый мир осторожно, шаг за шагом, словно стараясь не упасть. Вдыхаешь самую малость безбрежного воздуха. Листья на деревьях, зеленая поросль в огороде, где тихо трудятся люди. Никто не нападает, не набрасывается. Цветы и облака. Какой тихий день.
Прощение. Вот каким оно стало для нее, прощение: вернуться в мир, выбраться на свободу в целости и сохранности. Вся исполненная безмолвной благодарности, она стояла и то закрывала глаза от ветра, то вновь открывала, чтобы узреть Творение, увидеть, как в малейших проявлениях жизни играет душа младенца Христа.
Она увидела младшую дочь доктора и окликнула девчушку. Та вздрогнула и от испуга сцепила пальцы рук. Должно быть, бедняжка боится ее с тех самых пор, когда она, исполняя повеление ангела, неистовствовала, не зная покоя. Она вновь окликнула девочку и улыбнулась, и на этот раз малышка к ней подошла.
– Добрый день, Абигайль! Как поживаешь?
– Добрый день.
Абигайль ни секунды не могла устоять на месте, она ерзала, подносила руки к лицу, крутила головой по сторонам. Маргарет почувствовала, что стоит вглядеться – и она увидит огромную, чистую душу девочки, слишком большую для такого маленького тела.
– Рада вновь тебя повстречать.
– Тебе лучше?
– Бог бережет, Абигайль. Бог бережет. Передай своему отцу, что я его прощаю. Милосердие Господне столь велико, – засмеялась она, поднимая вверх руки, – что просто диву даешься.
– Не плачь.
– Я не плачу. Разве я плачу? Больше не буду.
– Хорошо, – Абигайль ухватилась за ее исхудавшую руку своей маленькой теплой ладошкой. – А ты будешь снова вышивать?
Мэтью Аллен пытался отцепить ее пальцы от своей руки, но чем больше тянул, тем сильнее она вцеплялась в его рукав. Вот ведь всегда накануне грозы у них обострение, из-за этого постоянного гула, из-за ветра, что бьется в окна и крутит по лесам, и деревья вспыхивают в потустороннем свете. А она все спрашивала: «Это правда? Вы меня не выгоните, нет?»
– Нет. Что вы.
– Правда?
В глазах у нее стояли слезы. Он наконец отцепил ее пальцы и сразу же ощутил, что его тянет за плечо еще одна рука. Так он и сражался из последних сил с этими руками, чувствуя, что вот-вот развалится на две половины, словно переполненный одеждой чемодан. Дернувшись, как попавшийся в ловушку зверь, он обернулся. И увидел Джона.
– В чем дело?
– Я должен с вами поговорить!
– Должны? Прямо сейчас?
– Да.
– Тогда отпустите меня.
– Вы ведь меня не выгоните? – повторила женщина.
– Нет, не выгоним, – чуть ли не прокричал Мэтью, стряхивая ее руку с запястья. – Пойдемте ко мне в кабинет. Мне нужно… мне бы хотелось… Да пойдемте уже в конце концов – и он вытер лоб тыльной стороной ладони.
Джон шел вслед за доктором и разглядывал его шею. Вот она вырастает, хрупкая и тонкая, из жесткого воротничка. А посреди борозда. Искорки светлых волос. А какая в ней сила, какая стойкость.
Мэтью Аллен отпер дверь и провел Джона в скрытый от чужих глаз красный полумрак, где царили бумаги и книги. Под пристальным взглядом Джона доктор раздвинул шторы и тяжело опустился в кресло.
– Итак, в чем дело?
Доктор потер лоб кончиками пальцев, проверил, остался ли на них пот, и вытер руку о штаны.
– Меня привела сюда воля к свободе, – начал Джон, выпрямляясь в полный рост и выходя на середину ковра. – Я должен… вы должны… вы должны снова разрешить мне выходить за пределы этого места.
– Джон, вы понимаете…
– Для вас – лорд Рэдсток.
– Что, простите?
Джон заметил, что доктор записывает его ответ с утомленным и беспомощным видом, и понял, что надо брать быка за рога.
– Вот, стало быть, где мы теперь, – бормотал доктор. – Вот где мы теперь.
– И где же мы? Я тут. И я тут задыхаюсь. Мне нужна свобода. Я требую свободы.
– Не кричите. Нет нужды.
– Есть нужда! Вот глядите. Я собирался ничего вам об этом не рассказывать, но коли так, то я скажу. Пока вы тут, как бес в бутылке, никуда носа не кажете, у вас такие дела творятся! Женщин насилуют…
– Я же сказал, нет нужды кричать, – Мэтью резко вскочил с кресла. – Здесь… – Он закашлялся и не мог остановиться. Джон с нетерпением ждал, но приступ и не думал заканчиваться. Под глазами у доктора набухли мешки, побагровевшие губы окропила слюна. Он поднял руку, показывая, что кашель скоро пройдет. Наконец, после нескольких взрывов кашля, доктору стало лучше. Он застонал и осторожно вдохнул.
– Да вы больны.
Аллен засмеялся.
– Боюсь, вы правы. – Ему показалось, что его голос еле звучит. Как будто уши заложило.
– И устали.
– О да. И устал.
– Ну, так отдохните. Прилягте на кушетку.
– Да-да. Пожалуй.
Мэтью согласился. А почему бы и нет? Все к нему пристают, требуют, чтобы он принимал решения. Пусть сами решают. Пока он с кряхтением опускался на подушки, его неожиданный посетитель стоял над ним. Сняв покрывало со спинки кушетки, Джон прикрыл им доктора. Мэтью Аллен, глядя в спокойное толстое лицо сломленного поэта, пока тот подтыкал сбоку одеяло, уютно укутывая своего подопечного, вспомнил, что бедняга – тоже отец, как и он. Должно быть, когда его дети болели, он ухаживал за ними с той же немного отвлеченной, дельной заботой во взоре. Доктор на миг почувствовал себя беспомощным и чуть не расплакался. Короткие немытые руки Джона довершили начатое, и он вновь распрямился.
– Благодарю, – сказал Аллен. Он лежал, измученный, не справляясь со своей собственной жизнью, погребенный под нею, и у него не было сил продолжать. – Благодарю вас.
– А теперь вернемся к вопросу о моей свободе.
Джон обратил лицо к солнцу. Ветви деревьев расщепляли солнечный свет на множество лучей, один из которых, неуловимый и теплый, словно детский поцелуй, играл у него на лбу и в уголке глаза. Джон, прищурившись, глянул вдоль луча, словно плотник, оценивающий, ровная ли ему попалась доска. Какой он мохнатый: пылинки, цветочная пыльца. А вот и пара трепещущих прозрачных крылышек.
Он шагал, и под ногами похрустывали сухие веточки, усыпавшие землю во время грозы. Между дубами тут и там подрагивали пролески. Над головой всхлипывали птицы. Соприкосновение с миром. Как же хорошо. Но Джон рвался сквозь мир, к дому. Весь мир – дорога, пока не окажешься дома.
Он вышел из лесу у бакхерстхиллской церкви. У нее, словно у человека или у дома, было свое лицо со своим вполне определенным выражением. Пройдя сквозь каменные ворота, он увидел ровные ряды могил, над которыми сгустилось безмолвие смерти. Тис с длинными, неторопливыми иглами отбрасывал густую тень.
В церкви он обнаружил знакомое сдержанное эхо, темные скамьи, застывшие фигуры святых на пестрых, словно полевые цветы, окнах и одиноко сидящую женщину. Он миновал ее, когда шел по проходу между скамьями, чтобы перекреститься перед алтарем. Мария! Нет, не Мария. Тоже из больных. Женщина, которую он… спас от Стокдейла. Она глядела на крест и улыбалась, а глаза ее застили слезы. На него она даже не взглянула. А ведь он посмел. Он ее спас. Поднимающийся ветер гудел в стеклах, и застывшие на них святые содрогались под его ударами. Джон выбрался наружу.
На церковном дворе он увидел присевшего отдохнуть мальчика лет девяти, одетого по-деревенски в холщовую рубаху. Мальчик не улыбнулся, никак не поприветствовал Джона. Вид у него был сосредоточенный и усталый, как у любого работяги. Джону пришло в голову, что он похож на его собственных сыновей в этом возрасте: то же плотное телосложение, те же тяжелые черты лица, чистая кожа и длинные ресницы.
– Я совсем без денег, – сказал Джон. Мальчик наконец поднял на него глаза, но не ответил. Ветерок взъерошил длинные волосы у него на лбу, и он прищурился, что можно было счесть за ответ. – А то бы я дал тебе полпенни.
Поизучав его некоторое время, мальчик, в знак благодарности за саму эту мысль, поднял ладошку и вновь сложил руки.
Джон побрел обратно в лес, навстречу пряному весеннему запаху и кружащемуся свету. На глаза ему попалось завалившееся набок дерево с ободранной добела корой, призрачно мерцавшее среди остальных деревьев. Удивительно, что оно упало в это время года, когда по древесным стволам поднимается сок, делая их сильными, упрямыми и стойкими. Должно быть, оно было больное. А кору содрали дубильщики. Джон пожалел дерево, представив вдруг, что это он лежит на земле беззащитный, и его волокна сжимаются на ветру. И поспешил дальше.
Они ушли. Он потратил немало времени на поиски, а когда наконец нашел, его одолели жажда и усталость. Их стало меньше, и лошадей меньше, и только две кибитки. Но старуха, Юдифь, вновь сидела у костра, глядя в огонь, отблески которого плясали на ее застывшем, словно маска, лице. Когда Джон подошел, она вздрогнула и, подняв плечи, попыталась встать. «Нет-нет, – сказал он. – Юдифь, это я».
Она взглянула на него искоса, но узнав, успокоилась.
– Снова пришел, Джон Клэр. Садись. Как твои дела?
– Хорошо, – сказал он. Но сказал неправду. Все тепло этого дня оставило его в мгновенье ока. День на день не походит. Всякий день уходит. Вот и жизнь его подходит к концу.
Скалы из пятнистого камня тянулись по обе стороны железной дороги, пока поезд пробирался сквозь трущобы. Отбросы в сточных канавах, бегающие дети, изношенная одежда колышется на ветру, убогая, нищенская жизнь кипит за окнами. Мир пришел в упадок. Доктор Аллен знал, что смог бы сделать многое, лишь бы ему дали шанс, лишь бы к нему прислушались, отнеслись с уважением, наконец, попросили бы. Но нет. Его вообще перестанут о чем бы то ни было просить, когда он обанкротится и, продав сумасшедший дом, будет гнить в тюрьме.
За городом стало легче: недвижные стада, влажные тропинки, телеги, облака. Раньше Мэтью любил путешествовать на поезде, триумфально нестись на огромной скорости сквозь убегающий вдаль мир, мимо таращившихся вслед поезду батраков, но сегодня на душе у него было безрадостно, ведь он мчался навстречу Освальду, навстречу унижению.
Если Освальд согласится дать ему в долг, все будет хорошо. Сейчас машина работает приблизительно так, как и должна. Вопрос только в сроках: его вдохновение, равно как и все его предприятие, вполне надежно. И более того, блистательно. Мэтью Аллен знал, что он блистателен. Знал и его брат.
Мэтью окинул взором деревянную обшивку вагона. Как заключаются этакие контракты? Кто на них наживается? Ему тоже стоило бы связаться с какой-нибудь из железнодорожных компаний. Только подумать: билетные кассы, залы ожидания, уборные… Да на железной дороге полно мест, где его резьба по дереву пришлась бы как нельзя кстати. Надо будет сказать об этом Освальду. Освальд – дурак. Мог бы обогатиться, признай он блистательность своего младшего брата.
– Не будете ли вы столь любезны убрать ногу?
Сидевшую напротив леди, читавшую какую-то ерунду, вывела из себя ерзающая нога доктора Аллена.
– Примите мои извинения. – Будь его воля, уж он бы ей прописал пару дней в темной комнате, ледяные ванны и клизму. Чертова шлюха!
В аптеку к брату он явится без предупреждения – так же как брат явился в Хай-Бич. Пошли он письмо заранее, Освальд наверняка ответил бы, что его приезд не имеет смысла, а так можно будет воспользоваться всеми преимуществами личного обращения за помощью.
К тому времени, когда поезд вполз наконец в Йорк, Мэтью устал от постоянных перемен настроения, от этих неизбывных метаний между ликованием и яростью. При виде Йорка ему стало дурно, ведь в этом городе он ничего путного не добился, не завоевал доброго имени, попал за решетку, и наверняка тут найдутся люди, которые до сих пор его помнят.
Он пригладил бороду, расправил одежду, схватил свой кожаный портфель и, набравшись решимости, помчался по улочкам. Несясь к месту назначения, он вновь и вновь повторял, о чем обязательно нужно сказать, в очередной раз поражаясь своей деловой интуиции, своему хрупкому, но, пожалуй, вполне возможному успеху.
Неужели это… Нет. Он промчался мимо человека, смутно показавшегося ему знакомым, и свернул в переулок, где располагалась Освальдова аптека. Вот среди бликов на стекле, за рядами пронумерованных склянок с пастилками и бутылочек с бесполезными микстурами Освальда, порочащими славное имя Алленов, мелькнула лысина брата. Мэтью вытер ладони о брюки, дернул за дверную ручку и вошел в аптеку под истерический звон колокольчика.
Освальд поднял взгляд и, наблюдая, как Мэтью пытается улыбнуться, глядя прямо ему в глаза, прочел в его братолюбивой, сердечной, свойской манере истинную цель его приезда. Он отвернулся и, поправляя склянки на прилавке, чтобы они стояли этикетками наружу, произнес:
– Мой знаменитый, почтенный брат… Но я не готов заклать упитанного тельца в честь твоего возвращения…
– Освальд!
– Я же не так давно тебя предупреждал.
– Прошу тебя, погоди.
– Ничем не могу тебе помочь.
– Нет, нет. На самом деле, я приехал с хорошими новостями…
– Ничем…
Мэтью стукнул кулаком по прилавку. Испугавшись шума, который он сам же и устроил, он уставился на свои начищенные до блеска ботинки.
– Но я проделал долгий путь…
– Ничем не могу тебе помочь.
– Ты упекаешь меня в тюрьму.
– Никуда я тебя не упекаю. Я просто ничем не могу тебе помочь.
Мэтью откинулся в кресле, раскрыв свой гроссбух, заполненный мнимыми числами. Его невидящий взор задержался на оррерии, стоявшем у окна. Нахлынуло чувство унижения, грязное и теплое, словно вода в ванне, в которую только что помочились. Но очертания оррерия, медленно проступавшие у него перед глазами, настроили его на философский лад. Эти маленькие шарики на концах осей, подвешенные в бескрайнем пространстве, в абсолютном безмолвии, и жизнь, насколько известно, есть лишь на одном из этих шариков, да и та не более чем пыль, налипшая на его поверхность, а главное – зачем? Он погрузился в глубокое, тихое уныние, задумался о том, как всю свою недолгую жизнь человек вертится, как неистовствует, прежде чем войти в это безмолвие, и на его губах появилась печальная улыбка. Ясно было, что уже совсем скоро его поглотит хаос, что наказание неминуемо, а потому он испытывал особое тихое удовольствие, сидя в одиночестве в своем кабинете: чернила в книге расходов еще не просохли, письмо засунуто обратно в конверт, надеяться больше не на что. И когда дверь кабинета распахнулась, Мэтью Аллен тотчас же вскочил.
– Как это понимать, я вас спрашиваю? – прокричал Альфред Теннисон. – Как это понимать?
– Вот уж не знаю, – ответил Мэтью Аллен. – Боюсь, вам придется объяснить мне, о чем речь.
– Объясню, не беспокойтесь! – Теннисон стоял, выпятив подбородок, склонив набок голову, запустив обе пятерни в шевелюру, и горящим взором глядел на доктора сверху вниз. Он еле сдерживался, гнев выбил его из колеи, нарушив обычный покой и наделив непривычной быстротой и свирепостью. Поэтому он заговорил со всей возможной внятностью, не переставая цепляться за волосы, чтобы не вспылить. – Я только что говорил с братом. И он сообщил мне с некоторой неохотой, за которой читался страх перед ненужными страданиями и беспокойством, что некоторое время тому назад вы просили у него денег, хотя мы вам с самого начала ясно дали понять, что Септимус не будет вкладывать деньги в ваш проект.
– Верно. Я действительно предлагал ему вложить некоторую сумму в наш проект в свете грядущего…
– Потому что вы на мели. Потому что ваша дурацкая машина так и не начала делать деньги. А я тем временем получаю письма от остальных членов семьи, где они тревожатся о процентах, которые вы давным-давно обещали выплатить. Между тем от вас не приходит ровным счетом ничего.
– Прошу вас, успокойтесь. Позвольте, я покажу вам счета. – Наконец-то настал их час, не зря он корпел над ними столько времени. Аллен взял в руки книгу расходов и шагнул навстречу разгневанному поэту. Тот схватил его за плечо и оттолкнул.
– Хватит болтать, этакого и черномазый бы не стерпел! Не хочу я смотреть на вашу цифирь. Нет уж, я хочу, чтобы были выплачены первые проценты. Я вам доверился. А вы нагрели мою семью на восемь тысяч фунтов и теперь клянчите у Септимуса еще тысячу. – Теннисон был очень силен. Аллен, ослабленный болезнью, мешком болтался у него на руке, а над ним, словно коршун, нависало большое, грязное, большеротое лицо. Страх сжал гениталии, что было даже по-своему приятно. Хотелось, чтобы этот взрыв гнева подмял его под себя, очистил, разрушил. – Мой отец умер, – продолжал Теннисон. – Деньги, которые мы вложили в вашу машину, были нашим наследством. А теперь, похоже, мы его теряем. Вы не первый месяц втираете нам очки и кормите обещаниями.
– Деньги семьи. Той самой семьи, которой вы тяготитесь. Нет бы спасибо сказали.
– Не ваше дело!
– Вы не только вернете свой капитал, но и приумножите его. Все что нужно – это немного времени.
– Я думал, вы человек незаурядный, на голову выше людского стада. Я вам доверился. Но нет, вы такой же баран, как и все. Грязный, жадный и ни на что не способный.
– Неправда. Отпустите меня.
– Жалкий торгаш. Ничтожество. Жулик. – Поэт встряхнул его обеими руками. Аллен прижал к груди книгу расходов, его веки подрагивали от дыхания великана Теннисона. – Я не позволю вам погубить меня, Мэтью Аллен! Я заставлю вас выплатить мне долги. И всей моей семье! Зачем, зачем вы так с нами обошлись?
– Да нет же. Все будет в порядке. Я ваш друг. Послушайте, у меня есть идея: я застрахую свою жизнь в вашу пользу. Это абсолютная гарантия.
– Чего?
– Что вы получите обратно свои деньги.
– Но для этого нужно, чтобы вы умерли?
Крузо принялся обдумывать свое бедственное положение и обстоятельства, в которых он оказался, попав на этот остров. Для ясности он противопоставил хорошее худому, словно дебет и кредит, уподобив тем самым бухгалтерской книге свой блокнот, страницы которого сморщились от морской воды.
Худо: я не могу защитить себя, если на меня нападут умалишенные, разумные люди или дикие звери.
Хорошо: я стойкий и прославленный боец и готов постоять за себя кулаками.
Худо: с тех пор как мой корабль потерпел крушение, я лишен любви своих жен, удовлетворения мужских потребностей и улыбок детей.
Хорошо: еды хватает. Добывать пропитание не нужно.
Худо: я один-одинешенек.
Худо: я не там, где должен быть, не дома.
Худо: меня мучают воспоминания, фантазии и приступы бесчувствия.
Худо: моих стихов давно никто не читает и не знает.
Хорошо: природа для меня мать родная, и здесь она со мною, как и везде, только лик ее странен, ибо очень уж не похож на те края, которые я люблю.
Худо: я хочу Марию.
Худо: я могу тут умереть, и хочу Марию, и даже немного жалею, что не погиб во время шторма.
Воск и лаванда. Запах дома – вот что подействовало на Ханну сильнее всего. Скатерти, обивка – все благоухало травами, а полированное дерево испускало едва заметный умиротворяющий аромат. В прихожей гиацинт в горшке разливал вокруг себя душистый запах, который так и хотелось сравнить со светом яркой лампы. Быть может, дом был и мал, но ладен, чист и тих. Везде были постелены новые ковры, по темно-красному полю вился затейливый узор, а ворс поднимался над полом по меньшей мере на дюйм. Они сидели за чаем, и солнечный свет падал на них сквозь окно с эркером, золотя чашки.
Тому, что из Доры получится отменная жена, удивляться не приходилось, но уют Ханну приятно удивил. Она и представить себе не могла, насколько ей здесь понравится. Джеймс со всей очевидностью гордился респектабельным очарованием своего семейного очага и сам себе улыбался, когда его гости в очередной раз выказывали восхищение. Дора чувствовала себя не столь непринужденно. Она не сводила глаз с брата и сестры и неусыпно следила за соблюдением приличий. Когда Фултон доел свой кусок пирога и откинулся в кресле, вытирая рот салфеткой и шумно вдыхая через нос, она взглянула на него со значением. Глядя, как Дора безмолвно осуждает и порицает Фултона, Ханна исполнилась злорадства и решила подразнить сестру.
– Надеюсь, это твой лучший сервиз. Помнится, на свадьбу вам их подарили два.
– Ну, разумеется.
Ханна ощутила, как ее шея, а следом и лицо, покрываются красными пятнами. Ей вдруг стало стыдно. И резкость, прозвучавшая в ответе Доры, была более чем к месту. Потешаться тут совершенно не над чем. Зато успехи Доры заслуживают уважения. Доре всегда хотелось покоя и благопристойности – и вот они тут как тут. Дора не спрашивала, что творится дома, потому что ей до этого не было дела. Все эти разговоры об описи и продаже имущества были ей отвратительны. Она даже не интересовалась здоровьем отца, памятуя о том, что его подкосило. Она считала, что ей ни к чему об этом знать. Они с Джеймсом – новое поколение, у них свой дом, где они защищены от причуд ее родителей и больше никогда в жизни не встретят ни одного сумасшедшего.
Фултон вежливо поинтересовался у Джеймса, как идут дела в банке.
– Какое чудесное окно, – сказала Доре Ханна.
– Да, – ответила Дора, – весь полуденный свет наш.
Любить жизнь, которая осуществима, – в этом есть своя свобода. Возможно, только в этом она и есть. Подобный дом был вполне осуществим. Ханна вполне могла полюбить такую жизнь, ее надежность, покой собственных детей. Чарльз Сеймур уже после того, как сбежал, прислал ей письмо, где благодарил за их разговор во время сбора ягод. Ведь это она напомнила ему, что следует быть мужественным. Наставила на путь истинный. Он так ничего и не понял. И удрал. Прочтя письмо, она сразу же его сожгла и потом плакала в одиночестве.
Отрезав вилкой треугольничек пирога, она отправила его в рот.
Абигайль подросла. Она точно знала, ведь теперь, когда она взбегала по лестнице, ее глаза были вровень с круто взмывавшими вверх перилами. А еще она теперь дотягивалась до кое-каких полок в кладовой, и кухарке даже пришлось переставить повыше изюм. Кроме того, за столом ей стало видно не только столешницу, но и лица родителей – напряженные, озабоченные, с безжизненными, невидящими глазами.
Она подбежала к отцу и положила руку ему на колено. Он взглянул на нее мутными кроличьими глазами и сказал: «Не сейчас, дочка». Абигайль склонила головку, чуть откинулась и игриво взглянула на него из-под бровей. Это был верный способ умаслить родителей, да и вообще кого угодно, и вызвать у взрослых улыбку. Но сейчас у нее ничего не вышло. Тогда она пододвинулась поближе, чтобы ухватить его за ухо, но он сердито встряхнул головой, словно норовистый жеребец: «Дочка, не приставай».
Когда в комнату вошла мать, отец совсем утонул в кресле и кашлянул. Абигайль ясно видела, да и трудно было не заметить, что он изображает, будто болен сильнее, чем на самом деле, лишь бы добиться участия матери. И в самом деле, Элиза остановилась около него и погладила по широченной куртке, закрывавшей его спину. Он снова кашлянул. Абигайль тоже готова была выказать ему участие, но чувствовала, что сейчас она ему не нужна. Ему нужна была мамочка. Вид у Элизы тоже был не слишком радостный, и Абигайль, обогнув отца, подошла к ней и ласково прижалась к юбке. Ее нежность была вознаграждена: мать опустила руку ей на плечо. Абигайль всегда старалась утешить ближнего, сделать окружающих хоть немного счастливее, чему и посвятила всю свою оставшуюся жизнь. Она преданно жила при матери еще долго после болезни отца, которая, пусть он поначалу и преувеличивал ее тяжесть, все-таки имела место и вскоре свела его в могилу. Потом место матери занял муж, который никогда не был с ней добр и ласков настолько, насколько мог бы, потому что у него просто не было в этом нужды.
– Боюсь, больше нам отдать нечего, – сказала мать отцу.
Отец кашлянул с крепко сжатыми губами, потом сказал:
– Они оставят нас без гроша. Долгие годы работы, все до последней спички – все достанется этим Теннисонам.
Вошел Фултон и с неприкрытым отвращением уставился на повернувшиеся ему навстречу унылые лица родителей. Ничего не сказав, он вышел и хлопнул дверью.
Зашелестели листья, повеяло выпивкой. Кто-то от нечего делать тискал в руках гармонику, нет бы сыграл, а то лишь извлекал из нее время от времени отдельные тихие звуки. На костре пузырилась похлебка из заячьего мяса. А напротив девушки проворно вырезали короткими ножами прищепки на продажу, словно яблоки чистили.
Юдифь рассказывала ему о двоих недостающих.
– Назвал нас гнусным племенем и что гнать нас надо изо всякого ци-ви-ли-зованного государства. Его это слова, так он мне и сказал. И что стереть нас надо с лица земли. Стереть, да.
– А сам священник.
– Христианин.
– Ну, или прикидывается, – сказал Джон.
– Вот-вот. Прикидывается. Еще месяц-другой назад это была общая земля, и что бы она ни родила, что бы ни вскормила, – все было общее, как воздух божий. А теперь тут эта железная дорога, а парней наших в тюрьму. И ведь никак не узнаешь, вот разве из табличек, а они читать-то не умеют, неграмотные. А детки без отцов остались.
– И когда их выпустят?
Она покачала головой, как если бы никогда, потом сказала:
– Через год или два. А может, раньше, так я думаю.
– И вы теперь отсюда уходите.
– Мы лес любим, в лесу еды много. Но нас стали слишком уж часто тревожить по ночам, в кибитки лезут, а собаки наши с ума сходят. Поедем пока в Кент на ярмарку. Нам и самим туда охота, по правде сказать. Там все наши собираются.
– Развлекаться, стало быть, на ярмарку.
– Ну не я, – ответила Юдифь. – Ежели я чего и могу, то только болтать. Ну, может, погадать кому. В былые времена я могла подняться в четыре утра, и прыгать, и скакать, и что хочешь делать. А теперь уже ни на что не гожусь. Вон она там весело проведет времечко, – и Юдифь указала трубкой на одну из девушек, вырезающих прищепки. – Встретится со своим любезным дружком. Вон, руки от страсти дрожат. Вишь, что вытворяет.
Если до девушки что-то и донеслось, то она сделала вид, что ничего не слышала, и зашептала что-то через плечо своей соседке слева.
– И он туда приедет, да? – спросил Джон, ни с того ни с сего ощутив внезапный укол ревности.
– Приедет, а как же. Они лет с девяти не видались, тогда и обещались друг другу, и с тех пор как хотят зазнобе-то своей весточку послать, так люди и передают из уст в уста, ежели кто куда едет. Но в Кент его люди приедут тогда же, когда и мы.
– Понятно, – Джон отхлебнул еще вина. – Сейчас вернусь, – сказал он и поднялся на ноги.
Мягкий свет, пробивающийся сквозь листья. Джон расстегнул штаны и, придерживая правой рукой живот, пустил струю меж уходящих вглубь толстых корней граба. Он думал о девушке, о ее любви, о том, как влюбленные идут по жизни порознь и как жизнь теперь воссоединит их, как они наконец сольются в единое целое. Что за волнение, должно быть, кипит у нее в груди! Подлинная страсть. Вот и у Джона тоже. Тут и одиночество, и скитания, и тоска по дому, по Марии. Как ей удалось сохранить верность и преданность, когда весь мир сбился с пути истинного? Он почувствовал, что ноги промокли, и увидел вокруг башмаков натекшую с корней лужицу. Придет же в голову мочиться в горку! Вот так всегда и бывает, когда живешь в четырех стенах и мочишься исключительно в ночной горшок. Он вытер носки башмаков о землю.
Продираясь обратно сквозь ветви деревьев, он прокричал:
– А как отсюда выбраться? Расскажите. Как выбраться из леса?
– Выбраться? Куда?
– На север. В Нортгемптон.
– На север ведет Энфилдская дорога.
– И как ее найти?
– Если хочешь, мы оставим тебе знаки, когда будем уходить. Узелки на ветках. Они тебе подскажут дорогу.
– Правда оставите?
– Если хочешь.
– Хочу. Только, чур, это между нами.
– Между нами? Да у нас тут все между нами. Мы попусту не болтаем.
– А я их точно увижу?
– Увидишь, не беспокойся.
– Полагаю, у вас есть все шансы.
– Полагаете?
– Ну, – Томас Ронсли заерзал в кресле, – ваш муж взялся осваивать рынок, пока никем не занятый.
– А значит, он не может знать наверняка, – сказал Фултон и пристально посмотрел в обеспокоенные глаза матери.
– Да, он не может знать наверняка. Никто из нас не может. Но это не означает, что…
– А скажите, если бы это была ваша компания, вы стали бы действовать так же?
– Фултон, прекрати допрашивать нашего гостя!
– И все-таки?
– Я… – Ронсли поднял руки и оглянулся на молчавшую Ханну. – Ну, в общем, да, полагаю, что так же.
– Так почему же вы преуспеваете, а мы…
– Фултон!
– Ваш отец – в высшей степени неординарный человек, тут у меня нет никаких сомнений.
На самом деле его сомнениями был пропитан весь воздух в доме. Фултон задумался, уставившись в ковер.
– Однако я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать доктора Аллена.
– В самом деле? – полюбопытствовала Элиза.
– Да. Я хотел бы, если можно, поговорить с Ханной.
– Вот оно что.
Ханна почувствовала, что все смотрят на нее, и мучительно покраснела. Ну зачем же всем об этом сообщать и выставлять ее на посмешище? Мать и брат поднялись, чтобы оставить их наедине, словно ее пришел осмотреть врач.
– Что ж, тогда мы не будем вам мешать, – сказала Элиза.
Ханна подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Ну конечно, мать снова зажала между зубами кончик языка – что за дурацкая привычка! Ханна поскорее опустила глаза, сжала зубы и почувствовала, как губы вытягиваются в тоненькую ниточку.
Дверь закрылась. В комнате воцарилась тишина. Они остались вдвоем.
– Вот, стало быть, – начал Ронсли и умолк. Он многозначительно положил руку на стол, будто бы вновь намереваясь заговорить, но так и не собрался. Вместо этого он забарабанил пальцами по столу.
Почему он решился заговорить об этом сейчас? Почему не в другой раз, почему не тогда, когда он лучился жизнелюбием и обаянием? А ведь она видела его и таким. Но нет, он смотрел хоть и в сторону Ханны, но мимо нее, и барабанил пальцами по столу. Наконец он выдавил:
– А может, пройдемся? В саду должно быть хорошо, вам не кажется?
– Пожалуй.
В итоге они тоже ушли, и в комнате никого не осталось. Эта опустевшая комната внезапно вызвала у Ханны чувство неловкости, хотя она и не взялась бы ответить почему. Когда они вышли в прихожую, Ханне первым делом подумалось, как тихо, безлюдно и покойно стало теперь в комнате.
Томас Ронсли помог ей надеть пальто и подождал, пока она застегнет перчатки.
Ветер был холодный, но не слишком сильный. На половине деревьев проклюнулись маленькие листочки, по небу плыли облака. Самый обычный день. Ничто не предвещало того, что сегодня произойдет нечто особенное.
Ронсли, сцепив руки за спиной, вышел из дома. Отойдя на некоторое расстояние, откуда, должно быть, открывался милый его сердцу вид на аллею и лес, он остановился.
– Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна.
– Ну конечно, – парировала она. – Цветы. Визиты.
Он помотал головой, что-то бормоча себе под нос, словно ему помешали. И начал заново.
– Вы знаете, что я преклоняюсь перед вами, Ханна. – Ханна могла себе представить, сколько раз он прокрутил все это в уме, сколько раз продумал, где именно они остановятся, что именно он скажет, и эти его серьезность и безрадостность были лишь показателем того, сколь сильно он желал, чтобы все вышло как положено. И, разумеется, в ее власти было, подчинившись его мечтам, сделать так, чтобы все выдуманное им стало явью. Она, развеявшая по ветру так много собственных фантазий, могла даровать ему это чудо, и ей страстно захотелось именно так и поступить.








